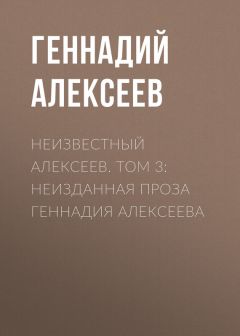
Автор книги: Геннадий Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Саша пишет новый роман – каждый день четыре страницы.
Ах, Моцарт, мне бы твою безмятежность!
31.3
Большое зеркало в фойе Театра комедии. Я отражаюсь в нем целиком, во весь рост.
Предо мною грузноватый, не первой молодости субъект с усталым и слегка надменным лицом.
Кто он? Актер? Математик? Инженер-радиотехник? Профессиональный фотограф? Спортивный тренер? И отчего он один пришел в театр? Где его жена? Куда подевалась его возлюбленная?
Звучит третий звонок, и я направляюсь в зал, искать свое место.
На сцене советская пьеса, так себе пьеса, хотя и не без претензии на глубокомыслие. Поставлена она так себе, хотя и не без претензии на изысканность. Актеры тоже играют так себе, хотя упрекнуть их вроде бы и не в чем. И публика хлопает не слишком усердно, так себе хлопает. Режиссер – мой приятель. Когда-то он ходил в модернистах, за что его не единожды наказывали. Теперь он угомонился и стал почти реалистом. Спектакль сделан вполне профессионально, добротно, со вкусом. Ругать его не будут, но и спорить о нем тоже не станут.
В антракте зрители стремглав бросились в буфет – «давали» шоколадные конфеты в коробках. Конфеты довольно дорогие, но их мгновенно расхватали.
Возвращаясь домой, проезжаю на троллейбусе мимо Адмиралтейства. Курсанты Морского училища красят якоря, лежащие на гранитных постаментах. На часах около одиннадцати. В такое время курсанты должны уже спать. Видимо, якоря красят штрафники.
Осень 1945 года. Орел. Я учусь в шестом классе. Школа ютится в полуразрушенном здании. Мой сосед по парте – упитанный розовощекий мальчик по имени Витя. Мы с ним дружим. Витин папа – первый секретарь орловского обкома.
Я с родителями живу в маленькой узкой каморке, которую мы снимаем у бедной одинокой женщины, пережившей оккупацию. Витя с родителями располагается в восьмикомнатном, только что восстановленном особняке. Во дворе особняка – гараж, в нем три автомобиля, два заграничных и один советский.
У Вити своя комната. В ней много книг. На стене висят четыре малокалиберных ружья. «Вот это подарил мне Маленков!» – с гордостью говорит мне Витя.
Любимая Витина забава – стрелять в ворон. Время от времени он предлагает мне принять участие в этом веселом занятии. Стреляем мы прямо с крыльца особняка, которое выходит во двор. А вороны сидят на ближайших деревьях за оградой.
Другое Витино развлечение – носиться по городу на одной из папиных машин, которую ведет один из папиных шоферов. Это пожилой, недавно демобилизовавшийся из армии добродушный дядька. Он любит Витю и выполняет все его прихоти.
– Быстрее, дядя Коля! – кричит Витя. – Все же нас обгоняют!
И дядя Коля послушно переключает скорость.
Учится Витя плохо, совсем плохо. Не хочется Вите учиться. Я помогаю ему решать задачи по арифметике и писать домашние сочинения, но он все равно двоечник.
Однажды в школу пришел один из заместителей Витиного папы. Он просидел целый урок в классе на задней парте, слушал, как Витя отвечает у доски. После урока, не сказав учительнице ни слова, заместитель поспешно ушел.
В конце ноября я с родителями уехал из Орла в Ленинград. С Витей мы простились очень тепло. Он подарил мне на память книгу Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», а я ему – ножик с наборной пластмассовой ручкой.
Почему мне нравился этот толстый, ленивый и глуповатый барчук? Он был добр и по-своему обаятелен.
И разумеется, мне, сыну простого армейского капитана, было лестно бывать в его «губернаторском» доме. Я с удовольствием разъезжал в «виллисе» по улицам разрушенного Орла и с еще большим удовольствием палил из малокалиберки в несчастных ворон. Раза два я попал. Вороны падали, растопырив крылья, роняя перья, стукаясь о толстые ветки. Вместе с перьями падали осенние листья. Я был жесток, как все подростки. Мне (не) жалко было ворон.
1.4
Где же ты, мой дорогой читатель? Кажется, я небездарен, неглуп, неленив, и я давно жду тебя. В ожидании твоего появления я успел написать множество стихов. Среди них, на мой взгляд, есть весьма недурные.
Где ты блуждаешь, мой долгожданный читатель, кого читаешь вместо меня? Но, быть может, я заблуждаюсь, и тебя вовсе нет, мой бесценный, мой умный, мой благородный читатель?
Молоденький, стройненький, чистенький, румяненький, рыжеволосенький морской офицерик. От него пахнет цветочным одеколоном. Видимо, он направляется на свидание с любимой девушкой. И она тоже молоденькая, стройненькая, чистенькая, румяненькая. Быть может, она даже рыжеволосенькая. Хорошо, если бы это было именно так. Но пахнуть от девушки должно приличными духами. Лучше всего, если они окажутся французскими.
В девятом классе школы я мечтал стать морским офицером. Потом расхотелось.
Идеи должны питать литературу, но не подавлять ее. Русская словесность уже два столетия изнемогает под бременем общественных идей. Невозможно представить себе вполне безыдейного русского писателя.
Но каковы же идеи моего творчества?
2.4
Я пережил себя уже на три года. Все должно было кончиться в 77-ом. Этот конец выглядел бы вполне естественно. Лишний кусок жизни обременителен, он доставляет мне мало удовольствия.
Стою на остановке и от нечего делать разглядываю фасад дома на углу Литейного и Фурштатской (Петра Лаврова). Рядом стоит старик в серой заячьей шапке.
Проходит пять минут, десять, пятнадцать. Моего трамвая все нет.
– Этот дом принадлежал купцу первой гильдии Черепенникову, – говорит вдруг старик, обращаясь ко мне, – в первом этаже у него были магазины.
– Вот как! – говорю я заинтересованно.
– Прекрасные были магазины, – продолжает старик, – бакалея, гастрономия, фрукты… А какие были приказчики! Учтивые, проворные, красивые! Все с усами!
Анастасия Вяльцева.
Это имя слышал еще в юности. И после попадалось оно мне в мемуарах, в статьях и книгах об искусстве той томительной, предгрозовой поры. И всегда упоминалось оно как-то вскользь, с оттенком пренебрежения (эстрадная певичка… успех у низкопробной публики… цыганский надрыв и слезливость).
Лет восемь тому назад случайно довелось мне осматривать ее особняк на Карповке, который должны были снести, чтобы на его месте воздвигнуть новое здание. Особняк был уже пуст (ранее в нем располагалось какое-то учреждение), стекла были выбиты, в комнатах валялся мусор, остатки сломанной мебели. На стенах и на потолках не сохранилось никаких украшений, видимо, внутри особняк при новых хозяевах был перестроен. И я тогда подумал: «Всего-то певичка, а такой дворец!»
А лет пять тому назад руководил я студенческой практикой – обмеряли надгробия Никольского кладбища Александро-Невской лавры, в том числе и часовенку над ее могилой (нерусский стиль, резьба по белому камню, золоченая луковица со сломанным крестом). Над входом надпись:
Анастасия Дмитриевна
БИСКУПСКАЯ-ВЯЛЬЦЕВА
ум. 4 февраля 1913 г.
И снова стало мне странно: исполнительница цыганских романсов – и такой мавзолей!
Тогда же кто-то сказал мне, что, когда ее хоронили, весь Невский был запружен народом от Адмиралтейства до ворот лавры и бросали цветы под копыта лошадей, запряженных в катафалк.
Это вовсе привело меня в смущение: эстрадная артистка – а такие похороны!
И вот только что выпущенная пластинка с ее романсами, записанными в начале века. Вспомнили ее, бедную.
На футляре, в рамке, стилизованной под модерн, фотография красивой женщины с кокетливой улыбкой, с тонким пальчиком, приставленным к щеке. Она в роскошном белом платье. На шее жемчужное ожерелье, на груди большая золотая брошь, на запястье массивный золотой браслет.
На обороте футляра рассказ о ее жизни, о редкостной ее судьбе.
Деревенская девчонка, швея, горничная в дешевой гостинице, а спустя несколько лет – всероссийская известность, восторги поклонников и несметное богатство. В собственном железнодорожном вагоне она разъезжала по России, и везде ее ждал феноменальный успех.
И вдруг в расцвете жизни, таланта, красоты и славы – гибель от роковой неизлечимой болезни.
Говорят, что ее безумно любил некий аристократ, блестящий гвардейский офицер. Чтобы вырвать ее из объятий курносой, он сделал все, что было в ту пору возможно (лучшие врачи России и Европы, знаменитые знахари, тибетская медицина). Но ничто не помогло, и предначертанное судьбой свершилось: белый катафалк, шестерка белых коней в белых попонах и с белыми султанами на головах, белый, обтянутый шелком гроб, горы белых цветов.
Голос загадочный, удивительный, мягкого теплого тембра с необычными интонациями. В нем и страсть, и печаль, и какие-то предчувствия, и какая-то запредельность. В нем живет то время – начало нашего апокалипсического века, время надежд и тревожных ожиданий.
Все это – и ее жизнь, и легенды о ней, и ее лицо, и ее голос, и ее могила, и нынешняя ее безвестность – волнует меня чрезвычайно. Что связывает меня с этой женщиной, меня, родившегося спустя 19 лет после ее похорон?
3.4
Эксперименты Мейерхольда были естественной реакцией на стилистику Станиславского, в которой театр изгонялся из театра. Сценическая условность заменялась натуралистическим воспроизведением жизни, и правда искусства была отдана в жертву правдоподобию. Актер на сцене ничем не должен был отличаться от обычных «живых» людей, естественность его поведения становилась абсурдом.
Это был тупик, и Мейерхольд взбунтовался (параллель – бунт футуристов против позднего символизма и акмеизма).
Стоят двое, умный и дурак.
Умный невысок, сутул, узкоплеч. Клочковатая бороденка, очки, высокий морщинистый лоб, плешь, просвечивающая сквозь редкие волосенки на затылке. За очками прячутся выпуклые близорукие глаза. В них кроется печаль и неверие в будущее.
А дурак высок ростом, строен, плечист волосы у него кудрявые, и с его круглого розового лица не сходит самодовольная ухмылка. Его маленькие глазки посверкивают весело и нагловато.
Что и говорить – интеллект портит мужчин.
Как известно, обыватель подобен растению. У него есть корни и листья, он даже может цвести. Но он не любит, когда его называют обывателем. Ему нравится, когда говорят, что очень нужен и важен, что без него картина мира трагически исказилась бы, что из таких, как он, и состоит народ, а народ – это нечто величественное. Обыватель верит всему, что ему говорят. Тем он и хорош.
4.4
«Аврора» опубликовала 4 моих стихотворения. В редакции мне вручили письмо от незнакомой читательницы.
«Я начала следить за его публикациями с его прекрасной поэмы „Жар-птица“… Огромную радость мне подарили стихи из сборника „На мосту“… Я думаю, что это один из интереснейших ленинградских поэтов… Буду с радостью видеть на страницах журналов и книг такую обыкновенную фамилию такого необыкновенного поэта…»
Вот он, мой читатель! Он меня ценит, он меня понимает! А я-то думал, что его нет!
Когда-то в юности я мечтал стать писателем, и непременно знаменитым. И вот я писатель, но, увы, не знаменитый. Чего же мне хотелось больше – быть писателем или быть знаменитостью?
5.4
В «Неве» сказали: «Принесите побольше стихов. Отберем, предложим еще раз „главному“. Авось что-нибудь получится».
И опять, стиснув зубы, я перебираю свои рукописи, стараясь почувствовать, что может понравиться «главному», что может «пройти». Вот уже двадцать лет, с первых попыток напечататься, я занимаюсь этой постыдной самоцензурой.
Несмотря на свой эгоцентризм, я так и не научился жить в себе. Я по-прежнему на сцене. Но зрителей в зале раз-два и обчелся. После каждого акта своего затянувшегося спектакля я слышу лишь жидкие хлопки.
Покинуть сцену? Стать зрителем?
Моя дочь говорит мне:
– Папа, твои картины какие-то непонятные. Они куда-то манят – далеко-далеко. Они таинственные. Зачем ты пишешь такие картины?
– Не знаю, – отвечаю я, – так пишется.
– А ты попробуй по-другому!
– Пробовал. Не получается. Получается только так.
– Странный ты художник, папа, очень странный!
Простота поистине хуже воровства. Творения истинного искусства невероятно сложны и лишь кажутся порой простыми людям незамысловатым. Спекуляция на «благородной простоте» – одно из великих зол, разрушающих литературу.
Вторая корректура книги направлена в Горлит. Разговаривал со своим редактором по телефону. «Будьте готовы ко всему, – сказала она, – если выбросят несколько, стихов, это еще не так плохо. Может быть куда хуже».
Страшновато, но интересно. Как это, оказывается, опасно – быть поэтом! На каждом шагу тебя поджидают смертельные неприятности. Сколько в этом жгучей романтики!
Позвонил М. А., я рассказал ему о своей тревоге.
– Все будет хорошо! – успокоил он меня. – В любом случае книга будет опубликована.
Позвонила Г. Ей я тоже поведал о своих мрачных предчувствиях.
– Зачем расстраиваться, – сказала она, – зачем страдать раньше времени!
«Она права, – подумал я, – страдать надо вовремя, ни раньше, ни позже, чем требуется».
8.4
Кто-то где-то за что-то меня судит. Грядет приговор. В чем я провинился? По каким законам ведется судопроизводство?
О, великий Кафка!
Рифма прельщает, соблазняет, порабощает стихотворца, уводит его в леса, в болота, в горы, бросает его в морскую пучину. Рифма лишает поэта воли, рифма глаголет за него.
Я хочу говорить сам и поэтому пытаюсь обходиться без рифмы. Когда мне это угодно, я подзываю рифму к себе, но не надолго – чтобы не зазнавалась.
Тютчев и Фет талантом не уступали Пушкину, но были ленивы и не очень верили в себя, потому написали мало и не раскрылись полностью в творчестве. Лермонтов был талантливее Пушкина, Лермонтов был фантастически талантлив, но ему чертовски не повезло – слишком рано погиб. Не случись это, он мог бы стать одним из величайших поэтов человечества.
Благоговею перед стилем, но презираю стилизации.
9.4
Несмотря на нелепость и постыдность своей жизни, я все еще на что-то надеюсь.
Надеюсь, что вторая моя книжка будет напечатана, надеюсь, что ее заметят читатели и критики. Надеюсь, что стану писать хорошую прозу. Надеюсь, что мне удастся сделать выставку своих картин. Словом, надеюсь на лучшее.
Скоро мне стукнет сорок восемь, а я все еще не теряю надежд! Хорош гусь!
Пил кофе в Нижней столовой дворца Великого князя Владимира Александровича (Дом ученых). Теперь здесь кафе с баром, скромное кафе для научных работников, располагающееся в роскошнейшем и, слава богу, прилично сохранившемся интерьере в духе итальянского Ренессанса.
Когда одевался, гардеробщик – старик с пышной седой бородой, под стать великокняжеским хоромам – попросил у меня сигарету.
– К сожалению, не курю сигареты, – сказал я.
– «К сожалению!» – передразнил меня старик (он был явно нетрезв). – А баб ты щупаешь или тоже «к сожалению»?
– Какие уж там бабы! – ответил я. – Не до них мне сейчас.
– А что, болен? – полюбопытствовал гардеробщик.
– Да нет, здоров. Огорчения у меня всякие – заботы, тревоги.
– Мать твою так! – воскликнул старик. – Ты что, и водку не пьешь?
– Водку пью, – ответил я, – водку не забываю.
– Ну, значит, ты все же православный, – резюмировал старик, – значит, все хорошо.
10.4
Форма должна быть максимально активной. Подлинная, глубинная философия писателя раскрывается только через форму. Все, что рассказывается или изображается, – лишь предлог для решения формальной задачи, а она всегда невероятно сложна.
Только полноценный, талантливый читатель способен почувствовать, понять и оценить совершенство и оригинальность формы. Рядовой потребитель литературы воспринимает преимущественно содержание. В лучшем случае он способен оценить достоинства традиционной, хорошо знакомой ему стилистики. Заурядному читателю невдомек, что развлечь, рассмешить, растрогать, напугать или озадачить – простейшие из всех функций искусства.
12.4
Петергоф. Никогда не бывал в Петергофе ранней весной.
Парк какой-то маленький и голый, весь он просматривается насквозь. Над деревьями непрерывно каркая, летают вороны. С залива дует пронзительных, холодный, совсем еще зимний ветер. Все статуи в дощатых футлярах. Бассейны фонтанов пусты, и на их дне видны трубы, незаметные под водою летом.
Из тридцати принесенных мною стихотворений заместитель главного редактора «Невы» Корнев отобрал двенадцать и положил их на стол «главному».
Корнев благосклонно относится к моим верлибрам. «Моему сыну очень нравится, как вы пишете», – говорит он мне.
13.4
Нельзя быть всеядным, но нетерпимым тоже нельзя быть. Оптимальная позиция: всё, или по крайней мере многое, понимать и принимать, но предпочитать всё же одно.
Перед Хлебниковым склоняю голову, но он меня не потрясает. Его шаманство над словом и его нарочитый инфантилизм от меня далеки.
Питаю слабость к старым фотографиям. В них есть нечто сверхъестественное.
Фото начала нашего века – вокзал в Новой деревне.
Перрон. Поезд пригородной железной дороги с допотопными, какими-то куцыми вагончиками. Толпа на перроне. Видимо, люди только что вышли и направляются в город.
Солидные господа в котелках, дамы в светлых летних шляпах с широкими полями, студенты в форменных фуражках, мастеровой в помятом картузе, крестьянка (видимо чухонка) в платочке. Идут, молчат, разговаривают, жестикулируют, двигают ногами, машут руками. Идут в сторону будущего, в мою сторону. Идут и надеются, что будущее их не подведет. Идут и не догадываются, какие сюрпризы готовит им время, и не подозревают, чем грозит им кровожадный двадцатый век. Идут и не знают, что все они давно уже умерли, давно покинули пределы мира сего. Впрочем, вот тот мальчишка, который перебегает железнодорожные пути, может быть, еще и жив. Но он уже дряхлый старец, ему, небось, за восемьдесят.
На указателях знакомые названия: Сестрорецк, Курорт, Скачки, Лисий нос. Только они не постарели.
14.4
Моя тревога была не напрасной. «Высокий суд» постановил изъять из моей книжки тринадцать стихотворений, а два стихотворения слегка укоротить. Доводы обвинения убийственно нелепы (к примеру: «Катулл и Лесбия» выброшено по той причине, что меня-де могут заподозрить в сочувствии к лесбиянству!).
Судьба нанесла мне еще один удар – короткий, мощный удар под ложечку. Бессмысленно задавать вопрос – за что?
Вот она – награда за мое долготерпение! Чаще надо меня бить и больнее!
17.4
Все трое – Леонардо, Рафаэль и Микеланджело – были холостяками. Рафаэль, вероятно, связал бы себя узами брака, да не успел этого сделать. Смерти было угодно застать его неженатым.
«Главный» отобрал из двенадцати стихотворений восемь и грозится напечатать их в сентябрьском номере. Дай-то бог!
Что в зарубежной поэзии мне близко?
Катулл, Марциал, средневековая лирика Японии и Китая, Вийон, Гонгора, Эдгар По, Гейне, Бодлер, Рембо, Верхарн, Аполлинер, французские сюрреалисты, Элиот, Каммингс, Превер, Мишо.
20.4
Дача. Все завалено снегом (он шел всю ночь). Время от времени выглядывает прорывающееся сквозь тучи солнце, и тотчас из-под снега появляются зеленые листья и стебли оживших трав. Холодная нынче весна, похожа на позднюю осень. Будто не апрель на дворе, а ноябрь.
По стволу сосны вниз головой спустилась белка. Побегала по снегу, нашла кусочек сухаря (для нее приготовленный), взяла его в зубы, вспрыгнула на забор и побежала по штакетнику, аккуратно ступая лапками по узким торцам реек. Шерстка у нее еще серая, только хвост рыжеватый.
Ем мороженые яблоки. Они коричневые, сморщенные, некрасивые, но вкусные и очень сочные. Яблочный сок течет по подбородку.
1941 год. Лето. Краснодарский авиагородок. На поле, рядом с домами, в которых живут семьи летчиков, вырыты на случай бомбежек узкие глубокие щели. В этих щелях я целыми днями играю со своими сверстниками в войну.
У меня деревянный меч, фанерный щит и почти настоящий лук со стрелами – все это появилось после того, как мы, мальчишки, посмотрели фильм «Александр Невский». Еще у меня есть пистолет, стреляющий пистонами, отличный ленинградский довоенный пистолет. По вечерам я помогаю маме дежурить во дворе – мы следим, чтобы во всех квартирах было затемнение.
Вместо киножурналов в кино показывают короткометражные ленты о том, как бороться с зажигательными бомбами и поражать танки бутылками с горючей смесью (лучший способ – прикинуться мертвым, пропустить танк мимо себя и бросить бутылку ему вслед). Немцы где-то под Киевом, в районе Смоленска и у Пскова. Все говорят, что дальше их не пустят, что вот-вот начнется мощное наступление Красной армии.
22.4
Живу я тихо и кротко, как голубь. И все жду, когда кротость мою оценят, когда мне за нее воздастся. Должны же, черт побери, где-нибудь восхититься моей безропотностью! Должны же когда-нибудь поклониться мне в ноги за мое мягкосердечие! И получается, что кротость моя корыстна. От того, небось, и душа моя терзается – наказание это за корысть.
Христианство – это экзистенциализм для широкого потребления. Христос не понял человечество? Или человечество было не способно понять Христа? А может быть, непонимание было обоюдным? Так или иначе, но спасение человечества не состоялось.
Перечитал «Жили-были». За 30 лет до моего возникновения Леонид Андреев смотрел на мир моими глазами и моя, озадаченная жизнью душа уже томилась в его теле.
Только два писателя во всей русской литературе знали подлинную цену смерти – Бунин и Андреев.
Ибсен утверждал, что «самый сильный человек на свете – это самый одинокий». Я не самый сильный, стало быть, я и не самый одинокий. Я попросту слабый человек, хотя и изрядно одинокий.
23.4
Два человека – один с острым, другой с тупым лицом. У первого – длинный гоголевский нос, узко посаженные глаза, впалые щеки и скошенный подбородок. У второго – торчащие скулы, плоский нос, глаза у висков, широкий лоб и круглый подбородок.
Первый говорит сквозь зубы на высоких резких нотах и как бы с присвистом. Второй басит – голос его глуховат и мягок, он будто исходит из живота.
Наверное, этим людям неприятно общаться, наверное, они не терпят друг друга.
24.4
Позвонил Дудину. «Не унывайте! – сказал он. – Мы все равно победим!»
Я познакомился с ним в 1971 году. И тогда, девять лет тому назад, он произнес почти такую же фразу таким же бодрым голосом. Но, может быть, он и впрямь обладает даром предвидения?
25.4
В моих стихах мало русского. Ироничность, многозначность, «умственность», пренебрежение словесным декором – все это, разумеется, не русское. Но какое? Немецкое? Французское? Польское? Еврейское?
Я истый отщепенец. И напрасны мои сетования на несправедливость ко мне моих соплеменников. Я могу сетовать только на судьбу, которая создала меня таким и заставила жить.
Грязные, захламленные берега Смоленки. Черная, густая, зловонная вода. Полусгнившие, покрытые мазутом бревна и полузатопленные дырявые лодки. Смоленское кладбище. Покосившиеся кресты и вывороченные из земли плиты склепов. В некоторых местах надгробия сплошь разрушены, будто прошел здесь бульдозер. Кладбищенская церковь. Служба уже кончается. Молодой рыжебородый священник. Два десятка старушек в белых платочках. – Христос воскресе! – громогласно восклицает батюшка. – Воистину воскресе! – нестройным хором вторят старушки. Электричество гаснет. Церковь пустеет. Вспомнилось: лет 40 тому назад зимой был я впервые в этой церкви с родителями – гуляли мы по кладбищу и забрели в храм погреться. В правом приделе на скамьях стояли два гроба с покойниками, и я очень испугался. Тогда, до войны, на Смоленском еще хоронили. Покидая кладбище, заметил у ворот памятную доску: «Здесь, на Смоленском кладбище, похоронена няня Пушкина Арина Родионовна». Могила няни утеряна, но доску всё же повесили.
Сегодня было как-то особенно тяжко моей душе, как-то особенно бесприютно.
27.4
Всю прозу можно разделить на две категории: на прозу изобразительную и прозу концептуальную.
К первой категории следует отнести Вальтера Скотта, Бальзака, Стендаля, Флобера, Диккенса, Тургенева, Толстого, Чехова, Бунина, Золя, Мопассана, Голсуорси, Хемингуэя, Ремарка. Ко второй – Рабле, Сервантеса, Свифта, Вольтера, Эдгара По, Гюго, Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Леонида Андреева, Платонова, Булгакова, Набокова, Андрея Белого, Джойса, Пруста, Кафку, Камо. Почти вся серьезная проза XX столетия концептуальна.
30.4
В распивочной двое уже пьяненьких мужичков «соображают на троих». В поисках третьего им не везет – все отказываются. А у мужиков только два рубля – на бутылку не хватает. У одного лицо сплошь малиновое, только уши, как ни странно, бледные. У другого лицо пятнистое: по желтому, шафранному фону – пурпурные пятна. В смысле колорита – весьма приятные мужички.
1.5
Мне подарили фотографию Вяльцевой. Милое, спокойно-задумчивое, какое-то домашнее и будто бы давно знакомое лицо. Чистый высокий лоб. Брови крутыми дугами разлетаются от переносицы к вискам. Светлые, видимо серые, глаза. Тонкие ноздри. Красивого рисунка рот. Мягкие линии щек. Нежный, округлый подбородок. Она сидит на стуле с высокой спинкой, сидит чуть боком, опираясь о спинку левым плечом и, судя по наклону торса, положив ногу на ногу. Руки сложены на коленях, но кисти рук не видны – в фотографии они не поместились. На ней белая кофточка с узкими кружевными прошивками и с высоким, плотно облегающим шею воротничком, и темная, видимо шерстяная, юбка. В ушах крупные бриллиантовые серьги, на шее нитка жемчужных бус и тонкая золотая цепочка с брелоком, похожим на небольшую медаль, на груди у воротничка бриллиантовая брошь в виде полумесяца. На той, первой фотографии, что украшает футляр для пластинки, драгоценности другие. Судя по всему Анастасия Дмитриевна любила роскошь и наслаждалась столь неожиданно свалившимся на нее богатством. Слегка подвитые пышные волосы (наверное, каштановые) подобраны снизу и, по-видимому, стянуты на затылке в узел по моде тех лет. На фотографии автограф. Размашистым, небрежным почерком написано: «На добрую память Н. Л. Со… (далее неразборчиво) от Вяльцевой. 5 февраля 1907 года». Фотография наклеена на картонное паспарту с оттиснутым золотом фирменным знаком:
«Е. Морозовская
С.-Петербургъ
Невский № 20
у Полицейского Моста».
1945 год. Июль. Едем с мамой из Ашхабада в Орел. Поезд идет где-то между Уралом и Волгой. Стою у окна и гляжу на проплывающее мимо бесконечное поле, поросшее низким кустарником. Между кустов вьется неширокая тихая речка. Она петляет по полю, то приближаясь к железнодорожному полотну, то уходя от него. Проходит час, проходит два часа – за окном все то же поле и все та же загадочная, как бы сопровождающая наш поезд речка. В ее воде отражается розовый закат.
2.5
Воспоминания о прошлом лете.
В конце июня поехали мы с Сашей Моревым за город. День был пригожий, солнечный, не жаркий, но теплый. Настроение у нас было преотличнейшее.
Вышли из электрички в Стрельне. Рядом со станцией обнаружили буфет. Взяли по стакану портвейна и бутерброды и расположились на травке среди ромашек. Выпили, закусили, поговорили («жизнь-то вроде бы не так уж плоха, терпеть ее можно»), поднялись и пошли дальше.
По шоссе дотопали до Михайловки, прогулялись по парку, миновали дворец, спустились на нижнюю парковую дорогу и вскоре свернули с нее к заливу. Здесь далеко в воду вдается узкий песчаный мыс, со всех сторон заросший высоченным тростником. Посреди мыса из песка торчат железобетонные сваи, верхушки которых разбиты ударами копра и оплетены причудливо изогнутыми прутьями арматуры. (Для чего забивали их здесь и после бросили, оставили безо всякого употребления?) Полюбовались сваями, из которых получились абстрактные скульптуры, и панорамой города, открывшейся вдруг в просвете между тростниками. Вернулись на дорогу и миновали хорошо знакомое мне маленькое прибрежное кладбище, спрятавшееся в густой зелени парка.
– Тут есть могила самоубийцы, – сказал Саша, – хочешь поглядеть?
Невдалеке от дороги под старой липой торчал ржавый чугунный крест. Никакой надписи на нем не было. Постояли, помолчали, побрели дальше.
– Споем, что ли? – сказал вдруг Морев и начал:
Выхожу один я на дорогу…
Я подтянул. Потом мы спели «Иоанна Дамаскина»:
Благословляю вас, леса…
Так мы шли, и пели, и, дурачась, что-то кричали, и снова пели. Деревья склоняли к нам свои ветви и слушали нас с явным удовольствием.
Прошли Знаменку, прошли Александрию, вышли в Нижний петергофский парк, дошли до большого канала. Здесь наткнулись на летнее кафе. Взяли еще по стакану портвейна, сели у берега и долго смотрели на паруса яхт, белевшие вдали.
Через неделю меня опять потянуло в Петергоф. Часов в шесть вечера я сел на «Метеор» у Зимнего дворца.
Когда «Метеор» вылетел в залив, подул шквальный предгрозовой ветер. Вода потемнела, там и тут запрыгали белые барашки. Катер перескакивал с волны на волну, касаясь только их вершин. Вода гулко ударяла в его стальное брюхо. Нос то взлетал вверх, то зарывался в водяную пену. Тучи над заливом были невиданно хороши. Гигантские, многоярусные, многокупольные, уже не лиловые, а иссиня-черные с желтоватыми и голубыми бликами по краям, они, казалось, стояли неподвижно, однако вид их изменялся на глазах. Кое-где их уже пробили солнечные лучи, и наклонные светлые столбы уперлись в залив. Вода под ними вспыхнула ослепительным серебряным пламенем.
Пошел крупный, бойкий дождь, но тут же унялся. Гроза проходила стороной.
В петергофском парке было пустынно – испугавшись надвигавшегося ливня, туристы разбежались. Шум фонтанов казался непривычно громким. И было что-то загадочное в том, что эти бесчисленные водяные струи извергались в небо среди полного покоя и безлюдья.
Между столиков знакомого кафе у канала расхаживали голуби, вороны и чайки. Я купил пару бутербродов и стал кормить птиц хлебом. Больше всего доставалось чайкам. Голуби были трусливы и неповоротливы, а вороны – слишком осторожны.
Домой я вернулся на электричке, и меня еще долго не покидал восторг перед красотой мира, которая мне снова открылась в этот вечер.
Едва я вошел в квартиру – зазвонил телефон. Мне сообщили, что Саша Морев покончил с собой. Его труп найден в морге Боткинской больницы.
3.5
Сюжет.
Женщина купила в деревне старую избу. Прежний хозяин впал в безумие и повесился на чердаке. Его жена продала дом и переселилась в другую деревню.
К новой владелице по ночам, во сне, приходит старый хозяин и силой овладевает ею. Далее он является каждую ночь, и женщине начинает это нравиться. Постепенно она сходит с ума и однажды утром вешается на том же чердаке.
Продолжение воспоминаний о прошлом лете.
Конец августа. Рига. Кладбище латышских стрелков. Ни души. Один брожу среди могил и читаю надписи на надгробных плитах. Потом сажусь на каменную скамью и раскуриваю трубку.
Лесное кладбище. В его центре, на главной аллее, воздвигнут грандиозный монумент: атлетического сложения бронзовый юноша сидит на черном полированном граните, над ним нависает причудливых очертаний бронзовая волна. Краткая надпись у основания монумента неразборчива, она воспроизводит чье-то факсимиле. Кто же здесь похоронен? Памятник на могиле Райниса куда скромнее.









































