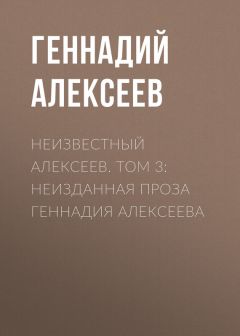
Автор книги: Геннадий Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Поминки на Сашиной квартире. Все обильно пьют, едят и славословят покойного. Кто-то говорит, что Саша был гением. С кухни доносится женский смех.
18.8
Ходил по грибы с двумя девятилетними девочками. Одна – моя дочь, другая – ее дачная подружка.
Едва мы вошли в лес, как девчонки заявили, что они страшно устали и пора сделать привал. Усевшись на пне, они стали есть сушки с конфетами, а я ходил вокруг и собирал сыроежки. После мы пошли дальше – я впереди, за мной мои спутницы. Заметив гриб, я говорил им: «Внимание! Перед вами гриб! Та из вас, которая увидит его первым, и станет его обладательницей!» Ежеминутно возникали конфликты: каждая из девочек утверждала, что разглядела сыроежку первой. Они всерьез обижались, всерьез завидовали друг дружке, всерьез соперничали на этом грибном поприще. Через каждые десять минут они пересчитывали грибы в своих корзинках – у кого больше.
Спустя час мы устроили второй привал. Девочки доели свои сушки и конфеты, и мы отправились домой. На обратном пути Аня нашла у самой дороги маленький белый. Ее радость был неописуемой.
– Подумаешь, – сказала подружка Катя, – твой белый надо под микроскопом рассматривать!
– А у тебя и такого нет! – огрызнулась моя дочь.
Грибов в лесу еще мало, и втроем едва наполнили две маленькие корзинки. Но девочки были довольны.
Цветаева. Как презирает она людей обычных, заурядных, погрязших в своих жалких житейских заботах и неспособных воспринимать мир поэтически! С каким сарказмом они пишет о «малых сих», о бесчисленных муравьях, копошащихся в необозримом человеческом муравейнике! И как много она о них пишет, явно смакуя свое презрение, то и дело переходящее в ненависть! Будто мещане ей здорово насолили. Будто и впрямь нет на земле худшей твари, чем обыватель.
Отчего тишайший немецкий бюргер и уютные провинциальные немецкие городки ей столь омерзительны? Ведь в этих же городишках предками этих же лавочников, аптекарей и парикмахеров воздвигались прекрасные и грандиозные готические соборы, а позже создавались шедевры ренессансной живописи! А иногда в них появлялись Лютеры, Мюнцеры и Гуттенберги! Ей ли это не знать?
«Крысолов» – типичный выплеск «широкой русской натуры», свысока глядящей на аккуратных, работящих и добросовестных немцев, которым недоступны парение и томление духа.
19.8
В юности моим Евангелием был «Мартин Иден» Джека Лондона. Мартин казался мне образцом настоящего человека, сквозь все препятствия неуклонно идущего к желанной цели и побеждающего свою судьбу. Восхищал меня и приятель Мартина – Бриссенден, человек благородной, возвышенной души и гениальный поэт. Его поэма «Эфемерида» волновала меня ужасно, хотя, естественно, я не мог ее прочесть. Величавые строки этого несуществующего шедевра звучали у меня в ушах. «Я должен создать нечто подобное, – говорил я себе, – я должен разбиться в лепешку, съесть двадцать пудов соли и вылезти из кожи вон, но написать столь же прекрасное произведение».
С той поры прошло уже лет тридцать. Создал ли я свою «Эфемериду»?
20.8
С какой-то странной нежностью, с необъяснимым волнением я вспоминаю ленинградские коммунальные квартиры 30-х годов. Вспоминаю их бесконечные коридоры, их таинственные темные закоулки, их обшарпанные обои, их прихожие с висящими по стенам велосипедами и жестяными тазами, их огромные кухни с шипящими примусами и чадящими керосинками, их старую мебель начала века и громоздкие люстры с зелеными абажурами, их особые, вкусные запахи давно обжитых жилищ.
Отчего добрые, кроткие, словом, хорошие люди так редко преуспевают в творчестве? После них остаются лишь смутные воспоминания об их добродетелях. Не оттого ли это происходит, что творчество чуть-чуть безнравственно и всегда жестоко? Оно всегда претензия и всегда борьба. Быть кротким в искусстве невозможно. Здесь кротость – синоним безликости, заурядности.
21.8
Традиции – чушь. Истинное искусство – всегда взрыв, извержение вулкана. А после эпигоны ползают по застывшей лаве и собирают камни, вышвырнутые из земного чрева.
Страх быть непонятым – вот зло, которое губит талантливых, но слабых духом литераторов.
Купил красивую алую розу и отправился на Никольское кладбище. Среди могил кое-где бродили люди, но рядом с ее часовенкой никого не было. На ступеньке у заложенного камнем входа стояла стеклянная баночка с двумя засохшими гвоздиками и остатками воды на донышке. Выбросил гвоздики и поставил на их место свою розу. Спросил про себя: «Нравится тебе, Настя, эта роза? Она вроде бы недурна». Постоял, поглядел на часовню. На боковых ее фасадах под крышей были два забранных железной решеткой окна. Почему-то мне никогда не приходило в голову в них заглянуть.
Взобрался на соседний памятник и приблизил голову к решетке. Внутри было пусто. Мой взгляд скользил по потолку, по серым стенам, по каменным плитам пола… Тут я вздрогнул. В полу зияло квадратное отверстие.
В двадцатых-тридцатых годах многие старые могилы на ленинградских кладбищах были кем-то вскрыты – видимо, искали золото. Неужели и эту могилу постигла та же участь? Неужели и в ее костях рылись пальцы какой-то человекоподобной твари? Неужели и ее прах был осквернен?
Спрыгнув на землю, я тихо побрел прочь. Потом обернулся. Моя роза краснела у подножия часовни, как пятно свежей крови.
22.8
В «Ленинградской правде» в статье о новых поэтических книгах похвалили и мою.
Курю трубку и любуюсь красными гроздьями рябины, растущей во дворе под окном нашей кухни.
Пришла женщина. «Грешно вам жаловаться и тосковать, – сказала она. – У вас такие необычные стихи, но вас печатают, вас хвалят в газетах, вами восхищаются друзья и поклонники. И, что бы ни случилось, вы не уйдете из мира бесследно, даже если вы этого очень возжелаете. А после смерти я обещаю вам подлинный успех. Если воскреснете – убедитесь, что я была права».
24.8
В подвале у нашего парадного живет черный кот. Он не голодает, его кормят все женщины из нашего двора, и дети тоже. Частенько я вижу его сидящим на асфальте или в траве под деревьями.
Он не навязчив, он ни у кого не просит, он держится скромно, но с достоинством. Что поделаешь, такая уж ему досталась судьба – быть бездомным дворовым котом. Из окон на него смотрят домашние, хорошо устроенные, упитанные, балованные коты, которым повезло в жизни куда больше, но он им не завидует. Ему не дано спать на коврах и на креслах и есть из фарфоровых тарелок, никто не гладит его ежеминутно, никто не расчесывает ему шерсть, но зато он свободен. Он свободен и одинок, и это его вполне устраивает.
Когда мы с ним встречаемся, он глядит на меня спокойным взглядом желтовато-зеленых глаз. Мне кажется, что я ему нравлюсь, что он меня понимает.
У пивного ларька стоит парень с грубым, злым лицом. Рядом с ним мальчик лет трех. К парню подходит его приятель с такой же топорной и недоброй физиономией. Они начинают беседу изощренно и как-то особенно дерзко матерясь.
– Он у меня уже все умеет, – говорит первый парень, показывая на мальчика. – А ну-ка, Толя, скажи!
Мальчик громко и отчетливо матерится.
– Во дает! – восхищается второй парень. – Он у тебя вундеркинд!
Печально, что кончается лето. Во всем затаилась уже осенняя грусть – в облаках, в траве, в деревьях, даже в трамваях – их стекла поблескивают как-то невесело.
25.8
Перечитал «Чистый понедельник». Бунин считал этот рассказ своим лучшим творением. Он написал его за одну ночь 12 мая 1944 года. Тогда ему было уже 74 года.
С годами Бунин писал все лучше и лучше. Запаса его творческих сил хватило бы на десять крупных писателей.
27.8
В конце лета и в начале осени не слишком щедрая северная природа дарит нам особое, единственное в своем роде удовольствие – грибы. Я собираю их сызмальства, и все не надоедает. Это страсть на всю жизнь.
Сегодня набрал большую корзину, с верхом, горкой. Даже в карманы напихал грибов – так много их было в лесу. Всё сыроежки и моховики. Изредка попадались подберезовики и красные. Белых нашел всего три штуки.
Грибы приятно не только собирать, но и чистить. Снова любуешься каждым и вспоминаешь, где его приметил.
Как разнообразна окраска сыроежек! Коричневые, серые, фиолетовые, розовые, малиновые, лимонно-желтые, зеленые, голубые, белые! Зачем сыроежкам эта красота? Другие грибы, например белые, рыжики, подосиновики, маскируются под цвет опавших листьев, а эти стоят всем напоказ, издалека заметные и человеку, и зверю.
28.8
Сон. Каким-то образом занесло меня в восточный Берлин, и пора мне возвращаться домой. Брожу по улицам, ищу вокзал. Обращаюсь к встречному прохожему. Он меня не понимает.
– Zum Bahnhоf, – говорю я, вспомнив, как «вокзал» по-немецки.
– На метро, – отвечает вдруг немец по-русски.
И тут я вспоминаю, что в Берлине живет Саша Морев. Он вовсе не умер, не наложил на себя руки, а переселился в Берлин. Быстро нахожу его дом где-то на окраине. Дверь квартиры раскрыта настежь. Вхожу. На диване, поджав под себя ноги по-турецки, сидит Саша и пьет водку из «маленькой», пьет особым, невиданным мною доселе способом. На горлышко бутылки надета резиновая младенческая соска, и Саша сосет ее, как грудной младенец.
– Это чтобы растянуть удовольствие, – говорит он и предлагает мне тоже пососать. Я вежливо отказываюсь.
– Ну как ты тут, в Берлине? – спрашиваю я.
– Неплохо, как видишь, – отвечает Саша.
– А все решили, что ты умер, – говорю я, – ни слуху от тебя, ни духу.
30.8
Отпуск кончился. Возвращаюсь на службу.
Крылов служил, Лермонтов служил, Тютчев, Фет, Анненский, Сологуб тоже служили. А. К. Толстой писал: «У меня такое отвращение к службе, какова бы она ни была, что даже если бы я хотел фокусом заставить себя подчиниться этому, я бы никогда не дошел до хороших результатов».
Существует мнение, что служба полезна поэту, что она делает его жизнь более разнообразной, многомерной, объемной, что пребывание в двух плоскостях, в двух слоях бытия обогащает душу мечтателя и не позволяет ей истончиться до прозрачности, до распада.
31.8
Хлебникова ценю как провидца, пророка, благороднейшего рыцаря поэзии, сражавшегося за подлинность против видимости. Но читать его не люблю.
Хлебниковские тексты хаотичны, отрывочны и лохматы. В этом словесном потоке там и сям виднеются прекрасные куски, но вылавливать их становится скучно уже на двадцатой-тридцатой странице. (Не слишком ли я люблю завершенность, отточенность, сделанность в искусстве? Не чрезмерен ли мой эстетизм?)
2.9
Лучше всех из русских прозаиков прошлого века писал Гоголь. Его проза густа, вкусна и пахуча. Он отлично чувствует фактуру и смысловые оттенки слов. Он виртуоз интонационной игры. Его ирония безукоризненна, и вкус нигде ему не изменяет.
Достоевский страдает многословием, его романы громоздки, как старинные резные шкафы. Его талант ярче всего проявился в малых формах («Белые ночи», «Кроткая», «Сон смешного человека»).
Толстой писал тускло, неровно, неряшливо, временами попросту слабо. Перечитывая «Анну Каренину», я удивлялся корявости и бесцветности его письма.
Тургенев писал красиво, но часто впадал в слащавость. Его проза женственна, в ней больше изящества, чем силы.
Рядом с Гоголем как стилистом можно поставить только Чехова, хотя он работал совсем по-другому.
Большая русская проза XX века пошла за Гоголем. Исключение – Бунин.
Толстой и Достоевский не столько мастера слова, сколько вероучители, проповедники. За это их и ценят.
6.9
Три часа с Дудиным. Сначала гуляли с ним по Невскому и по Лиговке, после поехали к нему домой. Как всегда, он угощал меня коньяком, но сам не пил – пить ему строго-настрого запретили врачи. Он читал мне только что написанные стихи и подарил свою новую книгу.
Кто-то из критиков назвал мои стихи современными сказками для взрослых. Он был недалек от истины. Но, к несчастью, взрослые не любят читать сказки, даже если они написаны специально для них.
Если говорить на языке литературоведов, каждое мое стихотворение – это развернутая метафора, а последней, как известно, присущ эффект смыслового смещения и сознательной подмены понятий. Метафора по природе своей алогична – стало быть, и стихи мои от обычной логики далеки. В них есть особая, сложная, как говорят современные математики, «интенсиональная» логика, которая свойственна некоторым авангардным течениям в искусстве нашего века. Но эта логика воспринимается далеко не всеми.
Конкретно, о стихотворении «Я говорил ей…»
Черт его знает, что я хотел им сказать. Когда писал, о смысле не думал. Так вот писалось, и все.
Понравился мне композиционный замысел (а он появился раньше всего). Суть его в том, что здесь долго, нарочито долго и многозначительно рассказывается довольно нелепая история, как некий субъект старался влюбиться в некую нетерпеливую особу и влюбился-таки, приложив к этому немалые усилия.
Перед вами образец абсурда – как бы вы ни хотели, вы не влюбитесь. Невозможно заставить себя кого-то полюбить. Любовь приходит сама по себе, ее появление часто совершенно непостижимо.
На эту нелепость накладывается еще и другая: женщине вроде бы очень хотелось, чтобы ее полюбили, а когда это произошло, она почему-то рассердилась, а может быть, и испугалась.
Общая, лежащая на поверхности стиха сюжетная схема парадоксальна и уже этим качеством привлекает внимание. В ней есть своеобразная, согласитесь, красота.
Однако привлекательность стихотворения (мне оно, между прочим, нравится) проистекает еще и от особой словесной обработки странноватого сюжета. Диалог производит ощущение полной достоверности. У читателя не остается никаких сомнений в том, что и Он и Она крайне заинтересованы в происходящем.
Вот это-то нарочитое несоответствие необъяснимого действия с полным реализмом словесного материала и создает главный эффект стиха: нелепое вроде бы вполне реально, а реальное оказывается почему-то нелепым.
Но все это из области литературных тонкостей. Читателю знать это вовсе необязательно и даже вредно. Он должен воспринимать стихотворение непосредственно, безо всякого копания в его сложном устройстве, так сказать, брать его живьем. И если у него есть интуиция, чувство ритма, способность понимать иронию и красоту живой, разговорной речи, он это стихотворение примет, не доискиваясь его сокровенного смысла, которого, как вы, небось, уже догадались, попросту и нет.
Ну а для читателя попроще можно выжать из текста несколько вполне понятных и убедительных смысловых схем.
Схема первая.
Он давно уже ее любит, а она к нему равнодушна. Но он человек гордый и скрывает свою любовь, зная, что она останется безответной. Ей, женщине капризной и тщеславной, хочется, чтобы он открылся, хочется очередной «победы», но он оттягивает признание, понимая, что у нее к нему интерес чисто «спортивный». Одновременно в нем рождается подобие надежды: а вдруг у нее все же возникает какое-то чувство? И вот он наконец признается. Она пугается, видит, что он любит всерьез. Быть может, она испытывает при этом некоторое раскаяние, а он убеждается, что дела его совсем плохи, хотя и в безответной любви есть своя сладость.
Схема вторая.
Он знает, что она недостойна его любви. Но он устал жить с пустым сердцем, и ему искренне захотелось влюбиться, все равно в кого. Это и случилось: он влюбился, он любит, ему хорошо. А она, бедняжка, любить неспособна, и ему ее жаль.
Схема третья.
Их любовь взаимна. Но люди они сложные и склонны скрывать свои чувства, опасаясь отчасти, что откровенность может обернуться для них бедой. Стихотворение – описание того, как несколько эксцентрично, так сказать, по-современному они открылись друг другу. В этом случае ее восклицание «вы с ума сошли!» не следует принимать всерьез. За ним слышится: «Я тоже вас люблю! Я счастлива!»
6.12
Пришел человек, чтобы меня убить.
– Убивайте, говорю, убивайте поскорее, и бог вам судья!
– А вам не страшно? – спрашивает.
– Нет, говорю, не страшно. Чего бояться?
– Значит, вам не хочется жить, – говорит.
– Да какое вам дело! – говорю. – Раз пришли, так убивайте. Или вы боитесь?
– Боюсь, – говорит, – вы у меня первый, никого еще не убивал.
– Вот, – говорю, – и с вами мне не повезло. Даже убийцы путного для меня не нашлось!
– Да вы не огорчайтесь, – говорит, – плохо ли, хорошо ли, но я вас непременно убью, если вам жить совсем не хочется.
Он и впрямь меня убил. И довольно ловко. Даром, что начинающий.
Усатая, добрая морда автобуса. Она обледенела, и с нее свисают длинные, тонкие сосульки.
Пикассо суетен и игрив. Его бесчисленные метаморфозы раздражают. Едва наметив свой очередной «стиль», он тут же бросает его без сожаления, чтобы уже никогда к нему не вернуться. Где же подлинный Пикассо? В кубизме? В «Гернике»? В «античных» рисунках? Или в ранних «голубых» полотнах?
Энергии и дерзости у него предостаточно. Но чего он хочет от мира и от себя?
Свою долгую жизнь в искусстве он прожил озорным мальчишкой и не повзрослел даже в глубокой старости.
7.12
Лет десять тому назад я был влюблен в некую девицу по имени Тамара, которая работала в кофейном баре. Это было прелестнейшее созданье с маленьким, чуть вздернутым носиком, с большими карими глазами, нежным круглым подбородком и на редкость соблазнительными розовыми мочками ушей. Волосы у нее были иссиня-черные, видимо, она их красила, потому что ничего восточного в ее облике не было.
Я заходил в бар чуть ли не каждый день и усердно пил кофе. Я пил его так много, что у меня даже начались сердцебиения. Но любовь – штука серьезная, и жалеть себя не приходилось.
Я всячески демонстрировал очаровательной Тамаре знаки своего внимания, но она слабо на них реагировала.
В баре я занимал обычно место поудобнее, чтобы хорошо видеть свою пассию. Я подолгу наблюдал, как она наливает в чашки кофе, открывая краники кофейного аппарата, как кладет на блюдце ложечку и сахар в бумажной обертке, как берет деньги, дает сдачу, как улыбается завсегдатаям бара, которые ей всегда что-то говорят и смотрят на нее неравнодушно и тоже улыбаются.
Я видел ее лицо во всевозможных ракурсах (в каждом оно казалось мне прекрасным), я наслаждался мягкими движениями ее белых рук, мерцанием ее угольных волос. Несколько раз я фотографировал ее, но негативы, увы, оказались неудачными.
Я подарил ей томик «Дня поэзии» со своими стихами (до какого кретинизма, однако, может докатиться почти сорокалетний влюбленный мужик!). Однажды я даже провожал ее после закрытия бара. Она была мила, о чем-то со мной болтала, но дальше входа в метро провожать себя не разрешила и сказала, что телефона у нее нет.
По вечерам я частенько стоял у бара на противоположной стороне улицы. В освещенной витрине мне была хорошо видна Тамара, которая, стоя за стойкой, считала вырученные деньги, потом, глядя в зеркальце, подкрашивала губы и поправляла волосы, потом переодевалась (снимала белый халатик и надевала светло-зеленый плащ) и наконец исчезала (уходила она обычно через служебный выход).
Чувство жгучей нежности к этому обворожительному существу боролось с самолюбием, которое не позволяло мне, позабыв все на свете, броситься за ним вслед.
Дома я рисовал по памяти ее портреты, на которых она была и похожа, и непохожа. На портретах у нее был более благородный и одухотворенный облик – такой ее делала моя оголтелая влюбленность.
Два раза я видел ее на улице идущей под ручку с молодым человеком довольно приятной наружности. Наверное, это был ее муж.
После она пропала. Я все ходил и ходил в бар, все пил и пил крепкий кофе, но Тамары не было. Гордость мешала мне спросить у новой барменши, куда подевалась ее предшественница.
«Быть может, она больна? – думал я. – Или она устроилась на другом, более подходящем месте? Или она вообще бросила работу и живет теперь на средства мужа? А вдруг она умерла? Ее давно уже похоронили, а я и не знаю ничего!»
С тех пор я ни разу ее не видел. Иногда я вынимаю из папки портреты и подолгу гляжу на милое и вроде бы даже родное лицо. Судьбе было угодно, чтобы я повстречал на своем пути эту кофейную красавицу, и до конца дней моих она останется в моей памяти.
В Помпеях жили 20 тысяч человек. В Помпеях все улицы были выложены гранитными плитами. В Помпеях были водопровод и канализация. В Помпеях было множество лавочек и таверн. В Помпеях было три величественных форума и больше десятка храмов. В Помпеях были роскошные термы, два театра и амфитеатр, в котором могли поместиться все жители города. Помпеи были маленьким провинциальным городком.
Среди людей, не успевших покинуть Помпеи в тот роковой день 14 августа 79 года, был человек с козой. Коза, видимо, упиралась, не хотела идти, и поэтому человек задержался. На шее у козы висел бронзовый колокольчик.
8.12
Мотивы, побудившие Наполеона предпринять поход в Россию, неясны. Чего он хотел? Покорить этот загадочный полуазиатский народ и присоединить к своей и без того гигантской империи эти бесконечные пустынные пространства? Мало ему было покоренных народов и завоеванных пространств? Его поведение в полупобежденной стране было и вовсе необъяснимо. Почему из Москвы он не двинулся на Петербург? Почему не даровал свободу крепостным? Почему, сидя в Москве, он ничего ровным счетом не предпринимал?
Свойственные ему энергия и вера в себя внезапно его покинули. Добровольно отдав инициативу русским генералам, он со странным фатализмом ждал, что будет дальше.
Видимо, сама Россия – зрелище бескрайних полей и непроходимых лесов, среди которых теряются серые, нищие деревеньки, – и непостижимый для европейца угрюмый и терпеливый народ глубоко потрясли Бонапарта. Прогуливаясь по кремлевским стенам, он понял всю нелепость своей авантюры. Сознание совершенной трагической ошибки парализовало его волю.
Пожар Москвы вывел императора из оцепенения, но поверг его в ужас. Русские сами уничтожали свою древнюю столицу, свою гордость, свою славу, символ своего могущества на Востоке! За что же тогда они воевали с такой отвагой и с таким ожесточением? И что же им дорого в этом мире?
И Бонапарт бросился в бегство. Скорее, скорее назад, в Европу!
10.12
Подлинный мастер не продолжает традиции, а создает их.
И снова – белый лик одиночества.
Придя в Россию в 1812 году, Европа увидела сумрачный, холодный, глубоко враждебный ей мир, о котором ранее знала лишь понаслышке. Это была она – Гиперборея!
У Пушкина не так уж много стихотворений. В некоторые годы им не было написано и двадцати стихов, например в 1832-м, 1833-м и в последнем, 1836-м. Поразительно, что «Памятник» был создан именно в этом, последнем году. Свое лучшее – «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» Пушкин написал в 30 лет.
11.12
Я не экспериментатор. Я использую некоторые, уже давно сделанные открытия в области поэтической формы, которые, увы, не в чести у поэтов моего отечества. В сущности, я традиционен. Но меня привлекают свежие, еще не покрывшиеся пылью и плесенью традиции двадцатого столетия.
Ленинградский литературный мир меня сторонится, московский попросту не замечает. Я где-то сбоку, на самом краешке литературной скамейки. Легкий толчок – и я свалюсь.
12.12
Вернули стихи из «Нового мира».
«Ваши стихотворения читали члены редколлегии. К сожалению, из-за переполненности портфеля отдела поэзии ничего отобрать не удалось.
В. Сикорский».
Два года назад я попытался написать свою биографию.
Алексеев Геннадий Иванович, поэт, художник, архитектор, искусствовед, кандидат наук, доцент, старший лейтенант запаса.
Русский, но с примесью польской крови (прабабкой соблазнился обедневший белорусский шляхтич).
Беспартийный, но 15 лет был комсомольцем.
Член профсоюза, член Общества охраны природы, член Общества охраны памятников культуры и истории, член ДОСААФ, член Общества спасания на водах.
Достаточно образован, но языками не владеет (ему хватает и русского).
За границей не был и туда не стремится (видимо, патриот).
Ни в чем не участвовал, ни к чему не привлекался, никуда не избирался и ни к чему не примыкал – всегда был в сторонке. Вспыльчив, необщителен, нерешителен, мнителен и самолюбив.
Любит кошек, живопись кватроченто, венгерский токай и большеротых блондинок.
Пьет умеренно в узких кругах.
Появился в неуютное время – в 1932 году.
Отец был военным, мать – женой военного.
До 1941 года был «гогочкой». Во время войны скитался по Северному Кавказу и Средней Азии, ночевал в бомбоубежищах, голодал, болел и отирался на толкучках.
В 1948 году решил стать писателем.
Окончил школу в 1950 году (довольно успешно).
Окончил институт в 1956 году (весьма посредственно).
Окончил аспирантуру в 1963 году (несколько неожиданно для себя).
Защитил диссертацию в 1966 году (с грехом пополам).
Стал доцентом в 1975 году (вполне заслуженно).
42 года прожил на Васильевском острове в сыром городе, который некогда был столицей Российской империи.
Первый раз участвовал в выставке живописи в 1952 году.
Первое литературное произведение создал в 1953 году.
Первое стихотворение опубликовал в 1962 году.
В 1976 году была напечатана его первая и пока единственная книжка стихов под туманным названием «На мосту» (кто-то из критиков ненароком изменил в названии одну букву и получилось гораздо убедительнее – «На посту»).
В 1942 году чуть не погиб от взрыва авиабомбы.
В 1944 году чуть не помер от таинственной восточной болезни.
В 1964 году чуть не утонул в бездонном колодце.
В 1977 году едва не наложил на себя руки.
Посетил следующие города: Сестрорецк, Зеленогорск, Выборг, Приозерск, Подпорожье, Красное Село, Петродворец, Ломоносов, Гатчину, Пушкин, Павловск, Новгород, Псков, Вологду, Калинин, Москву, Углич, Тутаев, Ярославль, Кострому, Загорск, Владимир, Суздаль, Переславль, Ростов, Орел, Свердловск, Челябинск, Хабаровск, Ташкент, Фергану, Самарканд, Навои, Бухару, Ашхабад, Красноводск, Баку, Тбилиси, Ереван, Эчмиадзин, Сочи, Гагры, Армавир, Краснодар, Феодосию, Алушту, Ялту, Бахчисарай, Симферополь, Севастополь, Одессу, Киев, Львов, Калининград, Клайпеду, Каунас, Вильнюс, Ригу, Таллин.
Впервые влюбился в 1940 году – ей было 8 лет, и она была прелестна.
В 1954 году пытался жениться на генеральской дочке (она была очаровательна).
В 1958 году женился на дочке отставного артиллерийского капитана (она тоже была недурна).
Его собственная дочь родилась в 1970 году (сына он не хотел).
Алексееву 46 лет от роду. Он бородат. Волосы его седеют. Телом он еще крепок, но душа его надломлена. Врагов у него тьма, но от борьбы он уклоняется. Пользуется некоторым успехом у женщин, но часто бывает мрачен и считает себя неудачником.
Наград не имеет.
14.12
У входа в кафе-мороженое вертелась бездомная собачонка – тощая, некрасивая, беспородная. Когда я открыл дверь, чтобы войти, она ловко проскользнула внутрь.
Стоя в очереди у стойки, я наблюдал за собакой. Она быстро обежала весь зал, все обнюхала, подобрала с пола какие-то крошки, проглотила их и облизнулась. Потом она стала подходить к сидевшим за столиками посетителям и просительно заглядывать им в глаза. Кое-кто бросал ей кусочки печенья. Одна маленькая девочка протянула ей недоеденное мороженое.
Было заметно, что собака не первый раз в этом кафе; наверное она частенько кормится здесь по вечерам, когда закрываются все прочие заведения, где можно чем-нибудь поживиться.
Почему так жалко бывает бездомных собак и кошек? Ведь им живется, небось, получше, чем их диким сородичам, – около человека всегда найдется что-нибудь съестное.
К жалости примешиваются еще и угрызения совести за людей: они этих животных приручили, отторгли их от природы, а теперь многие из них брошены на произвол судьбы. Животные людям доверились, а люди их предают.
Вот эта жалкая собачонка – приюти ее кто-нибудь, и она станет преданнейшим, вернейшим существом, пойдет за хозяином в огонь и в воду. Но никому, ни одной живой душе она не нужна.
Днем она роется в помойках, а вечером побирается в этом кафе, пока ее не вышвыривают на улицу.
Иннокентий Анненский носил фатовские офицерские усы, которые были ему совсем не к лицу. Тонкие на концах, они лихо загибались вверх, как у Николая Первого.
А в лице Федора Сологуба было нечто слоновье. На поэта он тоже был не похож.
Нынче гробы не заколачивают. Нынче крышки прикрепляют к гробам посредством специальных замков (техника!). Щелк! – и готово. А жаль. В стуке погребального молотка было нечто символическое. Это был как бы стук в дверь потустороннего мира, как бы возглас: «Впустите!»
А человек, в чьих руках находится молоток, испытывает нечто ни с чем не сравнимое (это я неоднократно испытал на себе).
Много дарует нам цивилизация, многого нас, однако, и лишает.
19.12
Шедевр Феллини «В сетях дьявола». Опять Достоевский (гибель Свидригайлова). Девочка в белом с жуткой усмешкой на тонких красных губах. И белый воздушный шарик. По-настоящему страшно и по-настоящему хорошо.
Тяжкие пласты времени, скопившиеся в прошлом и наползающие из грядущего, норовят расплющить меня. Ощущение мгновенности, микроскопичности бытия нестерпимо.
Жизнь потрясает меня не своим многообразием, не щедростью своих бесчисленных внешних проявлений, а своей сутью – как непостижимый феномен. Прожив почти полвека, я не могу к ней привыкнуть и не перестаю ей удивляться.
Я равнодушен к конкретностям, в том числе и к конкретному человеку. Меня интригует, восхищает и ужасает человек вообще. Мне не дает покоя, меня сбивает с толку и повергает в трепет ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
Отсюда моя слабость к вечным темам: жизнь – смерть, добро – зло, надежда – отчаяние, прошлое – будущее, сон – явь.
22.12
В 12-м номере «Невы» шесть моих стихотворений (намеревались напечатать не менее десяти). И на том спасибо.
Среди опубликованного стихотворение «Надо что-то делать…» Полтора года тому назад его наотрез отказались печатать в «Авроре», усмотрев в нем опасную двусмысленность. Пути господни, как известно, неисповедимы.
Подолгу, терпеливо стоят в очередях и всё покупают в огромных количествах: колбасу – килограммами, консервы – десятками банок, апельсины – целыми сетками. Приходят домой, с жадностью поедают добытые продукты, снова отправляются в магазины, снова стоят в очередях и снова едят, едят, едят…
Из всех даров истории достойна внимания только культура. Что бы ее ни порождало, она всегда благо. И если культура вырождается – история топчется на месте. Проходят ненужные года, текут никчемные столетия, проползают безгласые, полуслепые эпохи.
В столовую входит горбатая старуха с большими выцветшими глазами навыкате. В руках у нее посох – длинная палка, корявая и сучковатая. Старуха полубезумна от дряхлости, и все разговаривает с ней, как с ребенком: «Бабушка, вам ложку? Вот вам тарелка, бабушка!»
Последняя, посмертная книга Леонида Мартынова. «Золотой запас». Гладко, благостно, бестревожно. Никаких трещин в старческом усталом сердце. Неужто «Золотой запас» так ловко отредактирован?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































