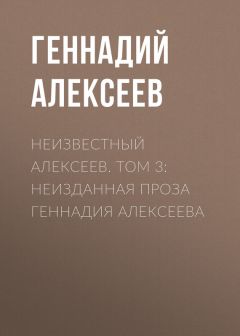
Автор книги: Геннадий Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
23.12
О, Кватроченто, приют моей бездомной души! О, мои мудрые наставники – Гоццоли, делла Франческа, Мантенья, Бальдовинетти, Беллини, Кривелли, Гирландайо! О, неземной, божественный Боттичелли! Стою в тени ваших аркад, скитаюсь по вашим каменистым дорогам, отдыхаю у прохладных ручьев в ваших долинах. Населяющие вашу страну мужчины, женщины, дети и величавые старцы снятся мне по ночам и грезятся наяву. О, Кватроченто, неувядающий благоуханный цветок минувшего!
Временами накатывает теплая волна воспоминаний – что-то из детства, отрочества, юности, а может быть, из первой моей жизни, а может быть, и вовсе из никогда не бывшего.
Аллеи каких-то неведомых парков, большие комнаты со старинными картинами на стенах, луга, усыпанные полевыми цветами, и загадочная, не очень широкая, тихая река с темной, почти черной водой и высокими зелеными берегами. И кто-то плывет по реке в длинной белой лодке. Быть может, это Харон? Быть может, это воспоминание о моей первой смерти?
И еще одна волна накрывает меня порой с головою – это чувство постыдного бессилия, ощущение невозможности совершить нечто важное, великое, ради чего я и пришел в этот мир. И странно – откуда мне известно о своем особом предназначении?
Опять Цветаева. Цветаевский эклектизм: нельзя любить одновременно Маяковского и Мандельштама – они полярны. Впрочем, ее поэзия между этими полюсами и пребывает.
Я не живу в мире, я нахожусь рядом с ним.
Интеллигентная милая женщина сказала мне: «У вас оригинальные, умные, изящные стихи, я с удовольствием прочитала ваш сборник. Но, знаете, такую поэзию способны понять немногие. Вы пишете для будущего. Вас признают лет через 60, не раньше».
С годами чтение прозы все более утомляет меня. Проза становится анахронизмом. Она порождена медлительными, ленивыми веками и предназначена для праздных людей.
Экономия средств – почти обязательное условие успеха для всех видов искусств, кроме прозы. Здесь чем сложнее, чем обширнее, чем витиеватее – тем лучше.
Жорж де Латур и Караваджо не реалисты. Их творения метафизичны, они над реальностью. Массовое сознание порождает эстетику полуискусства. Полумузыканты изо всех сил дуют в саксофоны, полупевцы, извиваясь в судорогах, хрипят в микрофоны, полупоэты выпевают свои полустихи под рокот гитарных струн. Но каков успех! Музыканту, певцу и поэту он и не снился.
У меня есть любимый пивной ларек. Он стоит в красивом месте – на набережной канала Грибоедова у Никольского моста.
Ценители пива ставят свои кружки на гранитные тумбы ограды и долго смакуют благородный напиток, закусывая его вяленой рыбой, которой всегда набиты их карманы.
Мне нравится наблюдать за пьющими и слушать их разговоры.
Степенные пенсионеры вспоминают прошлое и рассуждают о международной политике.
Бойкие работяги в промасленных ватниках смачно матерятся и подтрунивают над пенсионерами.
Офицеры в форме строго молчат и, выпив пиво, быстро уходят.
Одичавшие, спившиеся старухи тоже матерятся и переругиваются с пенсионерами и работягами.
Хорошо одетые люди средних лет и неопределенной классовой принадлежности подшучивают над старухами, рассказывают анекдоты и поглядывают на всех свысока.
Поджарые бородатые студенты разглагольствуют о чем-то мудреном и не обращают никакого внимания на окружающих.
Иногда у ларька возникает инцидент: кого-то толкают, оттаскивают в сторону. Доходит дело и до драки. Но все это как бы не всерьез, для развлечения. Пиво делает людей миролюбивыми.
Интересно, как я сам выгляжу у пивного ларька?
24.12
1962 год. Декабрь. Еду в Подпорожье читать лекцию об архитектуре. В вагоне холодно (−5º). За окном еще холоднее (−25º). Сижу в пальто и шапке и нервничаю. Это будет первая в моей жизни публичная лекция, самая первая. Не забыть бы чего! Не сбиться бы! Не потерять бы нить мысли! Не стушеваться бы перед большой аудиторией!
Приезжаю, выхожу из вагона. Температура воздуха уже −32 градуса. Весь поселок погружен в густой морозный туман, который подымается от плотины электростанции.
Иду в райком. Там меня радостно приветствуют, но выражают опасение, что по случаю сильного мороза на лекции будет немного народу. «Все равно надо читать, – говорят, – раз приехали, надо читать».
К началу моего выступления в зале сидел только один старичок в большой заячьей шапке с ушами врастопырку. После пришли две девочки среднего школьного возраста в теплых пуховых платках. Последним появился мальчик лет десяти в огромных, явно отцовских валенках.
Сначала я слегка запинался, но потом разговорился, и речь моя потекла плавно и красиво. Говорил я часа полтора, но совсем не утомился и мог бы говорить еще столько же.
Когда я закончил, в зале находился только мальчик в отцовских валенках. Он глядел на меня широко открытыми голубыми глазами. В глазах сиял восторг.
В тот же вечер я уехал домой. Был канун Нового года, и на станции скопилось несметное количество пассажиров, возжелавших провести праздник в Ленинграде. «Откуда их столько? – удивился я. – И как жаль, что они не ходят на лекции!»
Поезд брали штурмом. «Будто война! – думал я, изо всех сил пихаясь локтями. – Будто эвакуация!»
1942 год. Июль. Эвакуация. Красноводск. С трудом перебравшись через Каспийское море, мы с мамой живем на улице под открытым небом. Так же, как мы, на улицах, живут тысячи эвакуированных, поджидая своего поезда, чтобы двинуться дальше, в глубь Средней Азии. Температура в полдень +43 градуса. Воды не хватает. За ней приходится стоять у колонки по несколько часов.
Город голый, деревьев почти нет. Песок, асфальт, низкие глинобитные домики и нависающие над ними угрюмые красные скалы.
Каждый день от жары умирают грудные дети. Немцы, захватив Нальчик, подходят к Грозному.
В стихах Павла Васильева какая-то мрачная татаро-монгольская жестокость. В человеке ценил он только силу и беспощадность.
Лучше всего удавались ему кровавые сцены всяческих расправ. Был он этаким стихийным русским ницшеанцем. Ему бы – разбойником на широкий тракт, а он, бедняга, в сочинители подался.
Суриков создавал добротные иллюстрации к российской истории Ключевского и Карамзина. Сейчас они выглядят как кадры современных исторических кинофильмов. Все здесь «на уровне» – и антураж, и типаж, и реквизит, и композиция, и колорит. А Нестеров был русским прерафаэлитом. За это его Стасов терпеть не мог.
Лучшие в мире запахи – запах ландышей, запах лесной земляники, запах свежего сена, запах первых грибов и запах женских подмышек.
Филимоныч исчез в июле, в разгаре лета. Утром он не явился к завтраку.
Мама искала его у соседей, потом в овраге, потом у озера, потом в лесу за дорогой, потом… «Филька! Филечка! Филюша! Филимоша!» – звала она. Но кот не возвращался весь день, и весь следующий день, и всю неделю. Он вообще больше не вернулся.
«Ушел! – плакала мама. – Как он мог? Тринадцать лет мы кормили его, ласкали, расчесывали ему шерсть! А он, неблагодарный, бросил нас! Неужели ему было плохо с нами?»
Мы обшарили все углы, все укромные места на участке. Мы обошли все соседние дачи. «Хоть бы мертвого его найти!» – всхлипывала мама.
Соседи высказали предположение, что Филимоныч ушел помирать – кошки, предчувствуя свою смерть, всегда уходят из дому.
«Да, конечно, – сказала мама, – он не хотел огорчать нас своей смертью и ушел. Но как тоскливо было ему умирать в одиночестве!»
Этот красивый, пушистый, черный с белыми пятнами кот был членом нашей семьи. Однажды мой приятель принес его нам за пазухой (его жена не любит кошек и говорит, что от них болеют дети). Тогда это было крохотное существо с наивными фиолетовыми глазами, коротким острым хвостиком и очень цепкими коготками. По странному совпадению, с его появлением я резко изменил стиль своих стихов и обрел наконец свою форму (теперь я склонен усматривать в этом нечто мистическое).
К старости Филька совсем очеловечился и понимал много из того, что ему говорили. Иногда мы с ним ссорились, но это не мешало нашей дружбе. Его имя упоминается в нескольких моих стихотворениях, и я благодарен ему за то, что он жил на свете.
25.12
Большая честь – стать свидетелем конца света. Неужели он и впрямь неминуем? Неужели он и впрямь уже близок?
1945 год. Июль. Возвращение из Средней Азии в Россию.
Поезд идет на северо-запад вдоль Сыр-Дарьи. Бесконечные, заросшие камышом речные протоки с мутно-желтой водой. На каждой станции торгуют рыбой.
Ночь. Просыпаюсь оттого, что поезд стоит. Лежу и смотрю на светлые блики, проползающие по потолку. Снаружи доносятся голоса станционных рабочих, осматривающих колеса вагонов, слышно постукивание их молотков. Засыпаю и снова просыпаюсь. Поезд уже движется. Вагон покачивается, колеса стучат на стыках рельс. В Россию! В Россию! Четыре года я не видел леса, не видел берез и елок, не видел зеленых полей с ромашками!
Поезд подходит к Аральскому морю.
«Четыре… четыре… четыре… четыре, – выстукивают колеса, – четыре… года… не собирал грибов… не катался… не катался… не катался на лыжах».
Поезд торопится. Поезд несется на всех парах. «В Рос-с-си-и-и-и-ю!» – радостно кричит паровоз.
26.12
Была у меня поклонница. Жила в Москве. Училась в аспирантуре. Все писала и писала мне письма.
Однажды утром она возникла на пороге нашей квартиры. В одной руке у нее была маленькая, элегантная сумочка, в другой – огромный торт в красивой коробке, перевязанной голубой лентой.
Целый день мы с нею поедали этот монументальный торт. Целый день она смотрела на меня с восхищением.
Под вечер я сходил за почтой. Пришло письмо от другой поклонницы из другого города. Я разорвал конверт, прочитал. Письмо было наполнено восторгом.
– А можно и мне прочитать? – попросила гостья.
– Пожалуйста! – сказал я.
Она начала читать, и щеки ее побледнели. Не дочитав до конца, она отдала мне письмо. Через полчаса она заторопилась обратно в Москву и, сухо попрощавшись, ушла. Торт остался недоеденным.
Прошло с того дня года четыре. От нее ни слуху, ни духу. А я возненавидел торты. Меня от них просто тошнит.
В столовой посреди зала неподвижно лежит черный кот. Поза у него странноватая – лапы задраны кверху, а голова как-то неудобно запрокинута.
Кто-то подошел и потрогал кота носком ботинка. Кот не пошевелился.
– Кажется, он мертвый! – сказал этот «кто-то».
Подошел кто-то другой и легонько дернул кота за хвост. Кот не отреагировал.
– И точно, мертвый! – сказал этот второй кто-то.
– И чего тут удивляться? – сказала какая-то женщина. – В столовой такая еда, что даже кошки дохнут.
– Вот именно! Вот именно! – раздались голоса со всех сторон. – Кормят нас всякой дрянью!
– Он не мертвый! Не может этого быть! – воскликнула кассирша. – Он только что бегал и был очень веселый!
Женщина, выдававшая блюда, выскочила из-за стойки и склонилась над котом.
– Неужели он и впрямь помер?! – сказала она, жалостно всхлипнув. – Такой хороший был котик!
– Ты его за ухом пощекочи! – посоветовала уборщица. – Ты его за ухом!
Кота пощекотали за ухом, и он открыл удивленные янтарно-желтые глаза.
– Слава богу, жив! – со вздохом облегчения произнесла кассирша. – А то сразу – «дрянью кормят»! Не нравится – идите в другую столовку! А то сразу – «кошки дохнут»! Лишь бы языки почесать!
27.12
У меня во рту под языком был какой-то желвак, как теперь говорят – затвердение. Несколько лет он неуклонно рос и достиг размеров кедрового орешка. «Рак! – думал я. – Растет, твердеет. И место такое уязвимое – под языком. Конечно, рак!» Но к врачу не шел. Боялся, что мои подозрения подтвердятся.
Недавно выпала у меня пломба из корневого зуба, и я отправился к стоматологу. После того как пломба была восстановлена, я пожаловался на желвак. Стоматолог отнесся к желваку весьма серьезно и выписал мне направление к хирургу в лучшую городскую поликлинику.
Три мои попытки встретиться с хирургом оказались неудачными – все что-то мешало. «Это неспроста, – думал я, – ох, неспроста! Быть может, и не стоит мне обращаться к хирургу? Лучше пребывать в тоскливом неведении, чем глядеть в страшные глаза беспощадной правды. Протяну еще годика три – желвак-то растет не торопясь!»
Но все же, подавив в себе трусость, я предпринял четвертую попытку и попал-таки на прием.
Хирург оказался женщиной лет пятидесяти простоватого вида – коренастой, плечистой и коротконогой.
– У вас слюнной камень, и сейчас мы его удалим, – сказала мне эта женщина, очень похожая на мужчину.
– Как, так сразу? – удивился я.
– А чего тянуть? – ответила хирург и велела мне садиться в операционное кресло.
Через полчаса я выходил из кабинета с одеревеневшей от наркоза челюстью. В моем кулаке был зажат извлеченный из меня слюнной камень. Он был твердый, округлый и имел цвет слоновой кости. Формой он и впрямь походил на ядрышко кедрового ореха.
«Ну что ж, поживем еще немного», – думал я, натягивая пальто в гардеробе. Мне было немножко грустно, оттого что все обошлось так просто, безо всякой трагедии.
Пройдясь по Невскому, я зашел в распивочную и выпил полстакана по случаю благополучного избавления от многолетней напрасной тревоги.
«Дурак я, однако, – подумал я слегка захмелев, – давно надо было сходить к хирургу».
Челюсть моя оттаяла. Я пошевелил языком и осторожно ощупал то место, где торчал столь волновавший меня нарост. Теперь там было гладко, непривычно гладко и как-то пусто. «Все-таки приятно находиться на этом свете», – подумал я умиротворенно и покинул распивочную.
Обед с Д. в «Демьяновой ухе». Д. любит рыбу, и мы с ним уже неоднократно предавались чревоугодию в этом ресторанчике. Я предпочитаю мясо, но из вежливости не возражаю против «Демьяновой». Д., по обыкновению, рассказывает смешное, а я, по обыкновению, с удовольствием смеюсь. Сам я не умею и не люблю рассказывать смешное.
Д. спросил: «Сколько стихотворений написали в прошлом году? Десять? Двадцать?»
«Девяносто», – ответил я. Д. удивился.
28.12
Выставка «Искусство Ярославля». Помимо великолепных, хорошо отреставрированных икон большая коллекция портретов работы провинциальных живописцев начала прошлого века.
Красномордые, звероподобные купцы в поддевках, дебелые, рыхлые купчихи с бесчисленными кольцами на толстых пальцах, коллежские регистраторы с гладко зачесанными и напомаженными волосами, бравые штабс-капитаны с выпученными, бессмысленно-мутными глазами, их жены – уездные и губернские красавицы с игривыми улыбками на тонких бледных губах, отставные плешивые генералы с крестами в петлице и на шее…
Портреты написаны тщательно и наивно. Временами – почти Руссо, почти Пиросмани.
Много лет провалялись они в кладовых краеведческих музеев и вдруг предстали взору россиян второй половины двадцатого столетия. Очевидная непрофессиональность этого доморощенного искусства с лихвой окупается искренностью, почти детской и до слез трогательной.
Не зря старались провинциальные портретисты. Их добросовестность наконец-то вознаграждена – их творения выставлены в самом Петербурге! Об этом они не смели и мечтать.
29.12
Картина Клингера «Вечер».
Пологий склон зеленого холма. Невысокие деревья. Кусты с какими-то большими темно-красными цветами. На переднем плане четверо – три девушки в разноцветных легких одеждах и полуобнаженный юноша. Они играют в какую-то неизвестную мне древнюю игру. Юноша пытается набросить большой венок из роз на плечи одной из девушек, которая со связанными за спиной руками бежит, опасливо оглядываясь назад. Две другие девушки удерживают юношу с помощью длинных широких шарфов. В глубине картины пустынный, загадочный берег моря с голыми безжизненными холмами. Море фиолетово-синее с белыми барашками волн. На бледно-голубом вечернем небе розовеющие от заходящего солнца прозрачные облака.
Вроде бы ничего особенного – типичный академизм. Безукоризненный рисунок, хороший колорит, умело построенная композиция – не дает мне покоя. В нем заключена какая-то тайна. Где-то, когда-то я все это видел и тоже бежал по этой плотной, густо-зеленой траве к печально шумящему морю. И девушку, ту, первую, которая убегает, озираясь, я хорошо помню. Но где это было со мною, когда это было?
В «Алисе» Кэрролла больше поэзии, чем во всех сочинениях Гёте.
Мир гениального поэта четырехмерен. Но четвертое измерение сокровенно, оно открывается только гениальному читателю.
Не люблю Сартра. Сартровский экзистенциализм туманен, в нем можно найти опору для любой нравственной и общественной позиции. Сочинения Сартра женственны, они полны интеллектуального кокетства.
30.12
Писать нужно о самом главном, о самом-самом. Жизнь коротка, и преступно тратить ее на мелочи.
Позвонил Даниил Гранин. Сказал, что моя книжка (вторая) доставила ему большое удовольствие, что он не ожидал (первую он прочитать не удосужился), что он удивлен, что он озадачен и т. п. Еще сказал, что я занимаю в современной русской поэзии особое место.
Дневниковая проза от природы порочна, она страдает нарциссизмом. Впрочем, лирическим стихам авторское самолюбование присуще в еще большей степени.
Что для меня эти записки? Попытка подвести предварительные итоги? Еще одна возможность высказаться и очертить границы своего поэтического государства?
Я тянулся к строгому стилю и старался избегать литературных красивостей, но вряд ли мне это удалось в полной мере.
Внешне моя жизнь может служить образцом благоприличия. Я был пай-мальчиком, теперь я пай-дяденька и мне предоставляется возможность стать пай-старичком.
Трудно придумать более скучную и «правильную» модель жизни: примерный ученик, старательный студент, способный, подающий надежды аспирант, трудолюбивый, добросовестный доцент, интеллигентный, хорошо воспитанный стихотворец.
Ничего со мной не случалось, ни в какие сомнительные истории я не влипал, к суду ни разу не привлекался, с женой не разводился и незаконных детей у меня нет.
Двадцать лет надежд и безнадежности, усердия и нерадивости, веры и безверия, гордости и унижений, ожиданий и неожиданностей, страха и бесстрашия, падений и воспарений, самообольщений и саморазоблачений, доверчивости и осторожности, печали и ликования, эгоизма и самопожертвования, находок и потерь, ночных бдений и восхитительных, незабвенных снов.
31.12
Моя вторая книга не замечена, как и первая.
Как осмелился я стать поэтом? Да еще где – в России! Да еще когда – во второй половине XX столетия!
Используя успехи новейшей мировой поэзии и возможности воистину неисчерпаемого русского языка, я создал свою поэтическую систему. В моих стихах запечатлены трагические судороги сознания мыслящего и чувствующего двуногого, обреченного жить в жутковатую эпоху, когда судьба заблудившегося в собственной истории человечества повисла на волоске.
Обстоятельства моей жизни не споспешествовали моим деяниям, но моя воля смогла им противостоять. Я сделал свое дело.
Из почтового ящика извлек открытку с дореволюционной маркой. Знакомый небрежный почерк. Старая орфография. Петербург, Васильевский остров, Наличная улица, д. 21, кв. 53. Геннадию Ивановичу Алексееву.
Милостивый Государь!
Соблаговолите принять мое искреннее поздравление с Новым, 1981 годом!
Постарайтесь быть чуточку счастливым и не забывайте обо мне!
А. Вяльцева
Часы бьют полночь. Преодолена еще одна ступень на лестнице того времени, которое отпущено мне Великим и Неведомым.
1982
Человек в электричке, самозабвенно, с жадностью пожирающий грецкие орехи. Он раскалывает их с помощью ключа от квартиры. Электричка остановилась. Приехали. Ленинград. Все выходят. Человек продолжает есть орехи. Вагон опустел. Остался только человек – любитель орехов. В тишине раздается громкий треск скорлупы. Потом чавканье. И снова треск. Электричка трогается и задним ходом уезжает в парк. В ней человек, помешавшийся на грецких орехах.
Церковные свечи в коробках из-под шотландского виски (свечи продают в скверике у Преображенского собора).
Музыка Моцарта округла и уютна (идиллический пейзаж с пологими зелеными полянами и куполом кудрявых деревьев).
Музыка Бетховена угловата и неприветлива (суровый гористый пейзаж с нагромождением скал и неприступных каменных башен).
Музыка Шопена прозрачна и печальна (осенний лес в солнечный прохладный день).
Шопен и Бетховен полярны. Моцарт – золотая середина. У него все в меру.
Какой же пейзаж достоин Баха? Бах – тоже середина. Но он выше Моцарта. Он на земле не умещается. В его безмерностях сверкают звезды, сияют кометы, поблескивают бока планет. Человека тут не видно. Он незаметен. Он слишком мал.
Когда нечего сказать, лучше помолчать. Но многие предпочитают повторять уже сказанное – они опасаются молчания.
Символисты претенциозны, вычурны и слащавы. Но они расчистили завалы поэтической пошлости, нагроможденные XIX столетием. Акмеисты деланно благородны, архаичны и скучны. Они эти завалы старательно восстановили.
Самый ранний из моих предшественников – Алоизиус Бертран. «Гаспара из тьмы» прочитал с изумлением и удовольствием.
Маленькая старушка в белом платочке медленно бредет по улице и заглядывает в каждую мусорную урну. Что она ищет? Пустые бутылки? Кажется это называется – одинокая старость.
Отвратительные уменьшительные окарикатуренные имена: Вовик, Шурик, Стасик, Жоржик. Что-то собачье (Шарик, Бобик, Тобик).
Нехорошо, когда десятилетний подросток, с презрением озирая мир, сплевывает сквозь зубы на асфальт. Нехорошо плевать на асфальт. Нехорошо плевать на асфальт, нехорошо с детства презирать мир.
Опера – столь же нелепый жанр, как и роман в стихах! И то и другое надуманно, громоздко и неуклюже.
И снова – Блок ни разу не был в Крыму. Видать, не тянуло. Зато он был в Италии. Я уже много раз бывал в Крыму. И все тянет. Зато я ни разу не был в Италии. Хотя в Италию, признаться, меня тоже тянет.
Соревнуясь с самим собой, он одновременно выигрывал и проигрывал. Соревнуясь с самим собой, он одновременно бежит впереди себя и себя же догоняет. Это его забавляет. Соревнуясь с самим собой, он выбивается из сил. Но не сдается.
Блок любил далекие пешеходные прогулки, но не любил путешествовать.
И опять Настя со мною в Ялте. Наверное, ей жарко в этой кофточке со стоячим воротничком и длинными рукавами. Но ничего – терпит. Интересно, умеет ли она плакать? И любит ли она купаться?
Шедевры классической японской поэзии творили старики. В полном одиночестве, в заброшенных горных хижинах; они воспели печаль тихого угасания жизни на лоне вечно прекрасной и юной природы. Но ведь все эти люди писали стихи и в младые годы!
Пансионат «Крымский». У входа покрашенная серебряной краской сидящая фигура какого-то бородатого старца. Внизу – полустертая надпись. Наклонился, прочитал:
Академик Павлов.
Единственным подлинным самобытнейшим поэтом России в XIX веке был Фет. Он открыл эпоху символизма и прорвался в будущее. Верлен выглядит его способным учеником. Бедные французы! Они ничего не знают о Фете!
Я древний эллин, чудом очутившийся в варварском XX веке. С изумлением взираю на человечество. Оно бьется в конвульсиях, его мучают припадки эпилепсии. Когда началась болезнь?
Из 50 лет своей жизни целый год я прожил в Крыму – в Ялте, в Алупке, в Симеизе и в Коктебеле.
И еще я смею называть себя несчастным! А Волошин? Вот уж полнейший счастливчик!
Инвалид на пляже. Без обеих рук. Коротенькие, округлые культяпки беспомощно и страшно свисают с плеч.
В Крымском пейзаже царствуют четыре благородных дерева: пиния, кипарис, ливадийский кедр и крымская сосна. В разнообразнейших сочетаниях с морем, небом, скалами и самими собой они и творят все это.
В столовой за одним столом со мною сидит стандартный человек лет шестидесяти со стандартным круглым ликом, со стандартными, еле заметными маленькими глазками, со стандартными бровями и тонкогубым ртом и стандартным брюшком. На писателя он мало похож. Впрочем, какие только не водятся новые писатели! И наверное, это дурной тон – иметь типично писательский облик. Многие статьи об известных советских литераторах начинаются именно с этой фразы: «На писателя он мало похож». Выходит, что почти все писатели на писателей почему-то не похожи. Это озадачивает. Так и подмывает поиграть:
Вот повар – на повара
он не похож,
вот палач – на палача
он вряд ли похож
вот слесарь – на слесаря
он едва ли похож,
вот врач-стоматолог – на зубодера
он совсем не смахивает,
вот пианист – но он похож
скорее на скрипача,
вот разбойник – но на вид
он добрейший из людей,
а вот добряк – человек тишайший,
а поглядишь на него и вздрогнешь.
Глядя на Блока никому и в голову не могло взбрести, что он не поэт. И как это было чудесно, однако.
Но почему, почему мне так хотелось назвать свою дочь Анастасией?
Мир моей живописи симметричен, ибо симметричен и сам человек. Мир моей живописи таинственен, но человечен.
В нашем дворянстве был русский дух, и он сочетался с европейской просвещенностью. В нашем крестьянстве был русский дух и не было никакой просвещенности. В общем, была определенность.
Новое дворянство отсутствует. Его заменяет отчасти интеллигенция. Ей не хватает и подлинного русского духа, и подлинной просвещенности. На истинно русское претендует вульгарная и крикливая полуинтеллигенция, подвизающаяся на поприще массовой культуры.
Национальное выступает здесь в опошленном, окарикатуренном, балаганном виде. От него за версту несет водкой и хамством. Культура русского дворянства XIX столетия остается вершиной в духовном развитии нации.
Дня три тому назад в столовой на столе, за которым я имею удовольствие завтракать, обедать и ужинать купно с тремя прочими едоками, вдруг появился букет роз, вторгнутый в бутылку из-под кефира. Однако на других столах никаких цветов не обнаружилось. Все мы, четверо сотрапезников, были слегка этим обстоятельством заинтригованы. Вчера один из моих соседей по столу спросил официантку о розах.
– Это товарищу Алексееву! – ответила она. – Одной нашей девушке-посудомойке очень нравятся его стихи.
Сегодня вместо уже увядших роз из бутылки торчали гладиолусы.
Ну чем я не народный поэт? Посудомойки плачут над моими стихами!
А если без иронии, то даже здорово.
(И ведь проведала же она, что я поселился в Доме творчества, разузнала, за каким столом я сижу и даже на каком именно месте – букет-то стоит прямехонько напротив моего стула!)
Сейчас, когда я это пишу, Настя глядит на меня с какой-то тихой грустью и будто хочет сказать: «Бедный ты мой!»
Наверное, это Настя и ставит цветы мне на стол Притворилась посудомойкой – что ей стоит? Ведь была же она когда-то горничной дешевой гостиницы!
Есть женщины умные и есть женщины умничающие. Последняя разновидность непереносима.
Существует неприятная болезнь – недержание мочи.
Существует недержание речи – устной и письменной. Симптом последней – увлечение грандиозными формами – эпическими поэмами, романами в стихах и прозе. Европейская поэзия всегда страдала этим недугом. Все началось с Гомера, а далее Гораций, Вергилий, Торквато Тассо, Мильтон, Байрон, Гёте… И вот приговор истории: все и поныне читают Катулла, средневековых японцев, Вийона, Омара Хайяма, сонеты Петрарки и Шекспира. Но кто способен сейчас, кроме филологов, насладиться «Одиссеей», «Божественной комедией» и «Фаустом» или «Чайльд-Гарольдом»?
Учиться писать нужно у японцев. Они умели обходиться без мусора.
Стены многих крымских домов, выложенные из красивейшего местного зеленовато-серого камня, замазаны белой или голубой известкой. Украинцам красота камня непонятна. Для них побеленная глиняная хата – эталон изящной архитектуры.
У входа в парк, окружающий наш литературный дворец, растут две старые великолепные пинии с толстыми серыми, морщинистыми стволами и широкими расходящимися кронами. Каждый день я прохожу под громадными зонтами, и это доставляет мне большое удовольствие.
Седая, тощая, модно одетая и кокетливо подстриженная молодящаяся старуха. Она высохла от своего неженского ума и чрезмерной интеллигентности.
Увидев мои тапочки, она воскликнула: «О, где вы купили такую изящную обувь?»
Тапочки у меня обыкновенные – парусина с резиной, но я их слегка модернизировал, вырезав ножницами изящные детали. Голь на выдумки и впрямь очень хитра.
Давно уже хотелось сходить в Форос. Поехал.
Севастопольское шоссе – широкое, гладкое, с красивыми указателями и дорожными знаками, с белыми продольными полосами, разделяющими движение, бесполезными поребриками и железными ограждениями. По сторонам пейзажи умопомрачительной красоты. Автобус – экспресс. Не успел и пикнуть – уже Алупка и сразу же Симеиз, а за ним и Кастрополь. Невысокие, но прекрасные горы за Симеизом. Растворяясь в голубой дымке, они уходят на запад, в сторону Севастополя.
Приехал. Горы обступают Форос с трех сторон и нависают над ним. У них первозданный, легкий, романтический вид. (Почему я так люблю эти живые утесы, нагромождение скал и гигантских камней – я, родившийся и живущий на равнине?) На отдельно торчащей отвесной желтой скале – церковь! А поселок жалкий, крохотный, неуютный, пыльный. Народу мало, но по улицам, громыхая непрерывно, носятся грузовики: из-за деревьев торчит высокий стальной ржавый каркас – строят санаторий.
Крикливая бабка в автобусе:
– Ажно зло берет! Трутся, лезут, лягаются, ноги друг дружке топчут! Ишь сколько народищу понаехало! Отдохнуть все желают! Раньше не отдыхали и жили себе хорошо, без отдыху!
Иду по царской тропе. Передо мною идет кошка. Время от времени она обязательно величаво на меня поглядывает, но с тропы не сворачивает. Так мы с нею и идем царским путем с запада на восток.
Вдруг из кустов выпархивает большая птица с рыжими перьями на крыльях. Кого-то она мне напоминает. Да это же сойка! И здесь, в Крыму, оказывается, водятся сойки.
Живу, чтобы писать. Пишу, чтобы жить. Перестану писать – умру. Умру – перестану писать.
В Крыму я живу как подобает стихотворцу – сосредоточенно, без дрянских мелких забот. Ничто не мешает мне здесь глядеть в себя и в небеса. Ничто не стоит здесь между мною и Бытием, между мною и Временем, между мною и Смертью.
Сегодня у Насти с утра очень строгое лицо Что я натворил? Чем я провинился?
Однорукая девушка. Миловидная, светловолосая, светлоглазая, тоненькая, гибкая.
Левая рука обрублена чуть ниже локтя. Болтается пустой рукав кофточки. Отчего? Почему? Что с ней случилось?
Войны нет уже 37 лет.
Но дохнуло войной.
Мои коллеги-литераторы сплошь оптимисты. Им кажется, что они бессмертны. Но может быть, они впрямь бессмертны и смертен только я?
С каким старанием, однако они скрывают секрет своего бессмертия!
Приближается разлука с Крымом. Завтра я уезжаю на север.
Грустно.
Будто расстаюсь с любимой женщиной.
За 25 дней ялтинской жизни я написал 43 стихотворения. Что со мной творилось здесь, на берегах теплых сине-зеленых вод? Никогда в жизни я не писал так много. Никогда не писалось мне так легко. Что все это означает?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































