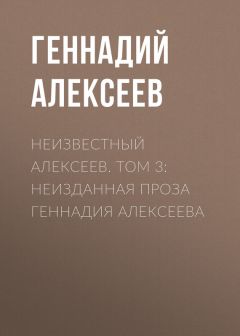
Автор книги: Геннадий Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Обтершись полотенцем, я сажусь за стол, чтобы немного поработать. Но едва я надеваю очки, как моя переносица влажнеет и снова что-то течет у меня вдоль носа к губам. Облизнувшись, я ощущаю, что эта жидкость солона, как морская вода (пожалуй, еще солонее).
Но это истязание зноем доставляет мне и некоторое удовольствие, как горячая баня с паром. На то он и юг, чтобы было жарко.
Вечером стало прохладнее.
Сижу на балконе, гляжу на море и на Ялту. Море постепенно тускнеет, погружается в фиолетовую дымку. По нему медленно ползают катера, таща за собой хвосты разрезаемой воды. В Ялте зажигаются первые огни, а на небе зажигаются первые звезды.
Рядом со мною (на фотографии) сидит Настя. Сидит смирно и о чем-то думает. Руки у нее все так же сложены на коленях, а голова все так же слегка склонена к правому плечу. Ее пышные волосы уложены все так же аккуратно и эффектно оттеняют светлую чистоту ее лица.
Ах, милая Настя, ты умерла вовремя. Ты умерла не очень молодой (молодой умирать все-таки обидно), но и не старой (умирать старухой как-то вульгарно). Ты умерла очень красивой и в зените своей славы. Ты умерла накануне роковых событий, о которых, быть может, тебе не следовало и знать.
Вот и ночь настала. Прямо над моим балконом тянется Млечный путь. Стараюсь убедить себя в том, что эта бледная полоса состоит из миллиардов звезд. Но мысль об этом, как мячик, отскакивает от сознания. Грандиозность вселенной не умещается в человеческом мозгу.
Здесь, в Крыму, я впадаю время от времени в состояние эйфории. Тихое блаженство и никаких желаний. Полная гармония моего «я» и мира. В такие минуты, если закрыть глаза, начинает казаться, что ты, слегка покачиваясь, плывешь по легким волнам безмятежности. Быть может, к тем берегам, которых и нет на Земле.
Я блуждаю в собственных стихах. Я кружусь на одном месте. Как собака, я ловлю себя за хвост, но он ускользает от меня, и я в отчаянье. Меня душит собственный стиль. Меня губит мною же рожденное любимое дитя. Мне необходим некий толчок извне, некий шок, некое потрясение, которое отбросит меня в сторону от моей уже хорошо утоптанной тропы.
Взял с собою из Ленинграда набросок рассказа, сделанный в Алупке в 1974 году, дабы, вдохновясь свежими впечатлениями от Крыма, превратить его в настоящий рассказ. Но перечитав эти записи еще раз, я понял, что их не надо ни во что превращать.
Ай-Петри
Двадцать дней я прожил на глазах у знаменитой горы. И вот наконец я решил подойти к ней поближе.
Дорога в гору, к верхней автостраде. За мною увязался пьяный сумасшедший урод, которого я часто вижу у магазина. Он меня приметил и неоднократно выражал мне знаки внимания.
Безумец упорно преследует меня, двигаясь сзади, на расстоянии метров двадцати. Я прибавляю шагу, и он тоже. Я почти бегу, и он, каналья, тоже бежит.
– Стой! – орет он. – Стой, а то убью!
Я останавливаюсь. Он подходит, улыбаясь, и дружески пожимает мне руку.
– Куда ты так торопишься, чудак? – говорит он мне. – Мне так хотелось пожать тебе руку!
Автострада. Безлюдье. Только машины и мотоциклы. Лес. Из леса выглядывают скалы. Над ними синеет вершина горной гряды.
Жесткие, колючие растения у обочины. Молоденькие пушистые сосенки. Прямо передо мною в высоте розовеют на вечернем солнце зубцы Ай-Петри.
Таблички с надписями, запрещающими входить в лес. Домик лесного обходчика. Вид сверху на побережье и на море. Там, внизу, еще светло, а здесь, у подножия гор, уже густая тень, уже вечерние сумерки.
Ржавые, мрачного вида опоры недостроенной канатной дороги на вершину все той же Ай-Петри. Ветер свистит в железных решетчатых фермах.
Стук и говор в кустах. Автотуристы расположились на отдых. Рядом с машиной на земле разостлана клеенка. На ней тарелки и бутылки. Вокруг нее несколько человек, детей и взрослых.
Спуск вниз. Каменистая сухая дорога. Дикие яблони, невысокий дубняк, заросли шиповника и ежевичника. Виноградники. Виноград еще мелкий, зеленый.
Нижнее шоссе. Горы уже все погрузились в тень. Только на башнях Ай-Петри еще заметны последние блики от заходящего солнца. Но море еще освещено, и у горизонта виднеется силуэт какого-то судна, движущегося к Севастополю.
Рядом со мною останавливаются две роскошные заграничные машины. Дверца одной из них открывается. Выходит элегантно одетый иностранец и на довольно прилично русском языке спрашивает меня, как проехать к Ласточкиному гнезду.
Дорога к Кореизу. Кореиз. Автобусная остановка. Ожидание автобуса. В просвете узкой улочки на желтом фоне послезакатного неба, как гигантский гнилой зуб, темнеет зловещий силуэт Ай-Петри.
Автобус на Алупку. Густо-серая стена моря. И уже совсем черные, мрачные горы. Около меня сидит девушка с рыжим чемоданом. Она вертится и с интересом смотрит по сторонам.
– Что это там торчит? – спрашивает она, показывая на горы.
– Это Ай-Петри, – говорю я, – самая красивая и самая загадочная гора на Южном берегу Крыма.
9.7
Магазин был закрыт на перерыв. Но сквозь стекла витрин были видны сосиски, горой возвышавшиеся за прилавком. У дверей стала быстро накапливаться толпа. Люди с вожделением глядели сквозь витрины на лакомство. К открытию толпа уже имела внушительный вид, и в ней шли споры: кто занимал и кто не занимал? Кто стоял и кто не стоял? Все напряженно ждали сладостного мгновения, когда двери наконец распахнутся. И вот это мгновение настало!
Забыв, кто за кем, кто где, люди, толкаясь, бегом кинулись внутрь, к прилавку. Две старушки, зацепившись друг за дружку, упали, выронив из рук кошелки. Но никто даже не попытался им помочь, а бежавшие вслед за ними явно воспользовались их падением, чтобы прорваться вперед, поближе к сосискам. Бедные старушки оказались в самом хвосте очереди, которая еще долго гудела и колыхалась, пока не приняла свой окончательный вид.
А вокруг набитого людьми магазина во всей своей царственной роскоши располагалась крымская природа: острия кипарисов вонзались в знойное южное небо, за картинной, до неестественности эффектной скалой голубели дальние горы, а внизу синело спокойное и огромное море. Из дверей по одному выходили потные распаренные, усталые люди со счастливыми, сияющими лицами. Они бережно прижимали к груди свертки с сосисками.
Доброта и красота человеческая.
Для христиан куда важнее доброта. Но в античном язычестве красоту ставили выше.
Христианство отрывало человека от вселенской гармонии. Оставались только Бог и человек. И человек обязан был, забыв о себе, взирать на Бога и исполнять ниспосланный им нравственный закон.
А древний эллин ощущал себя зеркалом великого совершенства сотворенного богами мира и гордился своей красотой. Для него гармония форм была высшим законом всего сущего.
Доброта нужна в человеческом общежитии, красота же людей, так же как и красота природы, имеет ценность абсолютную, безотносительную, космическую, трансцендентную.
Интересно, что даже богов своих греки особой добротой не наделяли. Они у них часто злы, капризны, немилосердны.
В христианскую эпоху человек красивый, но недобрый, стал моделью особого рода прельстительной, изощренной греховности. Это был дерзкий вызов миру, где все стремится к совершенству (если человек зол, то хорошо, что он хотя бы красив).
Была ли и впрямь историческая необходимость в появлении и распространении христианства? Или это одна из трагических ошибок истории?
Каким бы стало человечество XX столетия, не будь христианства и средневековья?
Житие в некогда античном Крыму делает меня язычником.
Ветрено. Море слегка штормит. По нему бегут белые барашки. Откуда-то издалека, видимо из Турции, бегут они к берегам Тавриды. Листья пальм мелко-мелко трепещут под ветром, но тяжелая листва магнолий остается величественно-недвижимой.
В Крыму так и не выветрился запах старой России. Как и в Питере. Временами от этого запаха слегка кружится голова.
Я подобен некоему агрегату с автоматическим управлением, запрограммированному на много лет вперед. Каждый год я сочиняю 70–80 стихотворений, которые возникают во мне как бы сами по себе – я почти не прилагаю к этому усилий.
Кто же меня запрограммировал? Господь Бог, в которого я не верую? Или некий всеобъемлющий космический разум? Впрочем, это почти то же самое, что и Бог.
Черный, совсем черный человек. То ли африканец, то ли до ужаса загоревший пляжник. Улыбнулся и ослепил меня оскалом сплошь золотых крупных зубов. Редкая человеческая порода – темная кожа и золотые зубы.
В столовой за столом вместе со мною сидят две очень юные девицы – писательские дочки. Они скромны. Они все время молчат и не подымают глаз.
Сидит также весьма пожилая интеллигентная дама, сухая, высокая, горбоносая, похожая на грузинку.
Вчера появился еще один сотрапезник – темноволосый, круглолицый субъект средних лет. Он держится уверенно, то и дело самодовольно ухмыляется и при каждом удобном случае пытается со мною заговорить. Я его, видимо, заинтересовал. Вечером он спросил, где это я весь день пропадал, и мне пришлось рассказать о моем посещении Симеиза и Алупки.
– С экскурсией? – полюбопытствовал он.
– Нет, вполне самостоятельно, – ответил я и добавил: – Не люблю экскурсий.
Человек этот ест страшно быстро, будто процесс принятия пищи ему крайне неприятен и он хочет поскорее с ним покончить. При этом он низко, как собака, наклоняется над тарелкой.
А пожилая дама сегодня обратилась ко мне с вопросом:
– Ходят слухи, что вы альпинист? Правда ли это?
– Нет, что вы! – ответил я. – К спорту я всегда питал неприязнь.
– Значит, ложные слухи, – заключила дама.
После обеда отправился к дворцу, башня которого, торчащая над зарослями парка, видна с крыльца нашего Дома творчества.
Эта башня показалась мне знакомой – где-то, в каком-то старом архитектурном журнале я видел ее фотографию.
Долго пробирался вверх по склону горы, обходя какие-то сараи и кучи мусора, и наконец уперся в высоченную, красивейшую подпорную стену, выложенную из крупных известняковых камней. К стене прилепились убогие хижины с маленькими верандочками и навесами из ржавого железа. На веревках сушилось белье. Бегали тощие кошки. Тявкала сидевшая на цепи не менее тощая дворняга.
Из-за белья выглянула женщина с головой, обмотанной ярким платком. Спросил ее, как пробраться к зданию, что стоит выше на горе.
– А вот туточки! Видите – калитка деревянная? Через нее и пройдете, – ответила женщина.
Толкнул рукой калитку, она раскрылась, и я оказался на крутой лестнице, которая вела к стрельчатой арке. Перед аркой возлежали два изуродованных каменных льва.
За аркой появилась еще одна лестница, она вывела меня на широкую, вымощенную каменными плитами площадку, огороженную фигурной оградой в мавританском стиле. Над площадкой возвышалась сказочная вилла в восточном вкусе с бесчисленными галереями, лестницами, аркадами и той самой башней, которую я видел издалека. Вернее, возвышалось то, что осталось от некогда сказочной виллы, возвышались живописные руины.
И тут я вспомнил. Это была вилла Вадарской, опубликованная в Ежегоднике Общества архитекторов-художников не то в 1906, не то в 1908 году. Я открыл остатки всеми забытой виллы Вадарской, одной из самых примечательных построек начала века в Крыму!
Приглядевшись, я заметил, однако, следы строительной деятельности – виллу явно восстанавливали. Но людей не было видно, хотя откуда-то из глубины руин доносились голоса. С трудом пробравшись сквозь заросли высокой колючей травы, я вышел к противоположному фасаду и увидел четырех рабочих, которые, стоя на лесах, что-то оживленно обсуждали. Я обратился к ним с вопросом:
– Вы не скажете, кому принадлежал раньше этот дворец?
Один из четырех, недружелюбно на меня поглядев, сказал:
– У нас не справочное бюро, справок не даем!
– Зачем же так невежливо! – сказал я. – Я архитектор из Ленинграда, и меня заинтересовала архитектура этого здания.
– Идите сюда! – сказал рабочий. – Мы вам тоже зададим вопрос.
Я взобрался на леса и увидел, что строители заняты выкладыванием из кирпича стрельчатой арки.
– Вот скажите, – спросили они меня, – как надо класть кирпич в арку – стоймя или лежа?
– Конечно, стоймя, – ответил я, – иначе кирпич не заклинится. А это не вилла Вадарской? – спросил я в свою очередь.
Рабочие поглядели на меня с уважением, убедившись, что я и впрямь архитектор.
Выяснилось, что виллу богатейшего крымского винодела Вадарского, а впоследствии – его жены сейчас восстанавливают для дома отдыха некоего весьма значительного учреждения. Восстанавливают тщательно, не жалея денег и материалов, – заказчик богат. Купол уже покрыт листовой медью, и скоро все детали сооружения примут первоначальный вид.
Попрощавшись с каменщиками, я стал спускаться вниз по уже знакомым лестницам, миновал грандиозную подпорную стену, выбрался на улицу и вскоре уже был в центре Ялты неподалеку от набережной. Здесь я стал фотографировать постройки в духе модерна.
Сфотографировав гостиницу «Украина», я направился к ближайшему кафе, но был остановлен неким гражданином, который сказал, что хочет со мною о чем-то поговорить. Он взял меня за локоть и отвел в сторону. Я недоумевал.
– Вот вы фотографировали гостиницу, – начал незнакомец, – а зачем это вам? Кто вы такой?
– Я архитектор, – ответил я любопытному гражданину, – гостиница представляет интерес как произведение архитектуры начала нашего века. А в чем, собственно, дело? Вы-то кто такой?
– Я директор гостиницы, – сказал гражданин. – Что же вы так вот фотографируете? Зашли бы ко мне, представились бы, сказали, зачем вам это нужно.
– Уважаемый товарищ! – сказал я свирепея. – Вы полагаете, что, прежде чем фотографировать какое-нибудь здание, надо обязательно у кого-то спрашивать разрешения? Разве ваша гостиница – секретный объект государственной важности?
– Зря вы расстраиваетесь, – произнес директор, – ведь я же директор, и мое поведение вполне объяснимо. Извините.
10.7
Сегодня утром моя птица была сердита. Полчаса она твердила: «Черт побери! Черт побери! Черт побери!» Но после успокоилась и стала снова говорить «пожалуйста».
Как заправский курортник, в семь утра я поплелся на пляж у Массандры. Вспомнив, что не позавтракал, зашел в чебуречную, взял кружку пива и «шашлык из цыплят второй категории».
К пивной стойке подошел мужчина в зимних шерстяных брюках и нейлоновой безрукавке.
– Какое пиво? – спросил он.
– Чешское, – ответила продавщица.
– В рот не беру чешское пиво! – громко и с пафосом произнес безрукавник, после чего он с гордым видом покинул чебуречную.
О, этот непобедимый русский патриотизм! Лучшему в Европе чешскому пиву истинно русский человек предпочитает далеко не первоклассное, но зато свое родное, «жигулевское».
В половине девятого на пляже негде было и вишне упасть, не то что яблоку. Пробираясь к воде, едва не перешагиваю через распростершихся в соблазнительных позах бесчисленных Психей и Афродит. Некоторые из них лежат на животе, расстегнув лямочки лифчиков, чтобы на спине при загаре не осталось белых полосок. Они выглядят вовсе обнаженными и доступными.
Диктор спасательной станции вещает:
– Товарищи, будьте вежливы и великодушны! При таком скоплении народу все может случиться. Не лезьте, пожалуйста, в бутылку из-за пустяков – у нее узкое горлышко. Вылезти из нее будет трудно. Сейчас температура воздуха плюс двадцать семь градусов. Температура воды плюс двадцать и пять десятых. Товарищи мужчины, не курите на пляже, не загрязняйте свежий морской воздух, не заставляйте находящихся рядом отдыхающих дышать табачным дымом!
К одиннадцати часам на пляже стало невыносимо жарко. Я оделся, вышел на шоссе и двинулся к новой интуристовской гостинице, воздвигнутой у массандровского парка. Полюбовавшись бассейнами, фонтанами, декоративными вазами и скульптурами, которые со всех сторон окружают здание, я нерешительно приближался к главному входу (поглядеть бы на интерьеры!). У дверей стояли швейцар в форменной тужурке и милиционер с пистолетом на боку. Над дверью по-русски было написано: «Вход только по пропускам». Постояв, я повернул обратно. И то сказать – простому советскому литератору совсем необязательно бывать там, где живут иностранные туристы.
Когда я уезжал в Крым, родственники и знакомые советовали мне: «Отключись от всего, не думай ни о чем, позабудь обо всем. Просто отдыхай и наслаждайся жизнью». Стараюсь отключиться, не думать и позабыть. Иногда это мне удается. За десять дней курортной жизни со мной никто не разговаривал о литературе, что явно способствует моему душевному покою.
Половина второго ночи. В саду под моим балконом завывают кошки. Их много в нашей обители. Вчера я видел их всех сразу. Они сидели кружком у входа в дирекцию и молча глядели друг на друга. С ними был серенький котенок. Правда, он не сидел, как взрослые, а прыгал и ловил какого-то жучка. Я сосчитал: кошек было семь штук. Котенок был восьмым.
Наши литераторские кошки не тощие, как все прочие их крымские соплеменницы. Они питаются объедками с писательских столов и, видимо, проявляют свойственную им неблагодарность и по ночам будят писателей жутким воем.
11.7
Сколько поэзии в смене времен жизни! Как и в природе: весна, лето, осень, зима. Гляжу на себя в зеркале и умиляюсь – я еще ничего себе мужичонка! Есть даже некая матерость в моем облике, та самая, которая нравится женщинам. Мой нынешний месяц – август, быть может, его конец. Борода моя уже седеет. Скоро подуют прохладные ветры сентября.
С недоумением вспоминаю себя ребенком, отроком, юношей, тридцатилетним мужчиной. Разве все это был я?
Встреча с женой и дочерью в Алупке, у Воронцовского дворца. Прогулка по парку. Наш гид – Аня Г. Неподвижное, таинственное, как бы из потустороннего мира Верхнее озеро среди мрачных темно-серых скал. «Большой хаос». На его каменных глыбах памятные надписи любителей крымской природы: «Здесь были А. Демьяненко и С. Кривцов из Уфы», «Я люблю тебя, Нина. Г. Иванов. 1978 г.» и тому подобное. Два плечистых парня в джинсах, смеясь от удовольствия, разбивают о камни водочные бутылки. Осколки брызгами разлетаются во все стороны. Библиотека дворца. Старинные фолианты в кожаных переплетах. Огромные глобусы восемнадцатого столетия. Острый, удушливый запах старой бумаги и кожи. Аня говорит, что от этого запаха болит голова и выступает сыпь на губах.
Последним вечерним катером уезжаю в Ялту.
Снова ночная панорама крымского побережья. Катер подплывает к Ласточкиному гнезду. Окна бутафорского замка, торчащего на вершине скалы, светятся розовым светом. Вдали мерцают разноцветные огни Ялты, похожие на скопление звезд в глубине вселенной.
12.7
Никитский ботанический сад. Бамбуковые рощи, земляничные деревья, секвойи, алтайские кедры, веерные пальмы, причудливые кактусы, золотые рыбки в бассейнах.
Возвращение домой. Катер сопровождают чайки, выпрашивая у пассажиров что-нибудь съестное. Они летят совсем рядом, плавно, но энергично махая своими длинными крыльями. Кто-то бросает в воду печенье. Одна из чаек камнем падает вниз, хватает клювом добычу, тут же ее проглатывает и легко догоняет медлительный катер.
Зрелище чаек вдруг перенесло меня в иную плоскость бытия. Жгучая нежданная печаль сжала сердце.
Отчего? Вокруг по-прежнему все было прекрасно, вокруг, как и прежде, был рай: небо было голубое, море было синее, горы были великолепны, и ничто не угрожало красоте, в которую я был погружен.
Какая-то тень вдруг упала на душу, когда она безмятежно блаженствовала под солнцем.
Полдень. Термометр показывает 33 градуса в тени. По ялтинской набережной в толпе полуголых курортников степенно движутся люди в темных шерстяных костюмах, в высоких сапогах и в шапках-ушанках на головах. Они улыбаются.
Что это? Съемка кинофильма? Нашли где снимать зимние кадры!
Нет, просто это среднеазиатские пастухи приехали на отдых в знаменитую Ялту. Им дали путевки за высокие показатели прироста поголовья овец. А для Средней Азии плюс 33 в июле – сущая холодина. Кроме того, эти люди сызмальства привыкли ходить и зимой, и летом в одной и той же одежде. Так им удобнее.
Вечер. Откуда-то доносится голос Шаляпина (пластинка со старой записью). Шаляпин неоднократно бывал в Крыму, пел здесь, и ему рукоплескали. И вот он снова поет, и голос его разносится над вечерней Ялтой, над морем и отдается эхом в ближних горных ущельях. Это и есть бессмертие.
Крым сейчас является областью Украины, но украинская речь здесь не звучит. Все украинцы говорят по-русски, хотя и с украинским акцентом (мягкое «г», растягивание гласных, «шо» вместо «что», «тикай» вместо «уходи»). Впрочем, и в Киеве, помнится, на улицах почти никто не объяснялся по-украински. При этом, как ни странно, украинцы не лишены чувства национальной гордости и любят противопоставлять себя москалям.
13.7
Проснулся с рассветом и уснуть больше не смог. Одновременно со мною проснулась и говорящая птица. Сегодня она была в отличном настроении и все повторяла: «Черт возьми, какой восторг! Черт возьми, какой восторг!»
Поплыл на катере в Симеиз. С юго-востока дул свежий ветер. Море волновалось. Катер покачивало. Когда приблизились к золотому пляжу, появился туман. Белыми рваными клочьями он сползал с берега на воду и густел на глазах. Солнце исчезло. «Сейчас станет прохладно», – подумал я, но ошибся. Туман был теплым и душным, как дым, но без запаха. Волнение на море усиливалось. У Ласточкиного гнезда наш кораблик стал переваливаться с борта на борт и зарываться носом в воду. «Похоже, что идет шторм», – подумал я и пожалел, что пустился в это плаванье.
Едва мы отчалили от пристани «Ласточкиного», как берег стал исчезать и вскоре совсем растворился в плотной серой мгле. «Нам несдобровать, – подумал я, – собьемся с курса и угодим в Турцию или разобьемся о прибрежные скалы». Волны делались все выше. Наше суденышко скрипело и трещало. «А все же интересно! – думал я. – Какое романтическое приключение!»
Но тут сквозь туман пробилось солнце, и снова показался близкий берег. Наш капитан оказался молодцом – мы не сбились с курса. Когда мы подошли к Симеизу, туман почти рассеялся. «Какое странное явление природы! – удивлялся я. – Ни с того ни с сего в ясный солнечный день возник густейший туман и тут же исчез, будто его и не было!»
В Симеизе бродил по окраинным улочкам, искал свой «модерн». Обнаруженные мною особняки оказались столь обезображенными позднейшими пристройками и перестройками, что на них было больно смотреть. После революции их заселили простым людом, и они превратились в большие коммунальные квартиры. Появились самодельные сарайчики и верандочки, лоджии и балконы заколотили досками, превратив их в дополнительные комнатушки, сдаваемые «диким» курортникам, пришедшую в негодность черепицу заменили жестью, а от цветочных клумб и посыпанных песком дорожек не осталось даже воспоминаний.
Вечер. Деревья в парке тревожно шумят и гнутся под ветром. Как ни смешно, но я, всегда похвалявшийся своей нелюдимостью, начинаю ощущать некоторое душевное неудобство от одиночества.
14.7
А сегодня утренняя птица меня спрашивала: «Что, боишься? Что, боишься?» Эта птица видит меня насквозь.
Приснился страшный сон.
В предчувствии надвигающейся войны писателей увозят из Ленинграда. Я еду в поезде, гляжу в окно и вдруг вижу, как над горизонтом встает гигантский гриб атомного взрыва. Вслед за ним появляется второй. «Все-таки началось! – думаю я. – Все погибло».
Нас привозят в какой-то маленький городок, где живут эвакуированные. Все целыми днями слоняются по улицам и, собираясь в кучки, обсуждают события. Вести поступают мрачные: мы проиграли войну, американцы оказались сильнее, чем предполагалось, Ленинград и Москва полностью разрушены, количество жертв еще не подсчитано.
И вот я снова в Ленинграде. Стою на набережной Васильевского острова и с ужасом гляжу на остатки города. Посреди развалин возвышается грандиозная руина Исаакия, похожая на недавно виденную гору Обвальную. Там и сям среди обломков зданий бродят уцелевшие жители. В киосках продают американские газеты.
За обедом пожилая соседка по столу (ее зовут Александра Львовна) спросила меня без обиняков:
– Скажите, какая же все-таки у вас профессия?
– Представьте себе, я литератор, – ответил я, – точнее, поэт.
– Ах, вы поэт! – воскликнула Александра Львовна и больше не задала мне ни одного вопроса.
Ливадийский дворец. Гляжу на него издалека, подхожу к нему поближе, обхожу его кругом. Ослепительно-белые стены на фоне голубого неба и темной зелени деревьев. Аркады, колоннады, лестницы, балюстрады. Погруженные в мягкую теплую тень ренессансные галереи итальянского дворика.
Присоединяюсь к экскурсии и внимательно слушаю монолог экскурсовода. Интерьеры дворца почти не сохранились, мебель, картины, все внутреннее убранство – тоже. Дворец пострадал трижды. Первый раз в 1920 году, когда он был разгромлен убегавшими врангелевцами. Второй – в середине 20-х годов, когда в нем разместился крестьянский санаторий. И третий – в 1943 году, когда его снова ограбили, а затем и подожгли покидавшие Крым немцы. В 1944 году многострадальный дворец был наскоро восстановлен, для того чтобы можно было провести здесь Ялтинскую конференцию.
Нам показывают зал, где происходили встречи Большой тройки, кресла, в которых восседали предводители союзных держав, и комнаты, служившие апартаментами Рузвельту (Черчилль жил в Воронцовском, а Сталин – в Юсуповском дворце).
Николай II поручил строительство своей крымской резиденции не столичному, а местному, ялтинскому, малоизвестному архитектору Краснову, уже успевшему к тому времени воздвигнуть пару великокняжеских вилл. Царь сам принял участие в проектировании и настоял на том, чтобы композиция сооружения стала более свободной и живописной, чем это предполагалось вначале.
Над главным входом дворца на мраморных картушах начертаны инициалы всех членов царского семейства, успевших прожить здесь лишь лет пять.
Ночь. Сижу на балконе, курю трубку и разглядываю звездное небо. Какое счастье, однако, что эта огромная толща воздуха, дающая нам жизнь и предохраняющая нас от всяких космических неожиданностей, к тому же и абсолютно прозрачна. В противном случае человечество в течение многих тысячелетий даже не подозревало бы о существовании звезд.
Где-то вдалеке лает собака. Чуть поближе, на краю нашего парка, смеется женщина. Видимо, она с мужчиной. Они сидят на скамейке. Мужчина, обнимая ее, говорит что-то смешное, и она смеется, по-женски игриво. Под балконом, в кустах, что-то прошуршало – наверное, это кошка вышла на ночную прогулку.
15.7
Красота крымского побережья абсолютна. Его пейзажи совершенны до неестественности. Кажется, что это не реальная природа, а блестяще сконструированные картины Пуссена и Лоррена. Все здесь образцово, все на своих местах. Самое величественное, что есть на Земле – море и горы, – слилось воедино в редчайшей, поистине божественной гармонии, то и дело повергающей впечатлительного наблюдателя в столбняк восторга.
На переполненном массандровском пляже оказался лежащим между двух незнакомых женщин, которые почти касались меня бедрами и локтями. Одна из них была немолода, толста и некрасива, зато другая была молоденькой и весьма привлекательной. Исподтишка, прикрыв лицо ладонью, я любовался ее длинной шеей, тонкой продолговатой талией, безукоризненными линиями ее бедер и стройными, не слишком тонкими, но и не толстыми ногами. Вся ее загорелая кожа была покрыта светлым пушком, который на освещенных, выпуклых местах золотится под солнцем.
Вечер. Сижу за столом и пишу. Спина, плечи и живот у меня горят. Увлекшись юной соседкой на пляже, я переусердствовал в загорании.
Вокруг меня летает комар. Ему очень хочется моей крови. Я от него отмахиваюсь, но он все равно не оставляет меня в покое, а убивать его мне как-то жалко – единственный в комнате комар.
Выражение Настиного лица на фотографии все время меняется. Иногда она явно улыбается, совсем чуть-чуть, кончиками губ, как Джоконда. Иногда она печальна, и в ее глазах появляется влажный блеск, будто она вот-вот заплачет. А сейчас она явно сердита – ревнует меня к пляжной красавице.
Перечитываю Цветаеву. Перечитываю с легким разочарованием. Раздражают ее рубленые, жесткие ритмы, утомляет ее пафос. Эти стихи рассчитаны на громкое произнесение вслух, читать их про себя в тишине как-то даже неловко. Они подобны заклинаниям колдуний или выкрикам сивилл. Они обращены к толпе, как стихи Маяковского. Однако по содержанию они глубоко интимны, и это парадоксально.
Из Цветаевой-поэтессы могла бы выйти революционерка вроде Ларисы Рейснер. Но Цветаевой-человеку была уготована другая судьба. В этой женщине была заключена огромная, совсем не женская энергия. Не могу представить ее в роли возлюбленной, любовницы. Ее любовная лирика написана по-мужски размашисто, в интонациях Катулла.
16.7
Утро. Говорящая птица вопрошает: «А что теперь? А что теперь?» Увы, я не могу ответить тебе на это, милая птица! Я не знаю, что теперь, не знаю, как мне жить дальше. Легче всего, конечно, жить, как жилось. Но неужели не достоин я лучшей жизни?
Что у меня впереди? Долгое, унизительное ожидание третьей книжки, редкие публикации в ленинградских журналах и, как прежде, молчание критики, которая упорно не желает меня замечать. Похоже, что я уже достиг потолка своего официального литературного успеха.
Золотой пляж. Искупавшись, сижу на теплой гальке. Потом одеваюсь, подымаюсь к прибрежному шоссе и иду по нему на запад. Шоссе виляет, обходя каменные утесы и поросшие невысоким лесом холмы. По морю, тоже на запад, плывет теплоход, который я видел утром в ялтинском порту. Кажется, что он движется очень медленно, однако вскоре он обгоняет меня, а минут через десять и вовсе теряется из виду. Мне становится грустно, когда большой корабль уплывает куда-то, а мы остаемся на берегу.
Показался белый минарет Кичкине, бывшей великокняжеской усадьбы, приютившейся на самой кромке обрыва. Подойдя к стрельчатой арке ворот, я прочитал табличку, извещавшую о том, что здесь располагается туристская база Киевского военного округа. «Ну что ж, – подумал я, – я ведь тоже некоторым образом военный – старший лейтенант запаса дорожных войск», – и смело шагнул в ворота. Впервые я посетил Кичкине в 1958 году. Тогда здесь находился детский дом и усадьба была в плачевном состоянии. Теперь здесь полный порядок. Все дорожки вымощены бетонными плитами. На клумбах благоухают цветы. Посреди парка устроен круглый бассейн, в котором плавают золотые рыбки. Рядом с бассейном сооружен изящный павильон в том же мавританском стиле. В павильоне буфет. В буфете сухое вино и кофе. Вышел на видовую площадку, повисшую над морем, и долго любовался пейзажем. Побережье было видно до Аю-Дага. Гряды гор спускались к морю, образуя заливы и бухты. На их зеленых склонах белели старые и новые дворцы, окруженные черными пиками кипарисов. А внизу, прямо подо мною, в прозрачной воде темнели поросшие водорослями скалы.









































