Читать книгу "Одноклассники точка"
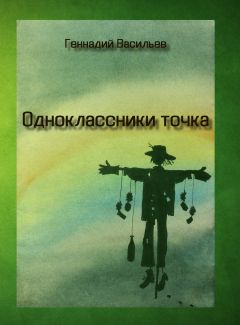
Автор книги: Геннадий Васильев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Геннадий Васильев
Одноклассники точка
Книга издана при поддержке Красноярского представительства Союза российских писателей
© Васильев Г.М., 2018
Рассказы
Бочка пива
Мой первый литературный опыт
По мотивам Марка Твена
Этот рассказ я написал давно. Он и стал моим первым прозаическим опытом. Дело было в начале 80-х годов прошлого века. Рассказ был простенький, история списана с натуры, как я услышал ее в изложении очевидца – нашего Кузьмича. Мы с моим другом Антоном работали тогда на стройке, в бригаде плотников-бетонщиков. Работать нам было неохота, мы мнили себя литераторами, в вагончике, в котором жили втроем – с нами еще Леха, он был отделочником и работал в другой бригаде, на другом участке – постоянно собиралась публика, которую мы определяли как богему. Мы читали стихи, пели под гитару, иногда слушали классическую музыку на примитивном проигрывателе – проигрыватель часто ломался, да и пластинок было мало. Ну и, конечно, сочиняли. Часто – ночами, поэтому регулярно опаздывали на работу. Бригадир косо на нас поглядывал, но молчал до поры.
В бригаде был один старый (старый – по нашим меркам: два года до пенсии; мы-то, сопляки, только-только подбирались к своему 25-летию), кадровый рабочий. Звали его Анатолий Кузьмич, или просто Кузьмич. Он был сухонький, невысокий, но жилистый и рукастый. Плотник-бетонщик он был высшего разряда, а еще – каменщик, стропальщик и Бог знает кто. И великий мастер травить анекдоты, а чаще того – истории из жизни. И вот однажды после обеда, когда бригада перекуривала в вагончике, бригадир Володя попросил:
– Кузьмич, расскажи молодежи, как в прошлом году тебя милиция замела за доброту твою!
Кузьмич разогнал ладонью чужой дым – сам не курил, – рассказал незамысловатую, но действительно смешную историю. В эпоху повального дефицита – а я рассказываю про то время, про ту эпоху – пиво, например, в нашем небольшом поселке было событием. И вот привезли в выходной пиво, а у Кузьмича на тот момент случились шальные деньги – что-то кому-то где-то построил или отремонтировал, – проходил мимо машины, с кузова которой это пиво продавали. Из деревянной бочки наливали в бидоны. У машины, конечно, толпились мужики. Черт ли Кузьмича дернул или бес нашептал, только пошелестел он в кармане своими сбережениями, подошел к машине сбоку и говорит продавщице:
– А продай мне бочку!
Та не поняла сначала – думала, он пустую бочку просит. А когда поняла – растерялась. Ну и продала. Кузьмич мужиков попросил, те сняли бочку, не понимая еще – в чем дело. Он ее раскупорил, попросил у водителя шланг чистый – не тот, через который он бензин сливает, – вставил шланг в бочку и говорит мужикам:
– Угощайтесь!
Те оторопели. А когда поняли, что он им бесплатное угощение предлагает – ну, тут пир и пошел.
– Только я с тех пор понял: халява – самое страшное для нашего человека, – говорит Кузьмич. – Они сначала-то очереди держались, а как бочка убывать стала – давай друг друга отталкивать. Я было вмешался – ну, прилетело мне.
А кончилось и вовсе смешно, хотя и грустно. Неподалеку от площади, где злосчастная машина с пивом стояла, находилось отделение милиции. Из окна блюстители увидели непорядок, вышел молоденький сержантик, мужиков усмирил – и спрашивает у продавщицы: кто, мол, инициатор беспорядков? Та и укажи на Кузьмича. Ну, его и загребли, а за сопротивление – не хотел он идти, все пытался рассказать – как на самом деле было – еще и пятнадцать суток влепили.
– А у нас – объект срочный, сдача, – это уже Володя, – пришлось аж через начальника стройки его из каталажки вызволять.
Мы в вагончике над историей посмеялись, пошли работать. А потом я написал про это художественный рассказ, кое-что изменив и приукрасив, конечно, и понес в редакцию.
Рассказ у меня не приняли. Заместитель редактора районной газеты, куда я принес рассказ, ничего толком сказать не могла сначала. Долго шелестела бумажками, хотя рассказ был всего на двух страничках. Потом вздохнула:
– Приходи завтра, поговорим.
О чем было говорить? Ну нет – так и сказала бы: «Не подходит!»
Я пришел завтра. Уже по тому, как тяжело и брюзгливо кряхтели под моими шагами ступени скрипучей лестницы, поднимая меня на второй этаж, я понял: ничего хорошего меня не ждет. И заранее жалел об этом. Рассказ был принесен с дальним прицелом, я очень хотел устроиться на работу в эту газету. Но редактор, нестарый, сорокапятилетний, примерно, мужик с убегающим взглядом, брать меня упорно не желал. И не отсутствие образования было тому виной – половина его корреспондентов не имела журналистского образования (район – не город), – а что-то другое, о чем он не говорил. И вот теперь тяжкое бремя ответственности за очередной отказ он переложил на хрупкие плечи своей замши, слабой и доброй женщины. А сам ушел в отпуск.
Она бы, может, и напечатала, да и на работу бы взяла, пожалуй, но – установка.
В кабинете заместителя редактора, кроме нее, был еще один человек, я его узнал. Это был парторг стройки. Он иногда приходил к нам в вагончик, в котором мы жили втроем с моими друзьями, приходил чаще всего в отсутствие меня и Антона, специально стараясь застать на месте одного только Леху, который часто работал в ночную смену. Леха с виду казался простаком, и парторг пытался этим воспользоваться. За нашим вагончиком гуляла по стройке и поселку (потом он стал городом) дурная слава: будто были мы не то диссидентами, не то сионистами, и собирались у нас темные личности. Диссидентами мы были, наверно, потому, что часто громко вслух читали Евтушенко и Вознесенского, которые нам тогда казались самыми смелыми на поэтическое слово, а сионистами – потому что к нам часто действительно приходили две «темные личности», два московских еврея, люди живые, в меру просвещенные, а по условиям поселка – так просвещенные сверх всякой меры. Я их называть по именам не стану, они нам дальше в повествовании не понадобятся.
Парторг примитивно пытался расколоть нашего Леху на какое-нибудь нечаянное признание. Он просил налить себе чаю – отказать ему Леха не мог, парторг стройки, а вагончик – ведомственный, – потом поднимал к потолку глаза и, как бы вспоминая что-то, произносил, например:
– Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху огнем в бараке,
жилу моря, играл в рулетку,
обедал Бог знает с кем во фраке,
– и спрашивал у Лехи: – Как там дальше – не помнишь?
Леха местами был человеком девственным в части культуры, но кое-что знал. Неиздаваемый еще Бродский у нас в рукописях водился. И простаком Леха не был. Он, конечно, мог сказать парторгу, что у автора – не «огнем», а «гвоздем», и не «Бог знает с кем», а «черт знает с кем», – но зачем? Леха наивно спрашивал:
– Это же из «Братской ГЭС» Евтушенко? Нет, что-то дальше не помню…
Раздосадованный парторг уходил, не допив чай и бормоча под нос:
– Навезут дурачков из провинции!..
Его короткий и несгибаемый ум не в состоянии был понять, что его «развели».
Вот такой человек сидел передо мной в кресле редакторской замши, а та робко притулилась на стульчике у стола. Как только я вошел, она вскочила, сказала:
– Я на минуту выйду к корректорам! – и больше уже не появлялась до конца нашей беседы.
А беседа была такая.
Парторг… чужой фамилией я его называть не стану, потому что любую фамилию он замарает, а его настоящую говорить брезгую, пусть будет: К. Так вот. Парторг К. сразу взял быка за рога. Он долго и тяжело на меня смотрел, долго и тяжело молчал – видимо, он так себе представлял психологическое давление. Потом взял с замредакторского стола два уже не совсем свежих листка с моим рассказом, подержал их перед глазами, как бы измеряя еще раз глубину моего нравственного падения, брезгливо положил листки на стол, спросил:
– Вот ты… вы понимаете – ЧТО вы написали?
Я пожал плечами:
– Рассказ. С натуры. Это реальный случай.
– Правда жизни, значит? – К. снова построил тяжелый взгляд. – Правда жизни и художественная правда – не одно и то же! Художественная правда – это… это – не правда жизни! Это – художественная правда!
Он чеканил бессмысленные слова, я смотрел на него с изумлением. Зачем звали-то? Рассказ – совершенно бытовой, претендующий на смешное, причем тут правда-неправда?
Парторг неожиданно встал, подошел ко мне вплотную – я забыл сказать, что все это время я так и стоял посреди кабинета, как вошел. Он подошел ко мне вплотную и вдруг спросил:
– Вы там общаетесь с этими… евреями двумя – кто они такие?
(Все-таки пригодились они в повествовании: Гуревич и Бейлин.)
– Вот эти – Гуревич и Бейлин, – они кто такие? – снова спросил парторг и придвинулся еще ближе.
Я снова пожал плечами:
– Наши друзья. А чем они вам не угодили-то? Они в стройуправлении работают, специалисты оба, один инженер, второй…
– Да знаю я – кто они такие! – раздраженно замахал рукой К. – Что вы мне тут рассказываете их автобиографию!
– Так вы же спрашиваете – кто они…
– Я спрашиваю в идеологическом смысле! – отчеканил парторг. – Кто они? К чему они вас ведут? Чему учат? Что подсовывают?
Я начал понимать – о чем он, и меня стал разбирать смех.
– А, вот вы о чем, – я сделал вид, что оживился. – Да, действительно подсовывают. Надоели уже, деваться некуда. Вот, «Братскую ГЭС» недавно вслух читали, помните, есть там – про рабов, про пирамиды…
Парторг свирепо уставился на меня, почти закричал:
– Что вы – сговорились?! «Братская ГЭС»… Знаю я, какая ГЭС у вас там… братская…
Он закончил неожиданно, но так, что мне запомнилось на всю жизнь:
– Мой вам совет: читайте поэта Михаила Дудина. А с этими товарищами вам лучше порвать навсегда. Общение с ними заведет вас в идеологическое болото, – последняя фраза прозвучала почти торжественно.
На этом мы и расстались. Замредактора так и не вернулась в свой кабинет: стыдно ей было, видимо. Я понял, что на работу в газету меня не возьмут из-за моей склонности очернять действительность.
И вот прошли годы, началась перестройка, другая жизнь – и я снова вспомнил про свой рассказ. Теперь на «очернительство советской действительности» наверху смотрели очень даже положительно, и всякий, самый мелкий издатель, старался быть, как теперь говорят, в тренде, а тогда говорили – на гребне.
Газета к тому времени разделилась на районную и городскую (поселок стал городом), и бывшая замредактора стала редактором районной газеты. Теперь она сама определяла – кого печатать, а кому отказывать. Приняла она меня с распростертыми, про тот случай не вспоминала, и рассказ мой, не читая, прямо при мне отправила в набор. Сказала прийти завтра – вычитать гранки.
Я, как и несколько лет назад, пришел завтра. Ступени скрипели все так же подозрительно и недоброжелательно. Я насторожился. И не зря.
В кабинете редакторши (кабинет-то остался прежний, в котором она еще замшей сиживала), кроме нее, сидел еще Иван Юрьевич Кононенко, матерый, опытный журналист-сельхозник. Про Ивана Юрьевича ходили легенды: будто он по одному внешнему виду каравая мог отличить – из какой муки тот был испечен, а по срезу говядины сказать – чем коровушку кормили при жизни и на каком году ее этой жизни лишили.
И еще кое-чем был знаменит Иван Юрьевич Кононенко в журналистских кругах. Он никогда не писал газетный материал объемом меньше, чем на полосу. На работу он всегда приходил, неся с собой в портфеле литровую банку бражки, ставил ее в стол – и писал, отхлебывая. К концу дня был весел и непринужден. Впрочем, материалы его выходили добротные, в них невозможно было найти фактических ошибок, и поэтому районные аграрии, со многими из которых он был на «ты», его уважали.
Вот такой человек теперь сидел передо мной – и улыбался блаженно.
– Здорово! – Иван Юрьевич встал, протянул руку. – Садись, поговорим.
Редакторша сказала:
– Я на минутку к корректорам! – и вышла.
Ничего еще не понимая, я все-таки забеспокоился.
– Я тут случайно в наборе твой рассказ увидел… – задумчиво сказал Иван Юрьевич и замолчал. Он рассматривал меня некоторое время, потом взял гранки (гранки! мой рассказ уже был набран, уже был готов пойти к читателям!), положил их перед собой.
– Давай я тут некоторые… избранные места прочту, обсудим.
Я начал заводиться.
– А чего обсуждать-то? Все с натуры писано. Не подходит рассказ – ну, пусть мне редактор об этом скажет, я в другое место отнесу… в журнал отправлю.
– Ну, можно и так, – весело сказал Кононенко и вдруг засмеялся. – Слушай, а ты правда не читал у Марка Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету», нет?
– Не читал и не собираюсь! – ответил я раздраженно. – Сатира-юмор – это не мое, я считаю, жизнь заслуживает серьезного к ней отношения!
Кононенко изумленно уставился на меня.
– Жизнь заслуживает серьезного отношения? Ну, старик, ничего смешнее я еще не слышал… Ладно, черт с тобой, – он убрал ухмылку. – Давай тогда говорить серьезно. Вот у тебя тут есть портреты мужиков – очень колоритные. Они же сельские, мужики-то эти, так я понимаю? Ну, они у тебя тут – трактористы, дояры, скотники…
Я кивнул согласно.
– Сельские.
– И они такие… передовики производства в основном, да?
– Ну да. Это – чтобы контраст построить: типа – передовики производства на работе – а вот бытовая ситуация, соблазн небольшой – и они уже ведут себя, как…
– Ну да, ну да, как скоты! – весело закончил Кононенко и опять почему-то засмеялся. Но тут же снова посерьезнел. – Тут у тебя один передовик «с бородой ежиком» – кстати, как это – «борода ежиком»? Ну, неважно. Так он у тебя экономит в сезон на тракторе ДТ-75 тонну бензина. Крутой мужик. Кстати, трактор ДТ-75 работает не на бензине, а на дизельном топливе, которое в просторечии называют соляркой. Да ладно, пускай и это неважно. Но вот тут дояр есть – шедевр! Доска почета по нему плачет и выставка достижений… Он у тебя доит от одной коровы по центнеру молока за раз. Ну, в Израиле, я читал, действительно случается годовой надой до 12000 литров от коровы, делим на месяц, получаем 1000, делим на количество дней… ну, центнер-то все равно не выходит! А мы – не в Израиле, в Сибири. Ты бы хоть поинтересовался у кого. Да хоть у меня.
Иван Юрьевич как-то враз утратил веселье, говорил он со мной, скорее, уже грустно. А я, пристыженный и бездарный, сидел перед ним дурак-дураком.
– Ну, больше тебя мучить не буду, только одно вот еще замечание. У тебя герой-то, Петрович, откуда деньги на пиво взял – от вырученной картошки?
– Так сдают же картошку-то, каждый год сдают, сам видел…
– Сдают, – согласился Кононенко. – Верю, что видел. В календарь смотрел – когда видел-то? У тебя в рассказе дело происходит в середине июня. Картошку у нас когда копают, в Сибири? Эх… – он безнадежно и как-то обиженно даже махнул рукой. Отдал мне полосу с гранками рассказа – если сначала мне запах типографской краски казался приятным и обнадеживающим, теперь краска неприятно воняла, и больше ничего. – Ты свой рассказ в таком виде никому больше не показывай. Я – добрый. Другие побить могут.
Я вышел из редакции, оглушенный, пристыженный, униженный – кем? чем? – собственной бездарностью и глупостью. Понятно было, что после такого… дебюта меня не возьмут в эту газету даже курьером. Лить мне пожизненно бетон, класть кривую кирпичную кладку (она у меня получалась исключительно кривая), писать графоманские строчки ночами: «Даль голубая, синь бесконечная, Травы в слезинках росы… Здравствуй, Сибирь, моя, добрая, вечная, Я – твой хозяин и сын!» – было у меня такое стихотворение…
«Напиться, что ли?» – подумал я и побрел к магазину, где торговали вином. Вчера на стройке выдали получку, и деньги у меня были.
А в магазин завезли пиво. Его продавали из деревянной бочки. Сверху был ввинчен специальный кран, и пиво разливали в банки, бидоны. Мужики толпились, очередь была человек сорок. И вдруг меня осенило: «Вот он, момент искупления!» Почему «искупления»? А шут его знает! Но так я подумал тогда.
С трудом протолкавшись сквозь плотную железобетонную очередь («мужики, я только спросить, честное слово!») к продавщице, свирепой от внезапно навалившейся работы, я спросил:
– Если я бочку куплю – сколько стоить будет?
Та не поняла сначала, потом до нее дошло, что ей же меньше работы, она быстро посчитала, зарплаты моей хватило с лихвой и еще много осталось. Бочку по моей просьбе выкатили на площадь перед магазином («Ты только кран потом мне верни!» – строго и счастливо наказала продавщица), я громко крикнул: «Мужики, угощаю, наливайте, пейте даром!» Поняли не сразу, а когда поняли – пир пошел тут же, пить стали, не отходя, и по-новой становились в очередь. А я, довольный, со стороны наблюдал за всем. Даже желание выпить пропало: так стало мне хорошо.
Помаленьку бочка пустела, в толпе началось волнение. Стали друг друга отпихивать, ругаться начали. Я забеспокоился: «Мужики, да всем хватит, вы чего!» – и тут же получил в ухо. Обернулся – передо мной стоял невысокого роста мужичонка, и борода у него была – ежиком, напрасно Кононенко говорил – «так не бывает!» Всяко бывает. Мужичонка на меня злобно глядел и цедил сквозь зубы: «Провокатор! Я тебя, суку…» – и снова норовил дать мне в ухо.
Спас меня участковый. Видимо, его вызвала продавщица. Он подошел сразу ко мне, крепко взял под руку, отвел в сторону.
– Ты пиво купил?
Я кивнул.
– Пошли. Хулиганство оформлять будем.
…В «обезьяннике», куда обычно собирали алкашей и бомжей, я сначала долго не мог прийти в себя от такого поворота собственного сюжета.
А потом стал смеяться. Я понял, что многого в этой жизни еще не знаю. И не только потому, что ничему и никогда не учился – просто потому, что жизнь не вижу, хотя и смотрю на нее.
Я понял, что жизни, как любой науке, надо учиться.
И я стал учиться жизни.
9.12.2015
В театре
Мы с Артуром жили в театре.
Ах, какое это было благословенное время! Дело происходило на большой ударной стройке, последней комсомольской стройке в истории СССР. Будущее строили все, кроме нас, хотя у нас тоже были «корочки» плотников-бетонщиков третьего – начального – разряда. Мы не работали, свято полагая, что рыть траншеи и укладывать бетон или класть кирпичи, получая за это увесистый рубль, – на это энтузиастов найдется. За тем они сюда и приезжают, в маленький сибирский городок. Мы же – выше всего этого. Если выражаться образно, как положено в художественной прозе, мы глубже траншей и сложнее бетона. Мы – структура неоднородная, материя тонкая, нам творчества подавай, подавай нам театр, поэзию – словом, даешь высокое искусство! Мы ему станем служить. А насущное… ну, что ж: есть, кому о нас позаботиться. Городок был тогда городом общежитий, общаг, в общагах жили наши поклонницы. Они кормили. У Артура поклонниц было больше. Еще бы: высокий, голубоглазый, кудрявый, с чувственным ртом, взор с поволокой, цитирующий наизусть Блока, Мандельштама, умеющий сыграть, дать идею режиссеру, в конце концов – сам поставить спектакль… талант, чего там! И стихи писал – странные, туманные, прибалтийские… В общем, он – в авангарде, я – сбоку припека, в хвосте. Свита. Незнамов и Шмага. Мы так и играли в отрывке по Островскому: он Незнамова, я Шмагу. И реплика: «Мы – артисты, наше место – в буфете!» – стала для нас коронной, долго вела нас по жизни. В общем, его кормили и привечали за талант, меня – как его, таланта, друга. «Альфонсизм в чистом виде!» – смеялся Артур, когда мы оставались одни. Нас не смущало, что жили альфонсами. Правда, Артур еще подрабатывал некоторое время тем, что раз в неделю разносил телеграммы на почте. Этого «заработка» нам хватало на чай и сахар.
В театре мы стали ночевать, когда больше было негде. Общаги давали только тем, кто трудился на стройке. Театр этот мы строили сами, своими руками. Режиссер, дама наших лет, по-актерски экзальтированная, по-деловому пробивная, добилась в профкоме выделения под театр красного уголка в одном из общежитий. Помещение дали, материалов – нет. Мы ночью тайком воровали стройматериал на ближайших строительных площадках, таскали на себе бревна, доски для строительства сцены, купили на выделенные скудные профсоюзные деньги рулон мешковины – и обили ею все стены. Из мешковины же сделали задник, занавес, арлекин. Вышло по-мейерхольдовски вызывающе и стильно – так нам, по крайней мере, казалось.
Костюмы тоже шили сами – не мы с Артуром, конечно: девушки. Этих костюмов, плащей разных было в театре много – на них мы и спали. Сдвигали стулья, сооружали широкое ложе, стелили плащи и ими же укрывались. Тьма в театре стояла непроглядная – окна мы закрыли щитами, свет снаружи не проникал, – и утро для нас наступало всегда по-разному. Мы вставали, шли в общий санузел умываться, в буфете покупали себе какие-нибудь булочки на деньги, которыми нас спонсировали наши сердобольные поклонницы, – и день начинался. Были репетиции, обсуждения, мы просто шлялись по городу, ходили на озеро купаться… Богема, словом.
Вечером после спектакля или репетиции все уходили, а мы оставались.
Писали что-то, читали друг другу или тем, кто хотел нас слушать. Выпендривались, искали необычные формы, экспериментировали. Я однажды сочинил маленькую поэму – по содержанию она была насквозь советская, ударная, комсомольская, по форме – необычная: в ней рифмовались первый слог последующей строки с последним слогом – предыдущей. Артур одобрил, сказал: «Растешь в исканиях!» Он относился ко мне покровительственно – я соглашался. Мне казалось, он талантливее меня и пойдет дальше. Что касается таланта – так оно, наверное, и было, а вот со вторым… но не стану забегать вперед.
Однажды случилось вот что.
В театре был проигрыватель, и наши доброжелатели натаскали нам груду пластинок. Было там много всякой ерунды, но случались и действительно хорошие записи. Однажды, перебирая пластинки, Артур вдруг охнул:
– Йохайды!.. – он ругнулся по-прибалтийски, повернулся ко мне – огромные голубые глазищи сверкали восторгом и каким-то особым волнением. – Моцарт, «Реквием»! И дирижер – Мравинский! И царапин совсем нет, как новенькая. Откуда?!
Я не знал. Я не помнил, чтобы кто-то принес эту пластинку.
Артур вдруг почему-то разволновался. Он ходил по залу, двигая стулья, садился, закуривал, что-то бормотал бессвязное, как будто вспоминал. Я смотрел на него с тревогой.
– Что такое, Артур? Почему на тебя так подействовала эта пластинка?
Он посмотрел на меня рассеянно и странно.
– Я не знаю, рассказывать ли тебе… Давай сначала послушаем.
Он бережно поставил пластинку на диск проигрывателя, опустил иглу.
Музыка была действительно прекрасной – и голоса, и оркестр. Но что творилось с Артуром, пока звучала пластинка!.. Он бесконечно курил, закрывал глаза, дирижировал рукой в такт – и плакал. По щекам его непрерывно катились слезы, он даже не думал их утирать. Когда закончилась одна сторона, он только посмотрел на меня умоляюще – я перевернул пластинку. И снова – слезы и бессвязное бормотание… В этот момент я всерьез забеспокоился – не сошел ли мой друг с ума. Искусство, случается, и не такое свершает… Нет, он был вполне нормален. Когда музыка кончилась, он открыл глаза, вытер слезы, посмотрел на меня просветленно.
– Какая музыка!.. Ничего не понимаешь, конечно? Ладно. У тебя еще остались какие-нибудь деньги?
Я молча выгреб из кармана все, что было. Он посчитал, вернул часть:
– На портвейн хватит. На остатки закуски купи в буфете. Я сейчас.
Вот это было посильнее «Реквиема» Моцарта. Дело в том, что в тот период мы с ним не пили. Совсем. Даже в праздники старались как-то обходиться. Считали, что алкоголь дурно влияет на творческую потенцию. О другой потенции мы в то время еще не заботились, с ней все было в порядке. Пока Артур бегал в ближайший магазин за портвейном, я вышел в буфет, купил скудной закуски. И приготовился услышать что-то необычное.
И услышал.
Артуру на удивление хватило не на портвейн – он вернулся с бутылкой водки и банкой рыбных консервов.
– Земляка встретил, перехватил у него, – объяснил он. – Давай, наливай.
После первой в голове с отвычки зашумело. Зато мир в одно мгновение стал еще прекраснее.
– Давай сразу по второй, и расскажу тебе…
Закусив, Артур закурил, посмотрел задумчиво на сигарету и стал рассказывать.
В Латвии, откуда он приехал, была у него, оказывается, жена. Они поженились совсем молодыми, она была из богатой семьи, он, в общем, тоже не бедствовал, мама – заслуженный врач республики, известный человек. Жили в отдельной квартире, все у них складывалось хорошо. Жена профессионально занималась музыкой, пела в опере, ей обещали большое будущее, ее сопрано замечали на многочисленных конкурсах. Однажды они с женой поехали в Ленинград – просто так поехали, отдохнуть, на выходные. Взяли напрокат лодку – покататься по Финскому заливу. Отгребли довольно далеко от берега, налетел ветер, лодка черпнула воды, жена испугалась, вскочила и, не удержав равновесия, упала за борт. Плавать она не умела… Артуру, прекрасному пловцу, удалось ее спасти, но к тому времени она уже успела нахлебаться воды, потеряла сознание. Пока он греб до берега, пока с лодочной станции вызывали «скорую», все это время она была без памяти…
– Она выжила. Но память к ней так и не вернулась, – Артур смахнул слезу. – Наливай давай.
Я плеснул, мы снова выпили.
– Она так и живет теперь в Лиепае, у своих родителей. Как растение… Ничего не помнит, никого не узнает. Вот уж сколько лет… «Реквием» Моцарта – наше любимое. Она исполняла там партию сопрано. Я был на премьере – это было потрясающе!
Мы долго еще сидели, водка все как-то не хотела кончаться. То ли с непривычки, то ли от волнующего рассказа, я очень скоро захмелел. Артур, впрочем, тоже. Мы все-таки допили, он еще повздыхал, поплакал, потом кое-как постелили на стульях. Перед сном он снял пластинку с проигрывателя, бережно упаковал ее в конверт, спрятал.
На ночь мы оставляли свет в будке осветителя – вместо ночника. Там горела тусклая лампочка, это позволяло в случае, если приспичило, пробираться ночью на выход не совсем на ощупь: туалет располагался в общем коридоре.
Среди ночи я проснулся, как будто меня ударили. Мощный хор пел:
– Domine Jesu Christe, Rexgloriae,
Libera animas omnium fidelium defunctorum
De poenis inferni et deprofundo lacu…
Господи Иисус Христос, Царь славы,
Освободи души всех верных усопших
От мук ада и бездонного озера…
Ничего не поняв спросонья, я подскочил на постели. Тусклая лампочка в будке осветителя мне показалась зловещей. Артур спал, беспокойно раскинувшись и постанывая во сне. На диске проигрывателя крутился «Реквием» Моцарта. В ночной тишине звук казался очень громким, пение – особенно прекрасным и внушительным. Я растолкал Артура.
– Зачем ты включил музыку? Ночь ведь.
Он дико на меня посмотрел.
– С ума сошел? Ничего я не включал.
Мы уставились друг на друга. Музыка между тем продолжала звучать. Вдруг Артур вскочил.
– Ты слышишь, что они поют? «Да светит им вечный свет, Господи, Со святыми Твоими вечно, ибо Ты любвеобилен. Покой вечный даруй им, Господи, И вечный свет да светит им»…
Мне и в голову не могло прийти, что мой друг так свободно может переводить с латыни.
– Ты слышишь? Боже… Она умерла…
Артур сполз с постели, встал на колени, обхватил голову руками – и завыл, раскачиваясь.
И вот тогда я испугался по-настоящему. Только теперь я осознал окончательно, что музыка заиграла сама собой, хотя я помнил ясно, что Артур упаковал пластинку перед сном. Но еще сильнее напугало меня то, как он выл и раскачивался. Ничего страшнее этого я, кажется, не видел ни раньше, ни после. И я не знал, что мне делать. В нашем маленьком городе тех времен вызвать среди ночи «скорую» было целым делом: телефон по ночам в общежитии вахтеры отключали, а бежать до больницы было далеко.
Все, однако, разрешилось очень скоро. Артур перестал выть и раскачиваться так же внезапно, как начал. Он поднялся с колен, посмотрел на меня мутным взглядом. Потом подошел к проигрывателю, снял пластинку, убрал ее в конверт. Водки у нас не осталось, но я сделал крепкий чай, почти чифир, налил ему. Он выпил глоток, закурил, снова взглянул на меня внимательно. Глаза обрели привычную голубизну, взгляд – осмысленность.
– Я не знаю, ЧТО это было, – медленно произнес Артур. – Я только знаю, что ОНА – умерла.
…Весь следующий день он разносил телеграммы на почте. А вечером пришел в театр – репетиций в этот вечер не было, – молча сунул мне казенный бланк. «Сонечка умерла. Похороны…» – дальше я и читать не стал.
– Вот видишь, – устало сказал Артур, лег на стулья и отвернулся.
В тот же день из театра мы перебрались к нашему приятелю-художнику в служебный вагончик, служивший ему и мастерской, и жильем. Ночевать дальше в театре было невыносимо.
Потом наши с Артуром пути разошлись. Я занялся журналистикой, скоро получил приглашение в престижную газету в большом городе, переехал, стал понемногу писать новую страницу биографии. Писал с ошибками, многое приходилось потом перебеливать – все же что-то вышло. Мог бы сейчас для художественной цельности соврать, что Артур стал известным поэтом, или артистом, или даже режиссером… Ничего этого не случилось, увы. Он что-то пишет и теперь изредка, но этого не видит, кажется, даже его жена Юля. Почему? Я не знаю. Я только догадываюсь – почему.
…Много лет спустя я случайно узнал, что никакой первой жены у Артура не было. То есть она была, но очень недолго и совсем неофициально: они не расписывались. Когда он уехал строить светлое будущее для других, их отношения сами собой прекратились. Она вскоре вышла замуж, вполне благополучна, живет в Риге, воспитывает детей. Она, конечно, не умирала, ни на какой лодке по Финскому заливу в Питере они не катались, она не тонула, и он ее не спасал. И с ума она не сходила, памяти не теряла. Вся история была ложью, выдумкой, от первого до последнего слова. Кроме одной детали: она действительно пела, и ей правда сулили большое будущее. Не случилось.
Узнал я это от настоящей жены Артура Юли, давней и теперь уж, наверное, вечной его спутницы, с которой вырастили они хорошего сына – крупного, самостоятельного, уверенного в себе и будущем. Хотел назвать Юлю «его несчастной женой» – но какое же тут несчастье, если уже тридцать лет с лишним она, безропотно или ропща, но смиряясь, принимает все, что он ей подносит – «и радости, и муки»? Судьба, какое тут несчастье…
– Как же телеграмма? Он же показывал мне… – спросил я Юлю, хотя уже понимал – как.
Она пожала плечами.
– Очень просто. Надергал слов из чужих телеграмм, наклеил на бланк – вот тебе и телеграмма. Ты же не читал внимательно – откуда, кем отправлена? Ну, вот…
Артур был большой выдумщик – кажется, таким и остался. Он всю жизнь играл, играет и теперь, постаревший, седой, близорукий, почти лысый великий актер домашнего театра. Раньше ему верили, потом кричали по-станиславски: «Не верим!» – теперь уже никто не верит и не кричит. Пусть играет. Чем бы дитя ни тешилось – лишь бы жило, пусть даже на радость одному себе. В конце концов, и это – зрелище.









































