Текст книги "Одноклассники точка"
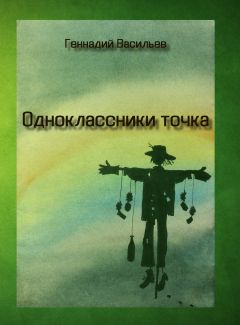
Автор книги: Геннадий Васильев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Виолетта легла на ту же операцию, что и Клавдия Ильинична: камни в желчном. Несмотря на молодой возраст, риск был: астма – не шутка. Все же на операцию она согласилась, а хирурги, оценив общее состояние, взвесив риски, в том числе высокое положение мужа, изъявили готовность оперировать. Операцию назначили на следующий день.
До того как Виолетту повезли на операцию, она с Клавдией Ильиничной не разговаривала. Оскорблено складывала пухлые губы и не смотрела в сторону соседки по палате. Клавдия Ильинична только посмеивалась про себя: «Вроде взрослый человек, а ведет себя, как ребенок… Обиделась, что «празять» у меня не тех кровей, вот смех-то! Ничего. На сердитых воду возят…» Так и ушла соседка на операцию – с поджатыми губами и взглядом мимо.
Операция прошла благополучно, Виолетту привезли. Она, как в свое время Клавдия Ильинична, была еще в полусознании, ее осторожно переложили с каталки на кровать, укрыли одеялом. Довольно скоро больная пришла в себя, яростно облизала губы, молитвенно посмотрела на соседку – Клавдия Ильинична, не дожидаясь просьбы, дала ей воды.
– Спасибо, – прошипела Виолетта и опять уснула. Губы ее даже во сне складывались презрительно и обиженно.
Клавдии Ильиничне ставили капельницы, кололи уколы. По утрам давали таблетки. То же ожидало и ее соседку по палате. Однако, в отличие от Клавдии Ильиничны, Виолетте уколов ставили больше – в ягодицы, конечно. Возможно, это было связано с астмой, а может, и не было никакой связи – Клавдия Ильинична в медицине не разбиралась, слепо полагалась на искусство врачей. Виолетта же просто не допускала мысли, что с ней, женой Касаткина, могут сделать что-то не то. Когда входила процедурная сестра, она молча поворачивалась на живот, оголяла то, что положено, терпела. Так продолжалось три дня, в течение которых Виолетта с соседкой почти не разговаривала. Все еще дулась.
Арина, внучка Клавдии Ильиничны, приходила к бабушке каждый вечер, вежливо здоровалась. Виолетта молча кивала и делала вид, что читает книжку. Клавдия Ильинична бровями показывала: мол, не обращай внимания. Арина и не обращала. Разговаривала с бабушкой, говорила: Виталий занят очень, потому не приходит. Бабушка снова бровями и глазами показывала: понимаю, вслух же произносила незначащее:
– Ну да, у него работа…
Глаза при этом смеялись. Виолетта всё слышала, хмурилась в книжку.
Сама она с мужем общалась три дня только по телефону – он был страшно занят, прийти не мог и так сочувствовал ей – по телефону. Пришли к ней только на четвертый день, и не муж пришел, не дети (их двое), а домработница пришла. Звали ее Саня. Худая, энергичная, лет сорока пяти, она сразу заполнила палату позитивными эмоциями и сразу расположила Клавдию Ильиничну. Виолетта же смотрела на нее недружелюбно, почти враждебно.
Саня весело отчитывалась:
– У Клары с Ефимом в школе все хорошо, прийти не смогли – нагрузка, уроков много, на дом задают столько – лечь-умереть! Но привет вам. Александр Борисович по командировкам с губернатором – край причесывают, к нам же президент собирается, смотреть будет – как готовимся к этой… – она запнулась: – …стилендиаде, что ли?
– Универсиаде, – с ненавистью поправила ее Виолетта.
– Вот никогда не запомню, лечь-умереть! – Саня с восторгом посмотрела на Клавдию Ильиничну – та невольно засмеялась. Домработнице, похоже, было все равно, как относится к ней хозяйка. – Ну, тоже привет посылал…
Виолетта рывком откинула одеяло, села на кровати, хотела сказать что-то резкое – в это время в палату вошел Григорий Евстафьевич.
– Привет, девочки! – он весело на всех посмотрел, присел на кровать к Виолетте. – Ну, как у нас дела?
Виолетта брезгливо отодвинулась, снова накрылась, попросила сухо:
– Вы бы не могли пересесть на стул?
Доктор перестал улыбаться, пересел.
– Но осмотреть-то себя вы мне позволите? Я попрошу остальных отвернуться, – в вопросе явно звучала насмешка, и Виолетта взвилась.
– Во-первых, попрошу со мной больше таким тоном не разговаривать, – ее собственный тон был почти визг, – во-вторых…
– Да-да, я знаю, – уже без всякой улыбки, устало перебил ее доктор, – в случае чего, вы поставите эту больничку на уши. Я уже слышал это от вас, – он вдруг наклонился к ней и сказал тихо – так, что слышали все, но прозвучало зловеще: – Я вам честно скажу: мне эта, как вы выражаетесь, больничка осточертела давно, и ставьте ее хоть на уши, хоть на попа – мне все равно. Я – без пяти минут пенсионер, выгнать меня до пенсии не выгонят, даже если я… в общем, даже если ваши родственники, высокие начальники, будут не очень довольны результатами лечения, – он смотрел на нее пристально, и Виолетте, судя по всему, стало страшно. – У нас нет врачей, не хватает, а я – заслуженный, кандидат наук, гордость этой… больнички, пропади она пропадом. Вы мне совершенно не симпатичны, и лечить я вас не хочу. Но – еще раз: врачей нет, и я… вы не поверите: я еще помню, что такое клятва Гиппократа… и вот я вынужден заниматься не только вот этой замечательной старушкой, – он кивнул в сторону Клавдии Ильиничны, – но и вами.
Виолетта ошарашено молчала. Доктор тоже помолчал немного, потом улыбнулся снова своей обворожительной улыбкой.
– В общем, предложение такое: давай… прошу прощения – давайте мирно сосуществовать, пока вы здесь, – и еще раз придвинулся к ней почти вплотную, произнес свистящим шепотом: – У вас ведь все равно другого врача и другого выхода нет… Согласны?
Она молчала. Бабушка и Саня наблюдали за всем с плохо скрываемым восторгом.
– Лечь-умереть, – прошептала Саня.
– Молчание – знак согласия, – весело произнес Григорий Евстафьевич и приподнял на Виолетте одеяло. – Позвольте-ка, посмотрим, что у нас там со швами, измерим давление, температуру, сердечко ваше послушаем…
Та машинально подчинилась.
Когда доктор попросил ее сесть на постели, Виолетта вдруг болезненно сморщилась.
– Что такое? – участливо спросил Григорий Евстафьевич.
– Так попу в решето превратили своими уколами, еще спрашиваете – «что такое»! – она все-таки по привычке пыталась вернуть положение главной.
– Ага, – сказал доктор. – Что ж, сейчас и это посмотрим и решим – как облегчить ваши страдания, – он снова не скрывал иронии, но Виолетта уже не протестовала.
Уложив ее на живот и приподняв ночнушку, Григорий Евстафьевич внимательно осмотрел места уколов, почесал в затылке.
– Мда… среднего медперсонала у нас тоже не хватает… Значит, так. Страшного ничего нет, хотя, понимаю, больно и неприятно. Когда выпишут вас, дома нужно будет несколько дней подряд прикладывать капустные листья на места уколов – народное средство, проверенное, все и рассосется. Здесь с капустными листами не выйдет, вас все равно еще нужно будет колоть, поэтому… – он опять почесал затылок. – Вам бы йодовую сеточку на ночь поделать. Только вот кто вам рисовать ее станет? К вам же за четыре дня впервые пришли, – он взглянул на Саню.
Виолетта хотела снова ответить что-то резкое – тут неожиданно вмешалась Клавдия Ильинична:
– Доктор, а давайте я сетку нарисую! Делать-то мне все равно нечего. А я у себя в квартире ванную так расписала – любо-дорого!
Григорий Евстафьевич и Саня рассмеялись, Виолетта поджала губы. Доктор повернулся к ней:
– Не возражаете? Не знаю, что тут у вас произошло – похоже, вы не очень подружились с соседкой, – но, честное слово, это лучшее, что можно сейчас придумать. Бабушка сможет делать сетку каждый вечер, и вам действительно будет лучше, – он уже не смеялся, говорил серьезно, как подобает врачу.
Виолетта нехотя согласилась.
* * *
Последующие дни проходили так. Каждый вечер после процедур Клавдия Ильинична брала в руки кисточку – обычную, рисовальную, которую принесла ей внучка, – обмакивала в йод и рисовала на попе Виолетты узоры. Ей скучно было просто чертить сетку, и она выводила то райских птиц, то деревья, то и вовсе узника за решеткой. Места для того, чтобы написать «Сижу за решеткой в темнице сырой», уже не хватало, несмотря на довольно вместительный «холст». Медсестры, ставящие вечерами уколы, тихонько хихикали – Клавдия Ильинична тайком показывала им: «Молчите, не выдавайте!» Виолетта ничего не подозревала. Картины, впрочем, размывались скоро – вероятно, в организме Виолетты недоставало йода. К соседке по палате вельможная пациентка нехотя привыкла и даже простила Клавдии Ильиничне празятя «не нашей масти», как она выражалась. Сочувствовала.
– Жаль, конечно, что у вашей внучки такой вот муж, – говорила она, с сожалением глядя в подушку, когда Клавдия Ильинична наносила на ее круп очередной узор, – но что тут поделаешь? Сердцу не прикажешь. Любовь зла, полюбишь и… – она замолкала, не решаясь даже произносить вслух ненавистное слово.
Клавдия Ильинична улыбалась.
Виолетта ничего не знала о том, как живописен ее зад, до той поры, пока однажды, наконец, не пришел навестить ее муж – сам Касаткин. Он появился неожиданно, как раз в тот момент, когда Клавдия Ильинична заканчивала очередной пейзаж. В густой низкой траве цвели лилии. Не хватало цвета, пейзаж лишался живописности, и Клавдия Ильинична про себя сокрушалась этому обстоятельству. Касаткин вошел так, что она не услышала, нанося последний мазок. Очнулась от хохота за спиной. Испуганно оглянулась – было поздно. Удалось только послать в мужа Виолетты умоляющий взгляд. Тот все понял правильно – недаром пересидел трех губернаторов.
Виолетта дрогнула, повернула голову:
– А, ты… Наконец нашел время! – В голосе слышались и радость, и обида. – А что смеялся-то?
– Красиво тут у вас! – Касаткин не нашел других слов.
Виолетта недоуменно уставилась на мужа.
– У нас? Красиво?!
Ума она была небогатого.
Александр Борисович еще раз хмыкнул напоследок, протянул руку навстречу освободившейся руке Клавдии Ильиничны.
– Будем знакомы: Касаткин. А вы, значит, и есть Клавдия Ильинична, которая спасает мою жену от шишек и синяков? – он при этом доброжелательно улыбался.
Бабушка молча кивнула. Потом подумала и сказала:
– Уж как спасаю – не знаю, но стараюсь.
Касаткин подмигнул ей так, чтобы не увидела жена. Та не поняла ничего.
А потом Александр Борисович очень деликатно рассказал ей, что соседка по палате не просто делает ей йодовую сетку, а рисует пейзажи.
– Твоя попа теперь – произведение искусства! – сказал он.
Виолетта было задохнулась от злости – и как-то сразу поняла, что злиться не на что и не на кого. Ну кому какая разница, что у тебя там… нарисовано? Смирилась. И даже посмотрела на соседку с любопытством, неумело скрывающим уважение.
Свидание продолжалось недолго – председатель правительства торопился на службу. Прощаясь, еще раз пожал Клавдии Ильиничне руку:
– Выздоравливайте! Если что не так – жалуйтесь. Мы эту больничку мигом на уши поставим!
Клавдия Ильинична вздохнула.
* * *
Выписывали их почти разом, Клавдию Ильиничну на день раньше. Виолетта уже не косилась на нее, выражала полное признание. И даже телефон попросила напоследок. И еще сказала:
– Вы уж мне там на память что-то такое нарисуйте, что долго не сойдет! – и засмеялась своей шутке.
А когда бабушка макнула кисть в йод, вдруг произнесла задумчиво и осуждающе:
– Хорошая вы старушка, только вот зять у вас…
Внутри Клавдии Ильиничны хрустнуло, как будто сломалось что-то. «Что ж ты… испортила все…»
По привычке вздохнула – и нарисовала розовый куст. Богатый, красивый, хотя и в один тон, а все равно – живописный.
Из больницы ее забрал на машине Виталий.
А на следующий день Александр Борисович Касаткин отправил служебную «Камри» за женой. Причины «ставить эту больничку на уши» не было, и Виолетта, плавно поводя телесами, ушла с миром. Даже попрощалась снисходительно.
И вот спустя неделю – ночной звонок, и Клавдия Ильинична, несмотря на возраст и неважное здоровье, едет на вызванном такси по названному адресу. О том, в чем причина звонка и нервного поведения мужа Виолетты, бабушка догадалась еще дома, во время телефонного разговора.
Касаткин встретил ее у подъезда.
– Спасибо вам, что не отказали! Что делать – знаете?
Клавдия Ильинична отмахнулась:
– Да не знаю я ничего! Пойдемте, посмотрим – может, что придумаю.
– Как же так? – взвился Касаткин. – Что ж вы – дел натворили, а как исправить – не знаете? Да я…
– На уши меня поставите? – Клавдия Ильинична посмотрела на правительственного чиновника с любопытством. Тот осекся. – Ладно, пошли, показывайте – что там. А то ведь я и обратно такси могу вызвать.
Касаткин молча распахнул подъезд.
Дело же было вот в чем. Розовый куст, нарисованный Клавдией Ильиничной на богатом «холсте» Виолетты Касаткиной, никак не хотел стираться. Более того: он расцвел, покрылся колючими шипами, и шипы эти вонзались в тело обладательницы пышных форм. Она не могла сидеть, спать на спине, но даже лежа на животе – не могла ничем укрываться. И чем больше злилась на автора этого «произведения», тем больнее кололись шипы. В конце концов, жизнь ее через неделю после больницы окончательно превратилась в ад. Она отыскала телефон бабушки, попросила мужа позвонить.
…Клавдия Ильинична долго и с большим изумлением рассматривала творение своих рук. Подняла голову на Касаткина.
– Понимаете, я ведь этого не рисовала. Оно само…
– Что само? – не понял Касаткин.
– Ну… как-то этот куст сам растет и шипы выпускает.
Он обалдело уставился на старуху.
– Вы… ты… вы понимаете – что говорите?!
– Что говорю – понимаю, – задумчиво произнесла Клавдия Ильинична. – Не знаю только – что делать с этим…
Касаткин несколько секунд молчал, потом разразился такой бранью, которой от председателя правительства слышать было странно. А закончил так:
– Я сейчас в полицию позвоню, и тебя, старая вешалка, закроют надолго за шарлатанство!
Клавдия Ильинична внимательно посмотрела на чиновника. Тихо спросила:
– А вы тогда сами эти розы срежете? Или нюхать их станете до конца жизни? – Касаткин ловил ртом воздух. – Выйдите отсюда, не мешайте работать. Спасибо скажете потом, позже. Только йод и кисточку принесите.
Он не нашел ничего возразить, вышел. Через минуту принес йод с кисточкой. Открыл рот, чтобы снова пригрозить старухе – та глянула на него так, что рот захлопнулся сам собой. Касаткин снова вышел.
За все это время сама Виолетта не произнесла ни слова, только тихонько постанывала, лежа на животе. Клавдия Ильинична некоторое время поколдовала над ее тазом, что-то там нарисовала. Отложила кисть.
– Не уверена, что поможет, но надеюсь.
– Что значит – «не уверена»?! – Виолетта подскочила, одергивая ночную рубашку. – Что значит – «надеюсь»?! Да я тебя… да мы… – и снова застонала: шипы вонзились.
Клавдия Ильинична вышла, не слушая.
Касаткин стоял у двери спальни, нервно тер лоб. Было уже скорее рано, чем поздно. Встретил Клавдию Ильиничну вопросительным взглядом. Она махнула рукой:
– Думаю, поможет. Сами там все увидите. Такси мне вызовите, – и, через паузу: – Пожалуйста…
…На обширном заду Виолетты, рядом с розовым кустом, красовался огромный садовый секатор, нарисованный все тем же йодом. Увидев это, Касаткин снова виртуозно выматерился.
– Ну, курва старая, погоди, дождемся утра! Сгною, ведьма!
А Виолетта вдруг уснула. И проснулась наутро с ощущением легкости в теле. Ноздри щекотал какой-то странный, душноватый аромат. Рядом, на простыне, лежали срезанные розы цвета йода и невыносимо пахли.
А секатор так остался там, где был нарисован. Никакими средствами свести его не удалось.
Впрочем, он никому и не мешал.
02.08. 2017 г.
Два ведра динозавров
Маленькая повесть
Чтобы все это вспомнить, мне нужно было приехать к нему домой спустя много лет после описываемых событий. Приехать, посидеть за столом, выпить какой-то дряни, послушать щебет его дуры-жены – тогдашней, потом они, к счастью, разошлись, и двое детей, которых успели родить, ко времени развода выросли и более-менее оперились. Но я больше слушал не его жену, хотя она все время перебивала Липецкого, – слушал его, и это помогло мне вспомнить. Я был не один, со мной приехала моя половина, которая знала к тому времени о нем только понаслышке и по его скульптурам, и щебет этой дуры поверг мою половину в состояние почти обморочное. Она никак не могла сложить два и два: как такому таланту досталась такая… То есть у нее не получалось – два и два, получалась какая-то другая арифметика.
Но я слушал Липецкого – и вспоминал…
Однако, сначала.
Однажды мы с женой приехали к Липецкому в гости. Он загадочно и хитро на нас посмотрел – он это умеет, Липецкий, – сказал: «Пошли, покажу». Жил он с женой – тогдашней – и двумя еще не оперившимися детьми в трехкомнатной квартире. В одной из комнат, которая служила ему мастерской, стояли два больших эмалированных ведра, полных чего-то – мы не разобрали, чего именно.
– Как думаете – что это? – пнул он ногой ведро.
– Не знаю… Ну, камушки… ракушки какие-то…
– Тупые вы, – удовлетворенно констатировал Липецкий. – Это – останки динозавров. Я нашел самое крупное из зарегистрированных в мире местонахождение останков динозавров.
– Где?! – наш дуэт был слегка с хрипотцой: офигели.
– Да тут, неподалеку… – он посмотрел на нас как-то грустно. – Этим я и занимаюсь последние годы: палеонтологией. Кроме скульптуры, конечно.
– Погоди, Жора, – я от волнения стал, кажется, заикаться. – Ты расскажи толком – как нашел? Я же понимаю, ты не врешь, ты вообще никогда не врешь, и если сказал – самое крупное, значит – так и есть.
– Да просто все, – махнул рукой Липецкий. – Ну, сел на велик, поехал – и нашел. Знаешь у нас карьер в 30 километрах от Города, где щебень добывают? Ну, вот заехал в карьер, увидел подозрительный срез, копнул – и вот… Тут очень редкие экземпляры, не редкие – что я говорю! – уникальные, не описанные.
Мы тупо уставились на два ведра. Жена осторожно спросила:
– А как ты узнал, что это – динозавры?
– Да тут не только динозавры – вот смотри! – Липецкий нырнул рукой в ведро, выудил какую-то кривую косточку, показал: – Это вот – фрагмент задней лапки древней лягушки, животного вроде того, которое нашли в свое время американцы – они ее назвали Beelzebufo. Но эта другая, та жила 70 миллионов лет назад, эта помоложе и не такая большая. Но главное – нигде она не описана, ее нигде больше не находили, я – первый!
Он не понял вопроса. Для него вопроса – как? – не существовало. Жена спросила еще раз:
– И все-таки – КАК ты это все увидел, как соотнес части друг с другом, как узнал, что вот это – лягушка, тем более нигде не описанная, а это вот – динозавр или еще какая-то… кракозябра? Как, Липецкий?!
Жора улыбнулся, беспомощно развел руками.
– Ну, откуда же я знаю. Как-то получается у меня…
И вот тогда мне захотелось рассказать жене историю, которую Липецкий долгие годы просил никому не рассказывать. Я все-таки выпросил у него разрешение – и рассказываю о том, что случилось много-много лет назад, когда все мы носили густые волосы и совсем еще редкие усы. Рассказываю, конечно, не только жене.
* * *
Пришел с огорода Липецкий, бросил на стол лук, огурцы, посмотрел на всех загадочно.
– В лес пойду. На три дня. Кто со мной?
Ответное молчание не было недоуменным. Оно было ленивым. Стояло лето, июль пылал жарой, какая в Сибири именно в этом месяце случается, хотя и не каждый год. Какой лес, куда идти? Зачем? Может, там и тень, в лесу-то, но – зачем?! Здесь вот – тоже тень, и холодное пиво, и магазин рядом, и вообще – двигаться неохота…
Римас так ему и сказал, Липецкому. Говорит, мы к тебе приехали отдохнуть, а ты – «в лес»…
– Так в лесу – самый отдых, тупые вы! – Липецкий был вообще-то обаятельным, но мог быть и грубым. – Вы – тупые, – с нажимом повторил он, – в лесу – самый отдых…
– Ты три дня там отдыхать будешь? Под соснами загорать, елками? – Ник свернул пробку бутылке минералки, залпом отхлебнул, закашлялся.
Заворочался Борис на раскладушке.
– Не, ну чо за проблемы-то? Спать мешаете. Щас бутылкой наверну по башке кому-то!
Борис любил вот так изъясняться – просто, по-уличному, выходило у него это мультяшно. Для высшего образования – очень уж искусственно. А он и не боялся выглядеть вот так – искусственно. Роль играл. И чтобы все видели, что он – роль играет.
Вздохнул Липецкий, присел. Стал объяснять.
– Мужики, тут чего… Пошел на огород – нашел вот что, – он показал: наконечник стрелы, не то каменный, не то костяной. – Здесь, в этом районе, когда-то было древнее поселение. Но тут искать смысла нет – все уж перелопачено, понастроено, изрыто… Надо идти в лес. Я знаю примерно – куда.
– О как! – Ник удивился. – И откуда знаешь? Кто подсказал – древние люди?
– Неправильный вопрос! – это уже Борис. – А зачем искать-то? И что искать?
Липецкий опять вздохнул, глянул на молчащего Римаса, махнул рукой.
– Нет, ну какие вы все-таки… тупые! Вот правду Пушкин написал: «Мы ленивы и нелюбопытны…»
– А это Пушкин написал? – осторожно спросил окончательно проснувшийся Борис.
– Пушкин, – еще раз безнадежно махнул рукой Липецкий.
– Не, ну если Пушкин – тогда пошли! – сказал Борис.
– Куда пошли-то? – Римас жалобно на всех поглядел. – Не хочу никуда идти! Хочу разлагаться! И пиво пить! И водку! И вообще – ничего не делать!
– А ты разлагайся, – сказал Борис. – Ты тут разлагайся, пока мы древние поселения ищем. Еду приготовишь, за водкой сбегаешь. Кто-то же должен остаться на хозяйстве…
Римас приподнялся от возмущения.
– Я – на хозяйстве?! А кто фотать вас будет, идиоты? Ладно уж, пошли все…
И они пошли.
Липецкий работает на подстанции электриком. Устроился, предъявив старые корочки, срок действия которых вышел давно, начальники сослепу не разобрали. Да и не хотели ничего разбирать: второй электрик нужен был до зарезу. Любой. Липецкий, когда приехал на место – понял, почему любой. От электрика тут ничего не зависит. Авария – он сидит и ждет аварийщиков. В остальное время – рубильник включить или выключить. А так – природа, красота, лес! Работают в смену, вдвоем, сутки дежурит один, сутки – другой. Ну, или как договорятся. Главное – чтобы на этом хозяйстве всегда кто-то был. Липецкий вообще-то скульптор. Пока непризнанный, но стремится. (И не зря: через несколько лет его признают и примут в Союз художников.) Он режет по дереву и лепит из глины.
Напарник его – и вовсе романтик, поэт, лирическая натура: сядет на крыльцо, уставится в небо – и шевелит губами: думает, сочиняет. Живут они в двухквартирном домике, квартиры – две комнаты и кухня, просторные, у обоих жены и мелкие дети. Детям есть, где порезвиться, а женам – где поковыряться: двор, площадка, клумбочки-грядочки… Огород, хоть и маленький.
Сейчас вот Липецкий своих отправил на лето к родственникам – немедленно прикатили друзья из Города, который в 27 километрах от Поселка.
В Поселке раньше был рудник, проходила железная дорога, потом рудник закрыли за неперспективность, дорога заросла травой, и приехать сюда можно на автобусе, который ходит раз в день, или на попутках. Попутных машин много: через Поселок проходит дорога, по предгорью она ведет в соседнюю область. Движение достаточно оживленное, чтобы в любое время года поймать что-то до Поселка. Липецкий не против друзей, он, уехав из Города три года назад, по ним скучает. Здесь хоть и хорошо, хоть и природа, а все-таки скучно.
А вообще вокруг – лес, да что лес – тайга, пройти километров пять от Поселка – и тайга настоящая, книжно-киношная! Зверя хищного, правда, здесь мало кто встречал, но лоси точно ходят. Ну и растительность – местами дай Бог продраться, если хоженых троп не знаешь.
Липецкий знал здесь все тропы, за три года все исходил-истоптал, и там, где троп не было, он их сам пробил. Зимой – на лыжах, летом – пешком, с топором за поясом и рюкзаком за плечами. Не просто любопытства ради: искал интересное. И то, что пригодится потом для работы – деревяшки всякие, – и просто… интересное. С некоторых пор увлекся археологией, читал не просто запоем – выбирал те книги, которые написаны учеными авторитетами: им можно верить. Про эти вот места, где он живет, узнал: были здесь одни из самых древних человеческих поселений, и археологи знакомые из Питера подтвердили: были. Эти поселения они, питерские археологи, и искали как раз каждый год. Липецкий возбудился, даже во сне видел, как он что-то эдакое нашел в тайге – в коротком сне не разобрал, что именно нашел. Одно только разобрал: морщинистое лицо не то старика, не то старухи.
И вот случайно выкопал на крошечном своем огороде наконечник от стрелы. Сверил с книжками, чего-то высчитал – ну, вроде сходится. Решил: надо идти. Куда идти – так и не сказал друзьям. Потому что не знал сам – куда. Врал просто.
Шли хорошо. Хорошо было идти. Несмотря на жару и штиль (ветра не было совсем), лес жил активно: в кустах шуршало и попискивало, на ветках чирикало и свиристело, в воздухе порхало. Под ногами потрескивали сухие ветки, тропинка, то расширяясь и обозначаясь явственно, то вовсе пропадая в траве, вела в глушь, в сердцевину. Впереди уверенно шагал Липецкий, за ним Борис, Ник. Позади, негромко и бесстрастно чертыхаясь то по-русски, то по-литовски, брел с фотокамерами Римас.
Римас был лучшим в Городе фотографом, это все знали, и у него поэтому не было отбоя от заказов. То есть он даже отбивался – и не мог отбиться. И когда друзья собрались оторваться на недельку к Липецкому, он с готовностью присоединился. Здесь-то его точно никто не достанет.
…Забыл я, совсем забыл – тоже мне, рассказчик! – забыл сказать главное-то: дело происходит в 1985 году, и не только о мобильных телефонах, но и о пейджерах еще никто слыхом не слыхивал. Потому Римас и чувствовал себя в Поселке в безопасности, потому и хотел разлагаться и пить пиво: ноги его от бесконечных передвижений по Городу и так обросли лишней мускулатурой, и теперь он хотел дать им отдохнуть. Не пришлось.
Не дали, идиоты.
В общем, шли.
В лесу и правда было немного свежее, даже без ветра. Борис насвистывал песенку, повеселел. Он вообще легко переходил из одного состояния в другое, хотя сказать о нем – «легкий человек» – никак было нельзя. Переходы эти случались внезапно – и в любую сторону. Временами внезапно мрачнел, впадал в состояние, близкое к мизантропии, мог исчезнуть на несколько дней – и никто не знал, где он и что делает. Потом появлялся с опухшей физиономией – ясно, пил, – несколько дней валялся на общежитской кровати, уткнувшись носом в стену, ни с кем не разговаривая. Работал он от случая к случаю где попало, чаще не работал нигде.
Мизантропия проходила так же внезапно, как наступала. Вдруг вскакивал, зачем-то делал зарядку, брился, проявлял бурную деятельность – загонял всех сожителей по комнате на койки и драил до блеска неделями не мытый и не метенный пол. Потом садился за стол – и через пару часов выдавал очередной шедевр. Он писал стихи – странные, отрешенные какие-то. Но талантливые и завораживающие.
Выходишь с непокрытой головой,
Душа моя, Мария, Богородица.
Стоит декабрь, трещит мороз, как водится…
Где Твой покров? И где Младенец Твой?
Стихи, конечно, нигде не печатали, даже в местной районной газете. Они были пугающе чужими и ничему не созвучными. Но Борису это было все равно: он метил в гении.
Липецкий вдруг остановился. Встали и остальные.
– Чего? – спросил Борис.
– Сейчас, погоди… – Липецкий отошел в сторону, скрылся за кустами…На Липецкого снизошло. Внезапно, каким-то внутренним зрением он увидел все, что ждет их дальше. Сейчас они пройдут широкую низинку – весной здесь много воды, а прямо в воде растет молодая, жирная черемша, столько – хоть коси. Сейчас в низинке сухо, трава да кусты, хотя порой еще встречается та же черемша-переросток, с жесткой длинной стрелкой и такими же жесткими и уже почти несъедобными листьями. За низинкой начнется снова подъем, тропинка заберет вправо, в горку, потом они перевалят холм, снова спустятся – и там… сердце Липецкого встрепенулось. Там нужно остановиться, разбить бивак – и копать три дня, аккуратно, по периметру. Углубившись на метр-полтора, дальше копать и вовсе осторожно, буквально просеивая вынутый грунт. Там что-то было и что-то есть.
Он вернулся на тропинку.
– Пошли, – кивнул и зашагал.
Борис пожал плечами, пошел следом, за ним остальные. Римас опять равнодушно выругался.
За холмом Липецкий остановился, оглядел полянку, удовлетворенно кивнул сам себе – для стоянки место что надо, – скинул рюкзак.
– Все, пришли.
Борис опять пожал плечами: что-то он знает, этот чудак…
– Почему здесь? – спросил на всякий случай Ник.
– Откуда я знаю? Но знаю, что здесь.
Спорить не стали: притомились все изрядно, шли несколько часов, дело к вечеру, хотелось поесть и отдохнуть. Палатку с собой не брали – сложили из веток шалаш, сверху накрыли его полиэтиленом на случай дождя, полиэтилен закрепили веревками. На костре быстро сварганили ужин из консервов, заварили чай. Готовил Ник. Липецкий в это время что-то высматривал в кустах, вымерял что-то. Римас от нечего делать снимал природу.
Ужинал Липецкий нетерпеливо, поглядывая на небо в сторону заката. Отложил ложку, отхлебнул чай из кружки, подмигнул Нику:
– Чай с гренками?
Борис страдальчески застонал.
– Ник, скотина, ты опять туда головешку сунул?!
– А как же! – томно отозвался Ник. Его после еды разморило, он наслаждался покоем и лесом.
У Ника был свой особый способ заваривать чай в лесу. В костер он закладывал вместе с другими дровами непременно одно хвойное полено – лиственницу, ель – все равно. Когда котелок с водой закипал, он щедро всыпал в кипяток заварку, снимал котелок, вынимал рукавицей-верхонкой из костра хвойную головешку – и опускал ее на несколько секунд в чай. Затем накрывал котелок крышкой минут на десять. Чай получался по-особенному, по-лесному ароматный, с дымком, но была одна досадная деталь: в нем встречались угольки от головешки. Это не всем нравилось. Борису не нравилось.
– Ну, скотина и скотина! – констатировал Борис. Он собрался продолжить свою мысль – Ник молча встал, взял хвойную лапу, накрыл ею огромную литровую кружку Бориса, сквозь это импровизированное «ситечко» нацедил чай.
– Устроит? – протянул Борису кружку. Тот развел руками: принимается.
– Ладно, мужики, хорош рассиживаться, пошли! – Липецкий встал.
– Куда опять? – насторожились все.
– Копать, куда же еще…
– Липецкий, да ты офонарел! – сказал Борис. – Мы шли полдня, устали, как собаки, дело к вечеру, уже семь часов – давай завтра начнем! Прямо с утра.
– Между прочим, после обильного ужина активные физические упражнения вредны, может заворот случиться, – подтвердил Ник. Ну совсем не хотелось ничего копать и вообще шевелиться.
Римас отрешенно, но согласно молчал.
Липецкий вздохнул.
– Тогда я сам. Отдыхайте.
Он взял лопату, пошел к краю поляны. Борис посидел минуту, чертыхнулся, поднялся… Пошли и остальные.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































