Текст книги "Одноклассники точка"
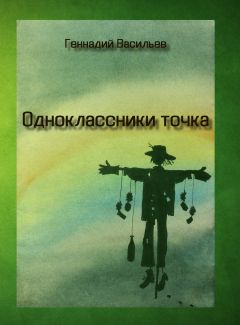
Автор книги: Геннадий Васильев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сердце солдата
Художник вернулся с войны с медалями. Их было две – круглые, из непонятного металла – скорее всего, это была бронза, – с крестом посередине, выбеленным, они касались друг друга и геройски звякали. Там, на войне, медали надевать запрещалось. Так же, как запрещалось надевать любые знаки отличия – погоны, лычки, нашивки… Условие секретности сообщало дополнительную ценность наградам. Медали вручали торжественно, перед строем – а потом изымали и хранили вместе с документами в специальном месте. И потому все помнили – кому и за что вручались награды. Художник получил две медали – за оборону города, название которого он помнил, но никогда в нем не был, и «За боевые заслуги», которые у него, конечно, были.
Художник вернулся с войны, где он провел почти год, и стал еще знаменитее, чем раньше.
– Ну, как там, на войне? Страшно? – спрашивали его товарищи по цеху.
– Да как… на войне как на войне, – отвечал он и улыбался – сдержанно и мужественно. Как от него ждали.
– Как же ты решился? Могли же убить… – выпытывали подруги.
– Ну… за братьев наших, славян… – играл он желваками, и подруги любили его еще больше.
Его звали на телевидение – поделиться, но он отказывался.
– Не мастер я разговорного жанра. Я все больше кистью…
От него ждали новых работ – на военную, конечно, на патриотическую тему. Руководитель творческого союза прямо брал быка за рога.
– Говори, когда планируем выставку? Вот у меня график – говори, когда готов, я подвину любого, кто в плане. Твоя тема важнее любой другой, на пике!
– Да нет у меня никакой темы! Не написал я пока ничего. А может, и не напишу…
– Как так? – кипятился в трубку руководитель союза. – Ты что – с собой ничего оттуда не привез? Что ж ты там целый год почти делал?!
– Воевал, знаешь…
Ему не хотелось писать войну. Он ушел туда добровольно, по зову сердца, по убеждениям, и убеждения эти не изменились. Война не погасила в его груди патриотический огонь.
Но он не хотел делиться тем, что видел. Он слишком много видел. Он был художник-реалист, и война для него стала сплошным пленэром, очень щедрым на смену пейзажей и сюжетов, характеров и портретов. Этого пленэра ему теперь хватит до конца жизни, такая палитра – дай Бог каждому. Но он пока не был готов рассказывать – по крайней мере, рассказывать широко, как он умел, эпически, с размахом.
От него отстали, и он вздохнул. Он хотел писать то, что писал всю свою творческую жизнь, с самой художественной школы: пейзажи, натюрморты, увядание природы и ее пробуждение, живые цветы, деревья, людей и животных в пейзаже – вот это он хотел писать. И умел, он был одним из лучших пейзажистов не только в большом городе, но, пожалуй, в стране. Его картины занимали достойные места в лучших галереях и музеях, их с удовольствием покупали настоящие ценители искусства.
Он поехал писать натуру. Стоял апрель, солнечный, многообещающий. Каждая веточка на дереве, каждая почка на веточке – все дышало будущим, радостью ожидания, счастьем жить. Он установил этюдник, разложил краски, начал работать жадно. Он соскучился по работе. И все пошло хорошо. И в этот, и в последующие дни. Он написал несколько этюдов, часть решил превратить в большие живописные полотна, другие ему казались вполне самостоятельными работами, чуть доделать – и можно показывать и продавать. Он работал самозабвенно, забывая – какой день в календаре.
Однажды к нему в мастерскую, на последний этаж высокого дома, пришел приятель. Тоже художник, они учились живописи у одного мастера. Приятель разменял свой талант мастера портрета на кич, его работы охотно и дорого покупались, а он так же охотно и откровенно посмеивался над вкусами покупателей. Ясности и точности суждений, однако, он не утратил. Художник показал ему свои новые работы.
– Что скажешь?
Приятель долго молчал. Потом спросил:
– Ты же не хотел рисовать войну?
Художник удивился.
– Причем же здесь война?
– У тебя в этих пейзажах – война. Мертвое все. Погибло – и никогда не оживет…
Они поссорились. Художник попросил приятеля больше к нему не приходить. Оставшись один, долго еще кипятился: «Надо же – война!.. Весной все дышит, жизнью, а он – «погибло, не оживет»…» Он вышел на балкон, широко распахнул дверь – пусть в мастерскую войдет весенний воздух!
Над городом висело чистое, отмытое от зимы, небо, светило солнце, стаями носились и орали обалдевшие от счастья воробьи. Жизнь разворачивалась во всей нарядной новизне. На противоположной стороне улицы, как раз напротив балкона, около здания института два парня прямо на асфальте устанавливали аппаратуру: на раскладной табуретке стоял ноутбук, к нему цеплялись пара колонок и микрофон. Туда же тянулся шнур от акустической гитары. Барды. Один встал перед микрофоном, проверил гитару, начал петь. Второй со шляпой в протянутой руке стал приставать к прохожим. Звук был чистым, голос на удивление приятным, слова песни какие-то странные. Но главное – песня была про художника. Он невольно стал слушать.
Песня звучала простенько, даже слишком, в стихах не было рифмы, в мелодии не слышалось особой музыки. Художник даже хотел уйти, но что-то заставило остаться и дослушать. Бард рассказывал о том, как, рисуя тушью солдата, неведомый рисовальщик почему-то главный орган – сердце – нарисовал простым карандашом.
«Этот вопрос любой бы
Задал на нашем месте:
«Зачем ты рисуешь сердце
Не тушью – карандашом?»
И он ответил с заминкой,
По сторонам глядя:
«Чтобы стереть резинкой,
Если придет война!..»
Художник вздрогнул. Какая странная песня… Он с неприязнью посмотрел вниз, на исполнителя. Вокруг того уже собралась кучка студентов, аплодировали. Художник почувствовал прохладу, поежился, вернулся в мастерскую. Что-то сдвинулось внутри, стало почему-то не по себе. «Неприятная песня…» – подумал он снова. Ну да ладно, пора к станку. Он подошел к мольберту, взял краску на кисть, взглянул на полотно – и замер. С картины, которую он начал писать по самым свежим, самым весенним впечатлениям, на него смотрела мертвая природа. Он не знал – почему мертвая, все было, как живое. Но все было – мертвое. Мертвые цветы, умершие деревья, неживые птицы… «Погибло – и никогда не оживет…»
Он рванулся на лестницу, сбежал с седьмого этажа, выскочил на улицу, растолкал студентов.
– Слушай, друг, – задыхаясь, обратился он к парню с гитарой, – ты сейчас песню пел про художника, который солдата рисовал…
– Ну да, пел. И что?
– Да нет, ничего… А чья песня?
Парень пожал плечами.
– Вот не знаю я автора.
– Мы не знаем, – подтвердил второй, со шляпой, – в записи услышали, понравилась – выучили. Старинная, наверно, там карандаш – за три копейки… – он покосился на кисть, которую художник так и держал в руке. – А вы что – тоже художник?
– Художник… А можно ее – еще раз? Я заплачу, – художник взглянул на шляпу.
– Да пожалуйста, можно и не платить, мы с удовольствием.
И он снова услышал:
«Солдат был как все люди,
Просвеченные рентгеном,
Такой же, как мы с вами,
Только чуть-чуть солдат:
На строгом черепе черном
Черная каска болталась,
А из-за черной ключицы
Черный торчал автомат…»
Художник слушал – и чувствовал, как пустота в его груди разрастается, как там образуется одна большая дыра вместо сердца, вместо всего, что там есть.
«Он рисовал тушью.
А сердце почему-то,
Самое главное – сердце —
Вывел карандашом.
Простым таким карандашиком,
Мягким, за три копейки,
Сердце солдата вывел
И посмотрел на нас…»
«Чтобы стереть резинкой, если придет война…» – вслух повторил художник. И вздохнул – как всхлипнул.
– Спасибо, ребята.
В мастерскую он поднялся пешком. Он теперь боялся туда вернуться. А когда вернулся – понял, чего боялся. Со всех новых картин, со всех этюдов на него смотрела смерть. Художник был реалистом. На войне, на которую он ушел добровольцем, по зову сердца, он видел только смерть. Ничего другого на войне не бывает. Он подумал: война убила его, стерла его сердце, как резинка стирает карандашный рисунок. Больше никогда он не сможет создать ничего живого.
Он снова вышел на балкон. Барды на той стороне улицы пели уже другие песни, публика смеялась и бросала монеты в шляпу. Жизнь продолжалась. Художник перегнулся через перила.
…Нет, он не бросился с балкона – ведь именно этого ждет читатель? Нет, он не бросился. У него просто остановилось сердце. Оно все-таки не было нарисовано карандашом. Оно было настоящее.
А его посмертную выставку выставком не одобрил. Такой реализм патриотически воспитанному творческому союзу был не нужен.
10.04.2015
Страшная тайна
Памяти Михаила Успенского
Я живу давно, если считать по-нормальному. Не трепать снисходительно по плечу с высоты 190 сантиметров и 80 лет: «Ну, 56… пацан!» – а если по-нормальному, честно. 56 – это возраст. Это уже много. Не пацан, конечно. Потому и говорю: я живу давно. И многих пережил уже – и старше, и младше себя. Не кичусь этим, не горжусь, жалею о тех, кого пережил, многих не хватает. Но и какого-то особого знака в этом не нахожу, не крещусь суеверно: «Опять пронесло, спаси, Господи!», беспокойства не испытываю. Жизнь – она как дана, так и есть. Я думаю, дана Всевышним, атеисты и агностики полагают иначе – ну и Бог с нами со всеми. Хотим мы того или нет.
Я живу давно, многое повидал и пережил. Но такого, что случилось со мной год назад, не было еще никогда. И не знаю теперь – кончится ли когда-то назначенное мне испытание?
Я – филолог, если точнее – школьный преподаватель русского языка и литературы. Зовут меня Николай Степанович Букарин. Язык я люблю, а профессию свою, должность – нет. Хотя преподаю усердно, ученики мои на олимпиадах побеждают, ЕГЭ сдают и в вузы поступают. Но любви у нас с ними нет – так… отношения. Школу закончил – и забыл. Я их тоже не больно-то помню, разве что самых тупых – на них сил отпускается больше, чем на умных. Но в основном – не помню. И не хочу по-другому. Не хочу я в них вкладывать душу, жаль мне – и души, и сердца. Они у меня в единственном экземпляре, а ученики – как ношенные тапочки: отходил сезон – и выкинул. Не жалко. Много еще будет таких. Хотя и не так много уже: до пенсии – всего ничего. Дотяну, даст Бог. Коллег своих я тоже не особо жалую, друзей у меня в преподавательском цехе нет. Ни друзей, ни приятелей даже, ни любовниц. И не было никогда – как-то обошелся, проскочил. На коллективные праздники, корпоративы стараюсь не ходить, хотя в день учителя не отвертишься, приходится сидеть на торжественных собраниях, строить счастливое лицо, когда тебе вручают очередную грамоту – не за заслуги, а по списку. Тут уж ничего не поделаешь.
И держит меня в этой моей профессии вот уж сколько десятков лет только одно: очень я люблю слово. Можно было, конечно, податься в науку, написать диссертацию, потом труды научные кропать, исследовать какую-нибудь поэтику Булгакова или Достоевского, делиться открытиями… Упустил. В молодости побоялся, потом поздно было. Или показалось, что поздно.
Наука просквозила мимо, а любовь осталась. И я нашел этой своей любви такое приложение. Я люблю слушать людей, одновременно наблюдая за их мимикой, жестами, выражением глаз. Мне интересно сопоставлять – как слова, которые они из себя извергают, соотносятся с их настоящими мыслями, их внутренним мироощущением, как они это мироощущение через слова передают. Занятие, скажу вам, чрезвычайно увлекательное! Столько нового про людей узнаешь – лучше бы и не знать иногда! Но – любовь к слову, к исследованию, к поиску – тут уж, опять же, ничего не попишешь. Я – лингвист-любитель, я бы себя так назвал.
Открытия случаются разные – мелкие и покрупнее. Понятно, что когда человек, например, на трибуне, он всегда врет, тут исключений нет. И когда я вижу выступающего перед публикой, допустим, мэра, или губернатора, или главу парламента любого уровня, а то и еще кого повыше, мне не надо особо углубляться в лингвистический анализ, даже самый поверхностный анализ покажет: врет он. Даже когда правду говорит – врет. Что именно думает – не скажу, не знаю, но что врет – к Ванге не ходи. Тут все просто. Сложнее – когда трибуны нет, и говорящий – не чиновник, а, допустим, как ты: учитель. Или даже нет, учителя тоже чаще всего врут. Не учитель, а, допустим, сосед по площадке, который машину свою паркует каждый вечер рядом с моей, а по утрам мы вместе выходим, здороваемся, перекидываемся парой слов и разъезжаемся. Вот на этой паре слов его очень интересно ловить. С какой ноги встал? Какое настроение внутри, за утренней улыбкой? Очень увлекательно.
На этом-то увлечении моем меня и накрыло. Было так.
Год назад полетели мы с моей женой к моей дочке в Москву на свадьбу. Здесь сначала требуется некоторое пояснение. «С моей женой к моей дочке» – звучит как-то… непривычно, да? Потому что дочка у нас с женой – отдельная, моя, от предыдущего брака. «От предыдущего» – потому что не первый он, а… ну, неважно. С предыдущей женой мы жили недолго и счастливо: она жила у мамы в одной из прибалтийских республик, я – в Красноярске. Но так было уже тогда, когда она забеременела. До этого, конечно, жили вместе, иначе бы дочка не родилась. Жена и уехала к маме рожать: «Мама будет рядом – подскажет, научит, поможет…» Не очень-то мама помогла, однако не в ней дело.
Чем ближе к родам, тем Мила моя (имя такое у нее – Мила; я ее так и звал в шутку: «Мила моя!») больше беспокоилась. Письма, телеграммы… В конце концов: «Приезжай, без тебя худо». Приехал, как-то успокоил. Посмотрел внимательно на маму, послушал – чего она говорит, – понял, в чем дело. Не любит она свою дочку. И без меня, конечно, ей, Миле, там было, правда, худо. Пришлось жить с ними до родов.
Жена родила неожиданно. Ждали-ждали, даже спать стали врозь, чтобы не навредить и вообще. И вот ночью просыпаюсь – она стоит, лицо светится в темноте белым, гладит меня по одеялу и говорит спокойно так: «Ну, чего ты лежишь? У меня воды отошли, вызывай «скорую»…»
Дочка родилась – как все: красная, сморщенная, кричит, титьку кусает… После родов мы почти сразу уехали – как только у Милы все зажило. А еще через полгода разошлись – мирно, без ссоры. Не было любви между нами. Вся любовь – дочка.
Теперь-то она, дочка – красавица, умница, замужем. И он – ну, не красавец (хотя кому как!), но тоже умница, еще почище нее. Кандидат наук. Жена у меня давно другая, с дочкой она в дружбе, иногда даже дружат против меня. Я ничего не имею, пускай дружат. Главное – чтобы они друг друга слышали. И меня, конечно, тоже.
Вот и полетели мы с моей нынешней женой Альбиной на дочкину свадьбу. И вот тогда на меня снизошло. Или обрушилось? До сих пор не знаю.
Началось в самолете, до взлета. Как водится, когда всех рассадили, стюардессы встали в проходах и стали рассказывать, как нам действовать, если самолет терпит аварию. Я сначала даже не смотрел – столько раз все это слышал и видел. Случайно поднял глаза – и вдруг слышу сразу после слов про кислородную маску: «Блин, как осточертело все это рассказывать! Ну все равно же не слушает, не смотрит никто, да и если навернемся – что от моих сказок толку-то? И все ж это знают, главное. Каждый полет – одно и то же. Тоска…» Я сначала просто не понял ничего, дурная мысль мелькнула: «Запись перепутали». Ну, какая запись, когда вот она – живая стюардесса, вот вторая – руками машет… И тут меня аж в пот бросило: я на нее смотрю, слова слышу – а губы ее по-другому двигаются, они другие слова говорят – как раз про кислородную маску, что она над сиденьем! Только я этих слов не слышу. А все остальные, видимо, слышат именно их, потому что ни у кого больше глаза на лоб не лезут, кроме меня. Покосился на жену – она в порядке, прилежно так слушает, улыбается стюардессе. И та, коза, лыбится! Что ж, думаю, за ерунда такая?! И опять меня вдруг царапнуло запоздало: когда я на жену смотрел, а не на стюардессу, – слышал снова про кислородную маску и спасательный жилет, а как только опять на стюардессу взглянул – так опять «как все осточертело», да еще и с матерками…
Как-то сразу я понял, что со мной происходит. Так скоро понял, что даже смешно стало. Получается, я в своих физиономически-лингвистических опытах так далеко продвинулся, что научился слышать не только то, что люди говорят, а еще и то, что они думают на самом деле. Правда, только если они при этом шевелят губами. Мысли в закрытом черепе, если он губами не шлепает, я читать не научился. Если я лица человека не вижу – радио, допустим, или просто отвернулся, – слышу то же, что и все. А когда в лицо смотрю, даже если это телевизор, – слышу настоящие мысли.
Новости по телевизору я и раньше не очень часто смотрел – грустные все больше теперь новости, тревожные, – а тут и вовсе перестал. Представляете: в кадре – ведущий, серьезный такой, мужественный даже, молодой, при галстуке, на лицо озабоченность вселенская натянута, я на него гляжу – а он говорит-думает: «Так, еще две подводки к сюжетам, потом длинный репортаж – в этом месте немного передохну, потом еще пара устных новостей – и отмаялся. Твою мать, перестарались мы вчера с вискарем! Да еще телка эта спать не дала. Жениться пора, Вася!» А после его слов – других, которые он всем послал, а не мне – серьезный сюжет про войну, теракты или арабскую нефть. А потом – снова он в кадре, и мне его жалко: похмелье – штука серьезная… Но это – ладно, бывает – ведущий во время выпуска про баб думает или, допустим, про мальчиков. Вид мужественный, а сам… ну, вы поняли. Душевного здоровья не хватает – видеть это и, главное, слышать.
Я вперед забежал.
В общем, прилетели мы к дочери в Москву, я жене про свой новый дар или проклятье свое ничего не говорю пока. Дай, думаю, проверю, может это – как насморк: потекло – и прошло. Но – не прошло. Пока церемония бракосочетания в ЗАГСе шла, всех гостей разглядел, все мысли расслышал. О сотруднице ЗАГСа говорить не хочу: чего она новобрачным внутри себя желала – ей бы кто пожелал в тяжелые годы… А гости – ничего гости, хорошие попались. Друзья настоящие, гадостей никто не думал. Я поначалу на дочку с зятем боялся смотреть: кто знает, что там у них внутри, что они на самом деле про нас думают? Но все время же не станешь ходить – очи долу. Набрался духу – да нет, и дочка ничего плохого не думает, и зять. Ну, есть некоторые мысли – о том, что пью многовато, и то – скорее, с оттенком тревоги и жалости: не помер бы раньше времени. В остальном – все даже очень… комплиментарно.
Что до жены, тут странное дело: как ни пыжился, как внимательно ни разглядывал ее артикуляцию, а ничего другого, отдельного лично для себя, расслышать не смог. Что все слышат, то и я. То ли уж и правда она у меня такая… искренняя да любящая, то ли – Господь миловал. Она мне еще ближе после этого стала.
Когда вернулись домой, я ей все и рассказал. Она поверила сразу: к розыгрышам, тем более таким нелепым, я не склонен. Стали мы с ней считать плюсы и минусы. Плюсов не нашли, зато минусов – хоть отбавляй. Она мне посоветовала пореже из дому выходить, а на улицах в лица прохожих не очень-то смотреть. Второе – без проблем, я и так на улице больше в себя смотрю, себя слушаю, слова перебираю. А вот не выходить из дому – это как? Я же учитель. И вот тут-то мука настала нестерпимая: ученики. Уж чего они мне в мыслях своих пакостных не желали только! Как меня только ни обзывали! И не пожалуешься никому. Хоть увольняйся. И уволился бы, так до пенсии – шаг шагнуть. В конце концов, решил проблему: стал учеников вызывать редко, все больше по домашним заданиям оценивать, а уж если вызвал – слушать, не глядя в лицо. Опять же, нетрудно: мне и раньше они все на одно лицо казались, не особенно всматривался.
В общем, постепенно приспособился я к новому своему качеству. Научился даже выгоду извлекать. Сидим на учительском собрании ежегодном, слушаем директора – он с докладом: такие достижения, такие недочеты, такие планы… А я-то слышу – не общие коллективные планы у него в голове, а исключительно личный творческий план: как бы побольше с родителей-спонсоров неучтенных казной денег сгрести, чтобы потом их справедливо в свою пользу поделить. План хороший, мне он тоже по душе: директор, конечно, на раздаче, но и нам кое-что достанется, если с умом подойти. Кроме меня, никто этих его сокровенных мыслей не знает – ну, мне и карты в руки. Подхожу после собрания с умом. Говорю: «Петр Назарович, вы там в докладе про какие-то денежки неучтенные говорили – очень оригинальная идея, полезная для общества!» Директор побледнел. «Ничего такого я вроде не говорил, Николай Степанович…» – «Ну как не говорили, вот я дословно процитирую…» – и смотрю в его коричневые глаза своими голубыми, не моргая. Он платочком пот со лба вытирает: «Давайте ко мне зайдем в кабинет, обсудим…» Обсудили. Мы в отпуск с женой съездили, в Прагу. Не очень понравилось. В следующий раз постараюсь Париж выжать.
В общем, как-то стал я жить с этим своим новым даром. Иногда, конечно, бывают открытия, от которых вздрагиваешь. Ну вот зачем мне смотреть по телевизору на президента этой страны? Чего я от него еще не слышал? Поди ж ты: спьяну ли, сдуру включил первый канал – и, пожалуйста: ежегодное послание. Мне бы слушать – а я, дурак, смотрю! И такое слышу – хоть в ФСБ добровольно иди и сдавайся. Это ж такая антироссийская риторика, такой антинародный пафос! А он своими маленькими глазками смотрит, кажется, сквозь экран – и запоминает всех, кого увидел… Плохо мне, в общем, от таких речей. Так плохо, что запил я и пил неделю. Очухался – предложил Альбине телевизор выкинуть. Не согласилась. Конечно, она же этого не слышит…
И вот – апофеоз или, как говорил один мой покойный друг, – апофигей.
Похмельный, нечесаный, подхожу я как-то с утра к зеркалу. Умыться. Выдавливаю зубную пасту из тюбика, чищу зубы, бреюсь, и все это время смотрю на себя. Жуткое зрелище. Вспоминаю настояние жены – много лет она мне это твердит, а я все не следую, забываю: «Когда утром просыпаешься, подходишь к зеркалу – улыбайся, пожелай себе доброго утра – жизнь наладится! Даже если с похмелья…» Я улыбнулся, говорю: «Доброе утро, Николай Степанович! Хорошего вам дня!» – и вдруг слышу: «В жопу иди!» То есть мое изображение в зеркале улыбается, слова вроде произносит те, что я ему послал, судя по артикуляции, – а слышу я свой же голос, который меня посылает… Шизофрения какая-то! Всерьез чокнуться можно. Позвал жену: «Альбина, – говорю, – иди посмотри – тут какая-то нестыковка». Опять смотрю в зеркало, опять улыбаюсь – натужно уже, правда, по-другому не получается. Но слова те же говорю: «Доброе утро, Николай Степанович! Хорошего вам дня!» Жена мне говорит ласково: «Ну, молодец! Не прошло и тридцати лет, как ты мои советы услышал!» Я на нее гляжу – ну, не врет же! А я-то, я-то снова услышал: «В жопу пошел, а?» Рассказал жене – она подивилась:
– Выходит, ты не только чужие истинные мысли слышишь, но и свои – истинные? – и смотрит на меня с любопытством и опаской.
– Что же я – сам себе враг, выходит? Себя-то посылать?
С той поры не жизнь у меня началась, а каторга. Я представил: а вдруг и другим я говорю одно, а слышат они – не то, что я говорю, а то, что думаю или даже не думаю, а что таится в самых сокровенных тайниках души моей? И появилась у меня привычка – спрашивать у всех, к кому обращаюсь: «Вы меня слышите?» На всякий случай.
Самое неприятное началось после новогодней ночи, когда мы по желанию тещи моей разлюбезной заставили себя послушать-таки поздравительную речь президента. Я, может, и ушел бы от греха, но так вышло, что штекер антенный надо было держать рукой, отломилась там какая-то хреновина не вовремя. Я и держал. Мне бы отвернуться, а я, наоборот, наглядеться на него, красавца, не мог. И что ж он такое нес! И какого он нам только зла ни желал! Если всему сбыться, что у него в сокровенной его башке пригрелось-пригрезилось, так никакой России скоро и вовсе не будет. Будет только государственно-частная монополия под названием «Золотая орда. Китайско-московское акционерное общество». Главные акционеры – он, наш безупречный и неподкупный гарант, и братья наши с Востока в желтом лице империи. То есть государство – с их стороны, восточной, а с нашей – частное лопоухое лицо с маленькими глазками.
Я перестал теперь смотреть в зеркало. Боюсь. Боюсь услышать от себя самого то, что думаю на самом деле – и о жизни нашей замечательной, и о нашем государстве, и о нем.
И боюсь, что другие услышат. Потому и спрашиваю все время, когда с людьми приходится общаться: «Вы меня слышите?» Так я боюсь, что страшную эту мою тайну кто-то еще узнает, так боюсь… Ну а вы, вы-то меня слышите?
«…Слышим, слышим, – отвечают мне слепые окна серого здания на улице Дзержинского. – Заходите, чайку попьем, поболтаем. Расскажете нам подробнее. А мы уж решим потом – чем вам помочь…»
23.03.2015
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































