Текст книги "Одноклассники точка"
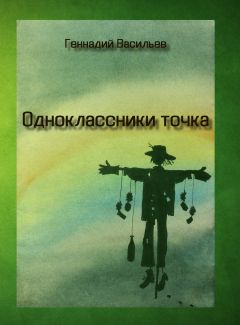
Автор книги: Геннадий Васильев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сугробин
Приехал я как-то с приятелем в родную деревню – показать, как жил в прошлой жизни. Поставил машину в проулке, чтобы не мешать другим, идем по улицам, я ему показываю: здесь это было, здесь то, а здесь вот и до сих пор стоит, только покосилось… Никого уж из одноклассников, дружков детства и юности, в деревне не осталось: кто, как мои родители, сам помер, кто спился, кто повесился, у кого, слава Богу, все сложилось и потому они, конечно, не в деревне живут. То есть встретить знакомого совершенно невозможно, никакого риска, что разоблачат тебя, даже если соврешь.
И вдруг навстречу идет существо такое: не то баба, не то мужик, в старую телогрейку запахнутое (дело было зимой – не лютой, но все-таки сибирской), в такой же старой козьей шали на голове, из-под телогрейки – юбка, из-под юбки – валенки. Рост при этом – под два метра. А на морде – усы густые, черные, и реденькая такая, не в пример усам, бородка. Приятель аж остановился – что за чудо такое! Чудо с нами поравнялось, пристально на меня посмотрело – и вдруг поздоровалось писклявым таким голосом:
– Здравствуй, Саша! Давно не приезжал.
Тут я его (это был все-таки он) узнал. Ответил, остановился, поговорили немного – кто недавно умер, кто уехал, как деревня живет. «Хреново живет, конечно, как все деревни». Покурили – я угостил. Односельчанин нет-нет – да поглядит на приятеля моего, а тот всё ничего понять не может, и на лице его – растерянность и недоумение.
– Ладно, – пропищало дискантом чудо, затоптало окурок и засмеялось тоненько, – пойду, а то друг твой совсем от страха обделается. Ты ему расскажи уж, а то спать ночами не будет – что за чудо ему привиделось, станет думать. Ну, давай, покудова.
И пошел.
Приятель дико посмотрел ему вслед, потом – выжидательно – на меня.
– Ну?..
– О, это история! Ну, слушай…
* * *
Дело было в эпоху холодной войны и железного занавеса, в пору правления бровастого генсека. Не знаете, что такое железный занавес и холодная война? Ну, погуглите. И с бровастым генсеком, если не знаете – кто это, гугл тоже поможет. Он, гугл, все знает, как КГБ в старые времена. Я кратенько поясню: холодная война – это когда мы были против всех (кроме тех, кого кормили с ладони), а железный занавес – это чтобы никто не видел, что у нас внутри. Примерно как сейчас или как скоро будет, только тогда еще в каждом доме было проводное радио, и мы возбуждали себя по утрам гимном – тем же, что теперь, только с другими словами.
Историю эту я помню хорошо потому, что был в то время уже не мальчиком и даже не юношей: отслужил в армии и вернулся в деревню, работал трактористом. Деревня наша… назовем ее Березовка, потому как в Сибири у нас этих Березовок не то что в каждой области и каждом крае – в каждом районе по нескольку штук случается. Так вот. В нашей Березовке был совхоз. Худенький такой совхозишко, в три отделения, одно другого краше. Не везло совхозу с директорами: то пьяница, то вор, то всё вместе. Глядя на директоров, и народ вел себя так же: пил и воровал. За все время существования хозяйства, до самой кончины советской власти, случился один нормальный директор: не пил, не воровал и народ к тому же призывал. На несворованные деньги успел построить целую новую улицу казенных двухквартирных домиков. Народ вроде встрепенулся, поверил в него, о работе вспомнил, о деле, стал заново руки к делу приспосабливать… Его парторг сожрал, скотина. Парторг был вечный, неснимаемый, ему вороватые и пьяные директора нравились больше, чем трезвые и честные. При тех он себе жизнь устроил, дом отгрохал, а при этом даже кабинет не мог толком оформить: новый директор его в другой кабинет пересадил, поменьше и поскромнее. Старый был – с мраморными статуями и персональным туалетом.
У трезвого и честного директора была одна страстишка: бабы. Сам-то он еще жениться не успел, хотя было ему вокруг сорока, но что-то не получилось, не сложилась как-то жизнь в этой части. Он и тешил себя, как в книжках пишут, случайными связями, не превращая эти связи в брачные узы. Но и здесь тоже вел себя честно: обихаживал незамужних или разведенных. Или вдов, которые в деревне тоже были. Повальное пьянство без жертв не обходится.
Да ему и обихаживать не надо было: мужик видный, чернобровый, черноусый, и имя – Владлен. Понятно, в честь кого. Бабы к нему сами и липли, чуть не очередь занимали. И вот одна вдовушка попалась вредная, решила его на себе женить, а он не хотел никак, и вообще понимал, что зря с ней связался. Больно уж вредная и корыстная. Бабенка по блату устроила себе справку о беременности, пришла к парторгу, пустила слезу, тот настучал кому надо по партийной линии, пока разобрались – что к чему, директора убрали. Из партии не погнали, но перевели в другой совхоз от греха. Бабенкину хитрость разоблачили и пригрозили. Та загрустила: дура, хоть временный мужик был, а теперь? И другие бабы ей коварства не простили, стали обходить ее.
В совхоз прислали нового директора, задубевшего от профессионального пьянства, он в первый день позвал парторга, закрыл дверь – и они напились за знакомство. Все пошло, как всегда.
Но не о том история.
В совхозе был бригадир, тракторист-комбайнер, звали его Федор Михалыч. Как Достоевского. Только фамилия была – Сугробин. Он и был здоровенный, как сибирский сугроб. Он один в совхозе исправно работал при всех директорах, не пил, не воровал и бригаду держал навытяжку. Неплохо зарабатывал, жена его торговала в хозмаге (не знаете, что такое хозмаг? Гугл в помощь!), растили троих ребятишек-погодков и думали родить четвертого… Не случилось.
Как-то утром, причесываясь перед зеркалом и любуясь своим сильным голым торсом, Федор Михалыч вдруг заметил, что у него соски на груди как-то странно набухли, как будто воспалились. «Застудил где или инфекция какая?» – других мыслей не родилось. Покачал головой: пройдет. Мужик он был здоровый, отродясь ничем, кроме простуды, не болел, потому ничего не боялся и скоро забыл о том, что видел в зеркале.
В другой раз тоже утром, бреясь опять же перед зеркалом, он хотел помочь радиоточке допеть гимн – и неожиданно заорал пронзительным дискантом. Жена испуганно выглянула из кухни:
– Чего это, Федя? Это ты, что ли?
Федор Михалыч смущенно пожал плечами, откашлялся.
– Да вроде я, – сказал уже нормальным голосом и успокоился. – Не знаю – может, в горло что попало.
По субботам Федор Михалыч, как большинство мужиков в деревне, ходил в общественную баню с парилкой. Была и своя баня, но общественная – отдельное удовольствие. Парилка там – место общения, мужской клуб. Там рассказывали сальные анекдоты, но и делились взглядами на жизнь. А после баньки продолжали обмениваться взглядами в буфете, который находился здесь же, в соседнем с кассой помещении. Там продавали ядреный брусничный морс и, конечно, разливное пиво. Вот и в ту субботу Федор Михалыч собрал, как обычно, специально для бани назначенную балетку – маленький чемоданчик с замком, пошел в баню, предвкушая удовольствие и от парилки с веничком – нес его под мышкой, веники он заготавливал самолично на весь год, летом, в сезон, – и от общения с мужиками. Раздеваясь, услышал сзади, у соседней кабинки:
– Мать-перемать! Ну что за дура, ей-богу! – ругался на чем свет стоит Сергей Иванович Мельников, совхозный токарь, грузный квадратный мужик. – Ну смотрите, что она мне положила! – он тряс перед собой большими женскими трусами. – Перепутала, дура! А я теперь как? Ну… – и снова матерился забористо.
Мужики ржали. Вдруг, отсмеявшись, один из них сказал, внимательно глядя на Федора Михалыча:
– Слышь, Михалыч, может, они тебе подойдут? Чего-то сиськи у тебя отросли, как у бабы.
Мужики снова заржали. Федор Михалыч хотел было приласкать шутника своей могучей рукой, но передумал. Баня как-никак, суббота… праздник почти. Но мылся и даже парился уже без привычного удовольствия. И то и дело ловил на себе любопытные взгляды. А еще заметил, что как-то… стеснялся.
Неловко почему-то было ему, что вокруг – голые мужики, и он среди них – тоже голый. Пиво пить не стал, сразу пошел домой, хмурый и озадаченный.
Дома, однако, выпил привычные сто граммов, закусил, выкурил две папиросы – и как-то рассосалось, забылось, мир снова стал добрым и привычным. И косой, украдкой, изучающий взгляд жены тоже не заметил. Не обратил внимания. Мы часто не замечаем – как на нас смотрят наши близкие. Очень уж они привычны, слишком уж близки.
Ночью перед сном Федор Михалыч почувствовал нежность к жене.
– Мы ж хотели с тобой четвертого?
Жена была не против. А он посопел – и ничего не смог. Это случилось впервые за много лет их жизни. Ошарашенный, оглушенный первой в жизни неудачей, Федор Михалыч, натянув трусы, пошел в кухню курить. Дети спали в дальней комнате.
Жена вышла к нему, села напротив, посмотрела на него прямо. Свет не зажигали, только луна бросала косой луч на клеенку стола.
– Федя, я давно хотела тебе сказать…
Он махнул рукой.
– Знаю. Не то что-то со мной, сам чувствую. Может, вирус какой? Бывает же так, подхватит человек вирус, и у него… не стоит… – он беспомощно посмотрел на жену.
Та вздохнула.
– Нет, Федя. Это не вирус. Ты посмотри на себя в зеркало. У тебя грудь, как у женщины… – и закончила решительно: – К доктору тебе надо. Я уже узнала – к какому.
Федор Михалыч по привычке хотел возмутиться – что значит «узнала»? почему без моего ведома? – и только снова бессильно махнул рукой.
– Говори. Поеду.
…В районной поликлинике Федор Михайлович провел весь день. Доктор дал направление, его гоняли на анализы, просвечивали рентгеном, остукивали со всех сторон молоточками. А еще через два дня с готовыми анализами он снова пришел к доктору. В кабинете доктор был не один, рядом сидели еще двое – пожилой лысый и совсем молодой – наверное, стажер, – все в халатах и серьезные. Доктор предложил ему сесть и заговорил.
– Вы мне кажетесь сильным мужчиной, – лысый быстро глянул на него и чуть заметно качнул головой, – вы сильный человек, – повторил доктор – как потом оказалось, не просто повторил, а поправился, – поэтому я… поэтому мы не будем ходить вокруг да около… Вот Николай Сергеевич – он профессор, специалист по… – дальше доктор произнес длинное название, которое Федор Михалыч от волнения не запомнил, – он вам все расскажет.
Николай Сергеевич повернулся к пациенту. Голос его звучал бесстрастно, без сочувствия. Он как будто читал лекцию. Начало прозвучало неожиданно – так, что даже его коллеги вскинули брови.
– С вами случилась беда, от которой вы не умрете, – произнес Николай Сергеевич и внимательно посмотрел на Федора Михалыча. – По непонятной причине – непонятной не только нам, но вообще пока неизвестной науке – у вас в организме стали стремительно вырабатываться женские гормоны. То есть они есть у всех, как и мужские, но у вас женских стало вырабатываться значительно больше, чем мужских. Говоря проще, вы стали стремительно превращаться в женщину. – Профессор еще раз внимательно посмотрел на Федора Михалыча и закончил безжалостно: – И процесс этот необратим.
В глазах Сугробина запрыгал кабинет, раздвоились врачи, он стал сползать на пол. Доктор кивнул стажеру – его на этот случай и позвали, – тот подскочил, усадил пациента обратно на стул, сунул под нос нашатырь. Федор Михалыч пришел в себя.
– Необратим – значит, буду… бабой? – тихо спросил он, и голос его звучал не по-мужски.
– Уже, – коротко ответил профессор. – Уже стали.
– Что же делать? – скорее выдохнул, чем спросил Сугробин.
Николай Сергеевич вздохнул.
– Это и есть самый трудный вопрос… Существует два пути: либо сделать операцию – и вернуть вам мужское достоинство в полном объеме, либо сделать вас полноценной женщиной – для этого опять же требуется операция. Убрать то, что больше не понадобится, и… скажем так – встроить то, что должно быть у каждой женщины. Только детей рожать не сможете все равно.
– Погодите! – тонко закричал Федор Михалыч. – Что вы мне тут – детей, рожать, женщина… Где такие операции делают, чтобы снова – в мужика? Говорите адрес, любых денег не пожалею, сберкнижку очищу, любую очередь отстою!
Николай Сергеевич снова вздохнул.
– Что ж, пишите адрес: Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк…
Сугробин дико посмотрел на него:
– Издеваетесь?
– К сожалению, нет. Дело в том, что в Советском Союзе операции по смене пола запрещены. В любую сторону.
– Так я же не менять – я же вернуть хочу!
– С медицинской точки зрения вы – уже женщина. Но и полноценной женщиной вас тоже никто здесь, у нас сделать не сможет. По той же причине. Такая вот история…
О том, что было дальше, расскажу коротко.
Жена мягко, но решительно предложила Федору Михалычу переехать в дом недавно (очень вовремя!) умерших его родителей. Аргумент звучал просто и убедительно:
– Что я должна говорить детям? А так скажу – разошлись…
Вся деревня узнала о недоделанном транссексуале в несколько дней. Хозмаг пришлось на несколько дней закрыть, якобы на ревизию: деревенские приходили сюда группами, чтобы задавать дурацкие вопросы. Пьяный парторг выговаривал похмельному директору:
– Ну разве хорошо, что ведущий бригадир у тебя – пидарас?
Тот изумленно спрашивал:
– Почему – пидарас? Он ни то, ни сё…
– Ну, какая разница? Тебя же все директора засмеют, а как партийное начальство посмотрит?!
С бригадиров Федора Михалыча сняли, назначили другого, молодого, недавно выучившегося, но уже бившего рекорды опытных трактористов-комбайнеров. Звали его Саша. Это был я.
Через неделю Саша подошел к Федору Михалычу, отвел его в сторонку.
– Слушай, Михалыч, тут такое дело…
Слушать тот не стал, сказал только:
– Завтра заявление напишу, попрошу перевести в кочегары.
Саша виновато развел руками:
– Понимаешь, они теперь тебя кроме как Паша Ангелина никак больше не зовут… (Не знаете Пашу Ангелину? Гугл, гугл!)
Михалыч только плюнул.
Жил он с той поры бобылем, в общественную баню, конечно, не ходил, топил баньку себе сам, сам и мылся, один. Париться любил по-прежнему. А вот водки не пил совсем, даже после бани. Иногда приходила жена, готовила еду – вот чем-чем, а кулинарным искусством Сугробин так и не овладел.
Грудь у него выросла большая, размера четвертого. Сначала он просил жену покупать ему бюстгалтеры. Но со временем деревня успокоилась, Федор Михалыч стал даже кем-то вроде местной достопримечательности, к нему в новом его качестве привыкли, некоторые стали даже захаживать в гости. Даже повзрослевшие дети приходили без опаски и звали его папой.
Одно ему только мешало: ненужное теперь мужское хозяйство.
– Ну, болтается и болтается, зараза, хоть к ноге привязывай! – жаловался он как-то Саше и спрашивал с надеждой: – Может, доживем до времени, когда его можно – того…
Саша только усмехался. На усмешки бывший бригадир не обижался, понимал: люди – всегда люди, и если с ним такое приключилось – ну, пусть посмеются, что ж…
И усы у него расти не перестали. Главное – не седели с возрастом. Бородка пробивалась жидкая, редкая, а вот усы были могучие – пышные и черные.
Саша, отработав два года бригадиром, все-таки поступил в институт, уехал из деревни…
– …И вот теперь рассказываю тебе эту историю, – закончил я.
Приятель мой только крутил головой.
– Мы фантастику на других планетах ищем, а тут – вот она, фантастика!
Мы выкурили еще по сигарете и пошли к машине. Начало смеркаться, а дорога была неблизкой.
Когда переехали через мост, приятель в последний раз посмотрел на деревню – и вдруг впился в мой рукав – я едва не въехал в сугроб, затормозил.
– Смотри!
Над крайней избой, стоявшей на заметном отдалении от других, столбом поднимался дым из печной трубы… Нет, он поднимался не столбом: он стоял огромным фаллосом. Черты были резки и чётки, какими они бывают на линогравюре.
– Да-да, – ответил я на немой вопрос моего приятеля, – это его дом. А летом у него на грядке морковь родится такой же формы. Знаешь, сколько он за нее на базаре выручает!
Ноябрь 2015 г.
Розы на память
Звонок был ночной, долгий и надрывный. Телефон звонил, кажется, бесконечно, замолчал – и через минуту зазвонил снова. Виталий с трудом проснулся, помянул чертей – давно ведь хотели отключить городской телефон, не нужен он никому, но вот теща… то есть – бабушка. Нащупал выключатель, взял трубку.
– Клавдия Ильинична? – не дожидаясь его голоса, нервно спросили в трубке.
– Вы знаете, который час? – раздраженным вопросом ответил Виталий. – Клавдия Ильинична спит, остальные тоже, и вообще…
– Я знаю, который час, – перебил его звонивший – Виталий только теперь окончательно проснулся и понял, что звонил мужчина. – Я смотрю на часы, и не нужно взывать к моей совести. Но мне очень нужна Клавдия Ильинична, и если вы спросите – почему дело не терпит до утра – я вам не смогу ответить. Могу только утверждать: не терпит.
Голос был странный – и требовательный, каким говорят начальники, и какой-то умоляющий, униженный одновременно. Такой, что Виталий поневоле смягчился.
– Ну, хорошо… сейчас… попробую разбудить.
Будить, однако, не пришлось. У стариков сон чуткий. Бабушка сидела на кровати, подслеповато щурилась в проем двери, ждала.
– Там вас. Какой-то ненормальный. Возьмите трубку у себя.
Клавдия Ильинична взяла трубку.
– Клавдия Ильинична? Это муж Виолетты. Ну, помните – в больнице, Виолетта, ваша соседка по палате? Клавдия Ильинична, нужно, чтобы вы срочно приехали. Я оплачу любые расходы – на такси, за визит…
– Ничего не понимаю, – сказала Клавдия Ильинична и потянулась за очками. – Сейчас знаете, сколько…
– Да знаю я, сколько сейчас времени! – вдруг сорвался мужчина на другой трубке – и тут же спохватился: – Простите, простите меня… Но без вас нам не справиться…
– С чем не справиться-то? – все еще ничего не понимая, спросила бабушка. И вдруг все поняла. – Господи!.. Хорошо, я немедленно приеду, хотя и не уверена, что помогу. Диктуйте адрес.
* * *
Клавдия Ильинична приходила в себя долго. Не те годы, чтобы козочкой выпрыгивать из наркоза. Она то открывала глаза и видела над собой белый больничный потолок, а чуть повернешь голову влево – большое пластиковое окно с отломанной ручкой, чтобы не открывали, то снова впадала в беспамятство. И все время хотелось пить – и в памяти, и в беспамятстве. Клавдия Ильинична яростно облизывала пересохшие губы, но язык был такой же шершавый, как и губы, и это не помогало. Можно было пить после операции или нет – ей никто не сказал, позвать сестру не хватало сил, а никаких кнопок-звонков вызова в этой палате, да и вообще в этой больнице, не было, и в короткие мгновения сознания она тоскливо смотрела на пустующую соседнюю постель – была бы соседка, так хоть ту попросила бы. Но соседняя койка отчего-то пустовала, и Клавдия Ильинична злилась на внучку и «празятя», как она называла внучкиного мужа, за то, что уложили ее, как «платную» больную, в двухместную палату. В ее произношении «платная» звучало как «блатная». Ей было неловко за свое, как ей казалось, особое положение, и теперь вот досадно за то, что некого попросить принести воды. В общей палате народу много, кто-нибудь да нашелся бы.
Ее привезли сюда на плановую операцию. Ничего экстренного, но камни в желчном пузыре существенно осложняли старость и в конце концов потребовали удаления вместе с пузырем. Внучку заранее предупредили: операция несложная, но…
– Сердце у бабушки ни к черту! – говорил грубоватый правдивый хирург. – Почти на той грани, за которой мы обычно отказываемся оперировать.
– Может, тогда и не надо? – спросила внучка.
– Я же сказал – почти… Будем резать. Но неожиданности возможны.
Внучка растерянно кивнула.
Клавдия Ильинична собралась умирать. В свои семьдесят пять она считала, что жизнь уже прожита, главное в ней сделано, и эти погремушки в желчном – аккомпанемент, под который она примет свою кончину. Мысленно попрощалась со всеми родными и близкими – и приготовилась к путешествию за кулисы жизни. Но операция прошла успешно, неожиданностей удалось избежать, из операционной ее благополучно перевезли в двухместную палату, стоившую немалых денег, зато с туалетом и душем.
Здесь она теперь и приходила в себя. Наконец, очнулась – и уже не отключалась больше. В голове еще шумело, но действие наркоза прекратилось. А вот пить хотелось еще сильнее. Клавдия Ильинична откашлялась, собралась уже закричать, позвать сестру или кого угодно, кто услышит – дверь палаты открылась, вошел лечащий врач Григорий Евстафьевич. Был он невысокого роста, в возрасте около шестидесяти, лысеющий, с каким-то убегающим взглядом, характерным для жуликов и латентных алкоголиков. Не был он, однако, ни жуликом, ни алкоголиком, просто такой уж особенностью природа наделила.
– Очнулась, моя хорошая? Как себя чувствуем?
Клавдия Ильинична, не в силах ответить – язык отказывался произносить слова, – вынула руку из-под одеяла, оттопырила большой палец. Доктор рассмеялся.
– И отлично! Сейчас все тебе измерим – давление, температуру, кардиограмму сделаем… Но я и так вижу – все отлично! Чрез час обед, подкрепишься…
– Водички бы мне, – попросила старуха, едва ворочая поленом языка. – Там под кроватью где-то должна быть бутылка, мне не достать.
Григорий Евстафьевич удивленно на нее посмотрел.
– Отчего ж не достать-то? Вот она, вода, руку протяни, – он поднял бутылку – та стояла у самой кровати, специально так, чтобы больная могла ее достать. Клавдии Ильиничне стало стыдно. «Что это я – и на внучку злилась, и вообще… Не такая уж я беспомощная…»
Она с жадностью выпила воды, осторожно поднялась, села на кровати, свесила ноги. Голова немного кружилась, но в общем, уже было ничего. Врач наблюдал за ней, прищурив глаза.
– Ну, ты пока не очень-то двигайся, все-таки позавчера была операция, – говорил он, надевая на руку манжету тонометра, – и вставать тебе пока рано, в туалет в утку ходи.
Клавдия Ильинична отрицательно замотала головой.
– Какая утка, что вы! Не умею я в утку!
– Научишься, ничего, – судя по тону, доктору было все равно, куда будет ходить старуха. – А сейчас – молчи, не разговаривай, давление меряем…
Давление оказалось в пределах нормы, температура тоже, врач ушел, привезли обед… Началась обычная больничная жизнь, скучная и неторопливая. Вечером пришла внучка, принесла домашней снеди, мандаринов. Есть ей можно было почти все, кроме того, что нельзя ни под каким видом: острого, кислого, соленого, маринованного, консервированного, жареного (ни в коем случае!)… остальное можно. Ну, остальное и ела.
Наконец, наутро подселили соседку.
Много моложе, чем Клавдия Ильинична, почти ровесница внучки, невысокая, но объемистая, круглая, соседка вошла решительно, пристально, с порога, оглядела палату, потрогала кровать, помяла рукой пружинный матрас. Только потом поздоровалась. Все это время за ее спиной молча стояла сестра-хозяйка. «Надо же, та еще стерва, а перед этой – как служанка, выстилается…» – подумала Клавдия Ильинична про сестру-хозяйку. «Стерва» – потому что в момент очередного пробуждения Клавдия Ильинична увидела, с каким отвращением смотрит на нее эта женщина («змея очковая» – у сестры-хозяйки были очки в роговой оправе), с какой брезгливой гримасой она выносит утку (Клавдия Ильинична научилась ею пользоваться, куда деваться), услышала, как бормочет она себе под нос: «Вонючка старая…» И возненавидела эту стерву на всю жизнь.
До самой выписки.
И вот теперь сестра-хозяйка стояла по стойке «смирно» за спиной новой пациентки. Хотя в глазах все равно было написано, как она всех ненавидит – и старых, и тех, что помоложе.
Новая все одобрила, кивком отправила сестру-хозяйку восвояси, улыбнулась покровительственно Клавдии Ильиничне.
– Лежите? Ну, теперь вам не будет так одиноко.
Одиноко не было.
И скучно – тоже.
Новая – звали ее Виолетта, отчества она не назвала из кокетства, – бесконечно звонила в колокольчик, она его принесла с собой, очевидно, зная, что иным способом связаться с персоналом отделения не получится, – просила… нет – требовала то окно открыть, потому что душно – и открывали, несмотря на сломанную ручку, – то, наоборот, закрыть, потому что дует, то сменить полотенце… Сестры приходили, открывали-закрывали, меняли… Скоро Клавдия Ильинична узнала, чем объяснялось такое поведение. Соседка – жена важного краевого чиновника, пересидевшего всех губернаторов и до сих пор не помышлявшего об отставке. А вот почему не персональная палата ей досталась, а все-таки палата на двоих, хоть и с душем и туалетом – ну, не было в этой больнице персональных палат на одного.
Знакомились так.
– Зовут вас как? – Виолетта задала этот вопрос таким тоном, что Клавдия Ильинична невольно приподнялась на постели. Сказала.
– А отчество? – снова строго спросила соседка, и Клавдия Ильинична снова ответила, как на школьном уроке. И сама удивилась – чего это она так послушно, так подчиненно отвечает?
Соседка как будто облегченно вздохнула.
– Хорошо. Фамилию не спрашиваю – не запомню, да и фамилия, может, по мужу…
Клавдия Ильинична ничего не поняла.
– Я – Виолетта, – сказала соседка, – в девичестве Перышкина, – она особенно подчеркнула, даже протянула как-то: ПЕЕЕрышкина, то есть не «ё» второй буквой, а «е», – в замужестве… уж не знаю – говорить ли вам… ладно, скажу: в замужестве Касаткина, – и выжидательно замолчала.
Клавдия Ильинична машинально кивнула. Виолетта заметила, обиделась. Произнесла внушительно:
– Вижу – не поняли. Мой муж – Касаткин, председатель краевого правительства, первый зам губернатора. Если что не так – мы эту больничку на уши поставим!
Зачем было ставить на уши больницу, Клавдия Ильинична опять не поняла, как не поняла – зачем Виолетта спрашивала ее имя-отчество. Решила – ну, разные люди бывают, по-разному ведут себя, чудакуют… Все, однако, открылось скоро.
– Недоспала я сегодня, – Виолетта улыбнулась, поправила подушку, прилегла и, уже почти засыпая, проговорила: – Хорошо, что палата на двоих, и с вами мне повезло. Боялась я – положат с какой-нибудь… Сарой Абрамовной…
Соседка уснула. Ее ухоженные телеса мерно колыхались под больничным одеялом.
* * *
Близко к вечеру пришел «празять» Клавдии Ильиничны. Они проведывали ее по очереди с внучкой. Он не отличался большой разговорчивостью, когда встречался с «пратёщей», но и уходить сразу, оставив приготовленную дома еду и дежурно поинтересовавшись состоянием, было неловко. Нашел выход: показал пакет с книгами:
– Вот, зашел по пути в «Букинист», купил несколько книжек – старые издания, таких теперь нет, а в новом исполнении они мне не очень нравятся.
Клавдия Ильинична вежливо улыбалась – ей не очень понятны были книги, которые читали внучка с мужем. Зато Виолетта неожиданно заинтересовалась.
– О, молодой человек читает? Ну-ка, ну-ка! Я сама поклонница литературы, без книги не засыпаю, вот и с собой сюда прихватила, – она показала – что именно прихватила.
Это был женский роман, автора Виталий не знал. Но, как и теща, вежливо кивнул, хотя покровительственное «молодой человек» его позабавило: он был явно на пару лет постарше.
– Вижу, не близко вам это, – Виолетта кокетливо сложила губы. – Небось, детективы, боевики… как теперь говорят – экшен?
Виталий пожал плечами, усмехнулся:
– Такие тоже читаю. Но в «Букинист» за ними ходить глупо. Нет, тут – стихи, мемуары, литературные портреты.
– Стихи я тоже люблю! Что же купили – что-то редкое?
– Да как сказать… в некотором смысле редкое: «Камень» Мандельштама, репринт издания 1913 года. Ну и Шкловский Виктор Борисович – его давно не переиздавали, никому он теперь не интересен, а тут – сразу трехтомник.
А еще – почти уже на выходе заметил, чуть не пропустил – замечательные воспоминания Льва Гинзбурга, знаменитого переводчика вагантов.
Виталий увлекся, доставал из пакета книги, любовно их разглядывал заново – и не видел, как напряглось лицо Виолетты. Очнулся только, когда Клавдия Ильинична вдруг закашляла громко и нарочито. Он поднял глаза. Виолетта смотрела на него настороженно, почти испуганно – так, как смотрят на душевнобольных, опасаясь внезапного приступа безумия. От этого взгляда он растерялся.
Виолетта медленно спросила:
– Что же вы – одних евреев набрали? – И, не дожидаясь ответа, через небольшую паузу еще более осторожно: – Вы – еврей?
Виталий отреагировал так скоро, что, кажется, даже сам не успел осознать и оценить поспешности реакции.
– А вы разве не видите? – изумление в его голосе было неподдельным. – Нос у меня, уши вот… Я и от картавости нашей фамильной избавился совсем недавно, два года к логопеду пришлось ходить. И читаю я, конечно, только наших. А всяких там антисемитов достоевских-гоголей на дух не выношу.
Виолетта, кажется, задыхалась, непроизвольно натягивала на себя одеяло.
Виталий вдруг наклонился к ней, сделал вид, что пристально вглядывается в лицо:
– А я ведь подумал, что вы – из наших… нет, вижу теперь – славянка. Ну, да ладно, я ни на кого не в обиде.
Теперь Виолетте явно не хватало воздуха, она взялась рукой за колокольчик…
– Позвать сестру? – Виталий участливо погладил ее по плечу – та шарахнулась к стенке. – Ничего, ничего, я сейчас буду выходить – скажу, что у вас приступ, пусть принесут чего-нибудь успокоительного.
Он наспех попрощался с «пратещей» – та глядела на него с легкой укоризной и в то же время не могла скрыть веселого чертика в глазах, – выскочил из палаты. Его душил смех. На посту попросил сестру зайти к больной – «что-то задыхаться начала – может, приступ», – почти бегом вышел из корпуса и, уже не сдерживаясь, заржал. Так и сел в машину, продолжая смеяться и утирать слезы.
* * *
Никаким евреем Виталий не был. Хотя жил неподалеку от синагоги и порой задумчиво в ее сторону поглядывал. По рассказам покойной мамы, и даже не по рассказам – так, по туманным намекам – в крови отца текла какая-то капля семитской крови, которая и сыну передалась. Можно было ее не учитывать – он и не учитывал, пока… пока случай не представился. Он любил говорить о себе: «Изо всех гнусностей человеческих проявлений больше всего не выношу расовой и национальной нетерпимости». Ну, вот и поактерствовал на славу.
Вечером рассказал жене – та слегка попеняла:
– Больная же тетка-то, чего ты…
Он объяснил: мало того, что эта дура кичится своим положением, да хорошо бы своим, а то – положением жены чиновного мужа, – так она еще и не стесняется свои кухонные убеждения высказывать. Жена его понимала и возражала не особо. Только предложила:
– Давай теперь я одна буду к бабушке в больницу ходить?
Он легко согласился.
А в палате Виолетте дали успокоительное, сделали укол – у нее была врожденная астма, и на нервной почве всегда обострялась, – она уснула. Клавдия Ильинична не спала. Она была женщиной ума не глубокого, воспитывалась не в культуре и не в довольстве, а часто в нищете и отсутствии всякой культуры. Зато была она человеком чуткой и чувствительной души. Лежала и думала про себя: «Вот почему люди бывают такими злобными? Ну, вот Виолетта эта. Ну, сколько ей – тридцать пять, сорок? Не больше. И повидала ведь, наверно, и жизнь, и страны другие… И людей разных. Может, и в Израиле была. Чего ей в своей-то жизни не хватает? Муж – большой чин, глядишь – и выше во власть пробьется. Значит, есть и деньги, и влияние, и возможности. И что ей сделали эти… евреи, – она почти вслух засмеялась, снова вспомнив «празятя», но спохватилась: спит соседка. – Как он ее ловко прибил! И без злобы, просто… подыграл. Вроде и жалко ее – так ведь недаром прибил, за дело…» Так, размышляя про себя, Клавдия Ильинична потихоньку уснула.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































