Читать книгу "Частная коллекция. Стихи, рассказы, пьесы"
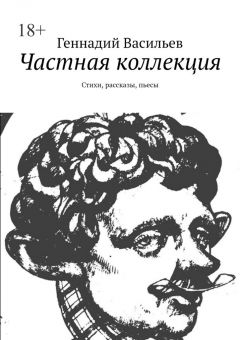
Автор книги: Геннадий Васильев
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Время

Юрий Попов. Недоброе утро
Время – величина непостоянная. Но так только кажется. Меняются государства, политики, политические установки, меняется контекст эпохи – но это видимые изменения. Кажущиеся. Не меняется ничего. Одна государственная власть сменяется другой, такой же, как предыдущая, жаждущей бесконечной и безвременной власти. Один диктатор сменяет другого, менее талантливого и менее изощренного в методах. Так – всегда, во все времена, во всем Времени. Разве это перемены? И люди остаются постоянными. Покорными или, наоборот, непокорными. Первых всегда больше, они всегда подавляют. Революции? Чепуха! Их исполняют те, кто заранее либо диктатор, либо покорен диктатуре. Что же меняется во Времени? Ничего.
«Под рокот журчащего баса…»
Под рокот журчащего баса
беру флажолет.
На пенсию вышел. Прекрасно!
Но денег-то нет.
На карточке девственно чисто,
в кармане – пятак.
…Струна на гитаре речиста —
рокочет не в такт.
Торопится Фонд пенсионный
меня извести.
Ведь пенсия – это прогонные
к финалу пути.
Гитару терзаю, как гусли,
шедевры творю.
«Желание петь, не погасни!» —
себе говорю.
Струна дребезжит – то мажорно,
то музыкой сфер…
А деньги, надеюсь, во вторник
пришлет ПФР.
«Александровским бульваром…»
Александровским бульваром
я качу на велике.
«Жизнь дается нам не даром!» —
говорится в телике.
Жизнь авансом нам дается.
След – в графе «Уплачено».
Но вернуть не удается:
ведомость утрачена.
Что же делать? Остается
только ждать ревизии.
Доберется, разберется
и найдет коллизию.
А пока что я бульваром
Александровским качусь.
Жизнь проходит. Но недаром!
Ревизоров не боюсь.
* * *
Старателям, моющим золото у поселка Жайма
1
Здесь, когда земля была ничья,
местные зверья не обижали.
А теперь рыжеет от рыжья
дикая тайга у речки Жайма.
Золотой ли, каменный ли век,
но, влеком инстинктом незабытым,
всякий век способен человек
превратить в пещерно-первобытный.
И кричит беспомощно тайга,
и земля отверстой раной вторит.
Ободрав природу донага,
человек оставил след в истории.
2
А выше – ручей, перекаты,
студеная свежесть воды…
Не видеть вам в жизни, ребята,
огня путеводной звезды.
Да будут потомки вас вечно
ловить в перекрестье судеб.
Вам пить из отравленной речки,
вкушать вам отравленный хлеб.
И как-то под старость, под вечер,
когда уже некому лгать,
вам вспомнится мертвая речка
и злая, больная тайга.
«Ах, не сведи меня с ума, моя стихия!..»
Ах, не сведи меня с ума, моя стихия!
Мои стихи – моя непорченая кровь.
Я посвятил себя – как будто принял схиму.
Обрел пристанище, убежище и кров.
Но нет гордыни. Я ни в чем не безупречен.
Мой нервный почерк выдает мой скверный нрав.
Я только наспех овладел той частью речи,
что правит миром, нашу суетность поправ.
Ах, не сведи меня с ума, мой стылый почерк!
Но дай мне выразить восторженность мою
тем, что живу. Тем, что в графе «Печали» – прочерк.
…Как свиристели свиристят!
Нет: как поют!
«Белку в глаз или голубя в темя…»
Белку в глаз или голубя в темя,
воробья – то ли в хвост, то ли в клюв…
Ах, какое веселое время!
Это время я очень люблю.
Это время – прожить без прожилок,
без пробелов, без проблесков сна.
Это время такое:
мы – жили.
Ничего не случилось —
без нас.
«Бьет пыль из-под копыт Пегаса…»
Глаголом жги сердца людей
А.С.Пушкин
Бьет пыль из-под копыт Пегаса.
Наездник перышком скрипит.
Родит глагол – и сразу в массы!
И что там, в массах, – не глядит.
А те стоят, нагнувши выи,
сердца – что камни, жги – ни жги.
На первый взгляд, они – живые.
Вглядишься – набекрень мозги.
А он все жжет, Пегасом правит,
перо в чернильницу сует…
Вожжами дела не поправить.
Копыто пыль впустую бьет.
Я понимаю: хлебом, квасом,
высокой пенсией хотя б,
но чтоб вот так: глаголом – в массы!..
Ну, Пушкин! Право, ты – арап!
* * *
По мотивам картин Евгении Аблязовой
В печи – деревянная тяга.
Березою топится печь.
Пожалуй, немного прилягу.
Мне нужно немного прилечь.
Я видел картины, и что-то
напомнило мне обо мне.
Мы снег расчищаем. Работа!
И трубы дымят в полусне.
Печные короткие трубы,
березовый терпкий дымок…
Слова деревенские грубы.
Он нас обозвал под шумок.
Я слышал. Я грубо ответил
и дал ему в рыло, хорьку…
В картинах качается ветер
на черном осеннем суку.
У нас же – зима, и сугробы,
и что впереди – не понять…
Султаны дымов. И хворобы.
Поленья, топор, рукоять…
Что память? Кошелка с дырою,
зола от березовых дров.
…Бывает – приляжешь порою
и видишь: ты юн и здоров,
и нету иного пространства,
чем эта деревня в глуши,
береза в печи. Постоянство.
…Приляг. Помолчи. Не спеши.
«В четверг я говорю: «Среда!» …»
В четверг я говорю: «Среда!» —
и все согласно мне кивают.
Но я-то знаю. Я-то знаю:
сейчас в календаре – четверг!
Я говорю: «Вот бурундук!» —
хоть это суслик. Это видно.
Кричат: «Как это дальновидно!
Конечно, это – бурундук!
К тому же – птичка! В облаках
парит, что твой орел! Как сокол,
пикирует на мелких птах,
на сусликов свивает штопор!»
Я говорю: «Сегодня град!» —
чист небосвод до горизонта.
Но горожане все подряд
плащом укрыты или зонтом.
Скажу: «Потоп!» – и уж ковчег
готов из тесаного бруса.
…Причалит, перепутав век,
не к Арарату, а к Эльбрусу.
«Вот моя деревня…»
Вот моя деревня.
Дом не мой, но чей-то.
В штукатурке древней
дремлет казначейство.
Кто-то штукатурки
новой нанесет.
Вот моя деревня…
Кто ее спасет?
«Все ближе будущее. Прошлое все глуше…»
Все ближе будущее. Прошлое все глуше.
Года бегут, не задевая дней.
Дневное солнце катится ватрушкой.
Полдневный свет не делает теней.
Но вот прошел сквозняк – и свет распался.
И тень возникла. Дышит тяжело.
Глядит угрюмо – и грозит мне пальцем.
И потирает скользкое чело.
* * *
Воспоминание
Это только гении так могут —
написать, как будто спеть с листа.
«Выхожу один я на дорогу».
Горизонт. Последняя черта.
Слева – кран какой-то крановщицы.
Справа – смех какого-то жулья.
Сквозь туман не виден путь кремнистый.
На ночной дороге – только я.
Ночь черна, пустыня внемлет Богу.
(Если б знать – ему ли одному…)
Я один ступаю на дорогу.
Горизонт. Я топаю к нему.
Свет фонарный рвет меня на части.
Ветерок качает деревца.
Я бегу от собственного счастья.
Я иду. Дороге нет конца.
Горизонта нет. И позади-то
нет начала. Я уж далеко.
Как из пены вышла Афродита,
так из снега – строй грузовиков.
Кто-то остановится, подбросит,
будет в ночь глядеть и задавать
бытовые скучные вопросы…
Я отвечу. Мне-то – наплевать.
Выйду в ночь, рукою руку хлопнув,
пожелав: «Пусть вам в пути везет!»
Мне еще идти по странным тропам.
Впереди маячит горизонт.
Это только беглые так могут —
написать, тревогу породив.
«Всем постам: он вышел на дорогу!
Путь кремнист. Он вышел. Он – один!»
«Живем, пока нам есть чего стыдиться…»
Живем, пока нам есть чего стыдиться,
пока мы что-то делаем не так.
Моей рукой не поймана синица.
Журавль в небе – тоже не простак.
И дело ведь не в том, что сердце бьется,
толкает кровь, та пенится волной.
Мы просто так живем, пока живется,
покуда жизнь волнует новизной.
Прямой походкой выхожу из дома,
кривой походкой возвращаюсь в дом.
Мы все по жизни кем-нибудь ведомы,
и я, конечно, кем-нибудь ведом.
Но ты, мой Ангел, подожди стараться.
Я до сих пор перед тобой в долгу.
И этот долг – причина здесь остаться,
оставить след подошвы на снегу.
Весенний снег – броском из зимней тучи,
но через день растает без следа.
Пока живем, пускай нас совесть мучит.
Умрем из-за отсутствия стыда.
* * *
Экспозиция
Здесь косяки вполне уместны.
Уместны ставни, зеркала.
Здесь на пеньке (вот-вот из леса!)
дрожит прозрачная смола.
Здесь комнат – две. А в длинной кухне
царит огромная плита,
не грея дом. Вот-вот он рухнет.
Его погубит нищета.
В нем люди жили – как не жили,
как будто «жить или не жить?» —
вопрос надкостных сухожилий.
Под крышей прятались стрижи.
Иль ласточки там гнезда вили?
Уже не вспомню. Помню, как
мы в зеркала себя ловили
и прятались на чердаках.
Я, впрочем, не совсем об этом,
и ставни эти, косяки —
иная жизнь иной планеты.
Покойтесь с миром, старики.
Кладбище – горка или яма.
Крест – деревянный иль… любой.
Что мне сказать? Спасибо, мама.
Спасибо, папа. Бог с тобой.
«Значит, в ней откликается что-то еще…»
Значит, в ней откликается что-то еще.
Что-то дышит преданьем недолгим.
И живет она рядом. Понятен расчет:
Енисей – он пошире, чем Волга.
Мы не встретимся с ней ни на том берегу,
ни на этом. Все выйдет случайно.
…Ах, как годы бегут! Ах, как годы бегут!
Звякнет ложечка в чашечке чайной —
и напомнит о том, как мы пили коньяк,
крепко рюмку держа на отлете.
Ах, как время течет! Что же было не так?
Не пойму. Не поймет. Не поймете.
«И рассветы горят, и закаты пылают…»
И рассветы горят, и закаты пылают.
Кто в венце, а кого-то ведут под венец.
Пуля – дура. А кто ее в цель посылает —
молодец!
Как любил я, батон в молоке расправляя,
щедро сахар добавить – и чаем запить!
Пуля – дура. Но цель ее определяет
тот, кто должен убить.
Усмехнется судьба, даст в былое вглядеться,
развенчает кого-то, а прочих – сочтет.
Отпылает закат. Ему некуда деться.
Пуля – дура.
Но верен расчет.
«Вот я – Иван, не помнящий родства…»
Вот я – Иван, не помнящий родства.
В моем роду никто не партизанил
и Колчаку никто рубля не занял,
и на «Потемкине» – ну, не моя братва.
Я видел деда, но у той черты,
за коей жизнь и жизнью не зовется.
Земную жизнь люблю до тошноты,
не раскопавший корни первородства.
Но что с того? Я предков не застал.
Я был так мал, что мне не рассказали.
Где ж отыскать магический кристалл?
И как себя в том отыскать кристалле?
Едва ли я смогу узнать, кому
обязан кровью и любовью к жизни.
За что ж так вольно сердцу моему?
За что оно так брызжет оптимизмом?
Живу, Иван, не знающий родства,
и предаюсь мечтаньям не постылым.
Но не меня ль с «Потемкина» братва
когда-то рыбам на прокорм пустила?
«Когда мне будет 70 и больше…»
Когда мне будет 70 и больше,
я буду жить, допустим, в сердце Польши.
Но вряд ли польский выучу язык.
Надену я свой лапсердак облезлый
и буду вызывающе любезным.
Но вина – из французской пить лозы.
А может статься, в Праге буду жить я,
в каком-нибудь дурацком общежитье,
там, где-нибудь, у Праги на краю.
И буду пиво пить. И думать стану
о том, что я жалеть не перестану
замученную родину мою.
А может быть, я окажусь в Париже.
По карте – дальше, но по кухне – ближе:
петух послушно плавает в вине.
Монмартр, и Нотр-Дам, и все такое…
Неподалеку Галич упокоен.
И этот город очень уж по мне.
Я буду жить.
Фантазия и дальше
полет могла б продолжить. Но без фальши
живу, стихию истины любя.
Страна моя.
Ни воли, ни покоя.
Одни лишь слезы…
Утереть рукою.
Куда я?
Кто я?
Что я без тебя?
«Ах, как пахнет свежескошенной травою!..»
Ах, как пахнет свежескошенной травою!
Не пришла ль еще пора метать стога?
Косари по трое ходят и по двое
и окашивают сочные луга.
Как красиво они бицепсами водят!
Как послушно в ноги падает трава!
Отпускает солнце рыжие поводья.
Недостаточными кажутся слова.
Косари! Мне так знакомо это племя!
Это пламя, этот бронзовый загар!
Было время – ах, какое было время!
Когда нас косарь косою не пугал…
Косари! Я в детстве брал свою «литовку»,
майку сняв, до невозможности красив,
я косил картошку, я косил морковку,
я косил… ах, как красиво я косил!
Мама с папой обижались отчего-то
и «литовку» убирали под замок.
Это зависть. Виртуозная работа
не дается всем подряд, а я вот – мог.
Это все – веселый груз воспоминаний,
это память о повергнутой ботве…
Косари теперь – не те. Коса, как знамя,
спит в музеях, представляя прошлый век.
Свежескошенной травою, как озоном,
пахнет утро, пахнет солнечный июль.
Косари скребут машинками газоны
и не знают про «литовку» про мою.
«Не тот патриот, кто кричит: «Россия, вперед!..»
Не тот патриот, кто кричит: «Россия, вперед!»
Не тот патриот, кто считает, что мы всех лучше.
А тот, кому стыдно и больно за свой народ,
избравший себе в цари крысомордого дуче.
Наверное, проще было б – на все забить
и делать вид, что это тебя не тронет.
Но что-то мешает забыться и позабыть,
что крысомордый дуче сидит на троне.
Склоняется к осени белая голова
и палой листвой осыпаются с веток годы.
Перо выдает только матерные слова,
высокий слог в этой теме, видать, не годен.
Что делать тому, кто не верит в здоровый сон,
тому, кто себя не спешит причислить к народу?
Очки поправив, на смех заменяя стон,
раскрыть тетрадь – и лить на мельницу воду.
«Я уже научился готовить кулеш…»
Я уже научился готовить кулеш
и уже приглядел себе посох.
Да пребудет со мной благородная плешь!
Да возьмет меня в долю философ!
Сколько нажито лет! Сколько вынуто зим!
Календарь поседел от пробелов.
Сколько сложено слов! Сколько в мусор корзин
из тетради листов облетело…
Ни о чем не жалею. Не вру про судьбу.
Не белю – и чернить не желаю.
Время режет, как скульптор, морщины на лбу
и перо до мозолей стирает.
Мир окрашен любовью. Не любо – не ешь.
Жизнь – картина, не просто набросок.
Я царапаю плешь. Я готовлю кулеш.
Сохраняет философ мой посох.
«Мимо базы Госснаба, которую я охранял…»
Мимо базы Госснаба, которую я охранял,
мимо павшего озера, где уж не водится рыба,
мимо вечной трубы над котельной РПКБ,
мимо старой градирни – и дальше, и дальше, и дальше…
Стынет остов завода железобетонных изделий.
Ветерок выдувает последние призраки жизни.
Жизнь не теплится больше в железобетонных колоннах.
И труба не дымит, и котельная пар не пускает.
И вагончика нашего нет. И не вьется тропинка
по зеленой траве, где с пучком одичавшего лука
наша Оля ходила. Мы звали ее: Одуванчик.
Да она и была одуванчиком – легким, пушистым,
и готовым по ветру лететь. И была мне – сестрою.
А кому-то была… не сестрою. Но это неважно!
Это молодость наша, и наше звенящее что-то.
Нас, конечно же, трое. Мы связаны крепко друг с другом
оголтелой романтикой слова, возможностью счастья,
обещанием крепкого чая в граненых стаканах…
или в кружках щербатых? Теперь уже точно не вспомню.
Нас, конечно же, трое. Еще нас судьба не ушибла,
еще в жилах течет настоящая кровь кавалеров —
не какого-то ордена, нет! Просто кровь кавалеров.
Кавалерия наша на стрёме. В подъеме легки мы.
Нет ни жен, ни детей, ни того, кто потом не подаст нам
заскорузлой руки – лишь за то, что мы слишком упрямы.
Это молодость наша. Мы пьем ее жадно, запоем.
Мы лелеем ее. Мы еще пережить не боимся
ни друг друга, ни прочих друзей.
Но наступит то время,
когда я на замызганном старом усталом «Ниссане»
проезжать буду мимо, то память, то зренье включая,
мимо старой котельной, давно не пускающей дыма,
мимо озера павшего, в коем не водится рыба…
Вот теперь я скольжу по дорогам, где молодость наша
не бесследно прошла… не бесследно…
Скольжу себе – мимо.
«Кто-то спросит, ладони смежив…»
Кто-то спросит, ладони смежив:
«Доживу ль до поры листопада?»
Я-то многих уже пережил.
Ни кичиться, ни спорить – не надо.
Что нам дорого? Чем мы живем?
Чем грозит нам пора листопада?
Звон прощальный. Небес окоем.
Но – не надо об этом.
Не надо.
«Что писать о природе? Природе от этого – что?..»
Что писать о природе? Природе от этого – что?
Ей стихи наши – даже не жемчуг в курином помете.
Что о смерти писать, если строй деревянных крестов
в бесконечность уходит? И вы никогда не поймете,
почему наше слово становится звуком пустым
перед строем крестов, пред судьбою, которая чертит
на холстах наше имя, а после смывает холсты.
Так о чем же писать?
Ну, конечно, о жизни.
И смерти.
* * *
Одному почетному гражданину
Говорят, он себе ордена покупал.
Я не знаю. Но видел финал я:
он себе орденов нацепил до пупа,
чтобы, бляди, чтоб суки, чтоб знали:
он – герой. И не надо героев других!
Он – почетней других горожанин!
Он вам строил, а вы – были строя слуги…
или слуги… неважно! Он жалит:
«Ни одна, извини, прошмандовка и блядь
не наполнила столько бюджета!..»
Он кричал и кричал.
А я думал: «Опять…
Обостренье… Скорее бы лето…»
«Земли уж нет. А та, что есть, – та не рожает…»
Земли уж нет. А та, что есть, – та не рожает.
Грядет пустыня. И ни сеять вам, ни жать.
Земли уж нет. А вы все ждете урожая.
Какой в пустыне вам, скажите, урожай?
Какая может быть победа без сраженья?
Какая жатва без посева может быть?
Сраженья нет. Но есть стрельба на пораженье.
Коль нет земли – к чему нам сеятель? Убить!
Я понимаю – публицистикою пахнет,
хромает рифма, и метафор – тощий пук.
Что делать пахарю? Он литр возьмет – и бахнет.
Покроет матом землю – и впряжется в плуг.
* * *
Прощание с Родиной
Ты прости меня, моя брошенная,
недоспрошенная моя,
моя Родина перекошенная,
одуревшая от вранья.
Ты прости меня, перепетая,
перелитая в перезвон,
моя темная, моя светлая,
издающая смертный стон.
Понесла меня не ко времени
да не вовремя родила.
Ты прости меня, моя древняя,
не отмытая добела.
От тебя лечу сизым голубем,
скорым соколом, воробьем.
Над тобой, моя, мы покружимся,
хлеба горького поклюем.
Ты прости меня, моя брошенная,
пересушенная, вдова,
ни на чьих руках не ношенная,
в правоте своей – не права.
Ты прости меня – да и Бог с тобой!
Улечу от тебя, уйду.
Как любить тебя? Да любовь к тебе —
не на счастие: на беду.
«Смерть перестала пугать. Что приключилось?..»
Смерть перестала пугать. Что приключилось?
Мы ведь всю жизнь наугад ходим по кромке.
В детстве я плакал, когда думал: «Умру я…» —
и просыпался, когда скрипела калитка.
Помню, как раз за окном вдарили в било,
папа ногой попадал мимо ботинка.
Пламя лизало медпункт, склянки стреляли,
не оставляя следов глупой растраты.
Что с нами было потом? Всякое было.
Можно и повесть писать, можно и больше.
Скоро остался один. Рано остался.
Многих уже пережил. Многим поклялся.
Головы стали белы, плечи повисли.
Годы – зарубки морщин горизонтальных.
Только, чем дольше живешь – дышишь вольнее.
Смерть перестала страшить. Что же случилось?
«То осень поздняя, то ранняя зима…»
То осень поздняя, то ранняя зима,
то скорых весен преждевременные роды…
Когда в сознании свирепствует чума,
тогда холеры не страшны уже приходы.
Когда бы видели лежащие в гробах,
как жить мешают нам иллюзии и ветер,
который дует, выдувая из рубах
живую волю и вдувая шепот смерти.

Акакий Кабзинадзе. Старуха
* * *
Грузия. Фрагменты
О, горы Грузии! Языческий восторг
и христианский трепет неподдельный!
Горел сентябрь. Наш отпуск двухнедельный
стоял в зените. Плавился восток,
а вечерами запад напоказ
катил закат на алой колеснице.
И нам порой казалось: только снится
нам вольный край по имени Кавказ.
Тифлис дышал покоем и родством,
струил вино и аромат хинкали.
И «мамин хлеб» из дедовых пекарен
был так пахуч, что пахло волшебством!
И волшебством дышало всё: река —
ее валы желтели под мостами, —
и над рекой волшебный Пиросмани
держал барашка в бережных руках.
Волшебно пел булыжник под ногой,
мы шли наверх, к короне Нарикала.
И синева прозрачно намекала,
что пропустить пора бокал-другой.
Пылал в стекле рубиновый пожар.
Бокал вскипал лозою Алазани.
И мы у груши сердце вырезали —
нас грушей щедро одарил Важа.
И это было тоже волшебство —
грузин Важа (хоть правильнее – Важа;
порой, ища изящного пассажа,
мы не щадим буквально никого!),
и виноград, и сливы сизый бок,
и спелой груши мягкая истома!..
Нам хорошо. Мы далеко от дома.
Тифлис дышал.
И плавился восток.
Скульптор Акакий Кабзинадзе
Бронза от времени не стареет, лишь покрывается патиной.
Патина – не паутина, хоть время – паук.
Будь удача щедрей, она платила бы
золотом или платиной
за одно только золотое сечение,
выходящее из-под этих рук.
Золотое сечение, бронзовое свечение.
Патина – тусклый отблеск ушедшего. Плотина.
Преграда у забвения на пути.
Бросить ли карты веером?
Вздремнуть над кофейной гущей?
Впасть в искус столоверчения,
понять чтобы: чего он хочет?
Какую сагу бормочет? Какой мотив?
Патина – не паутина.
Искусство – не искус.
Культура – культова.
Бронза от времени не стареет. Она от времени
требует
жарких объятий, лютой любви огня.
Будь удача мудрей, из паутины щедрот она б
соткала мастерскую скульптору,
такую,
чтобы вся бронза мира
могла поместиться в ней —
и покрываться патиной,
победно звеня.
Робу Авадяеву, вина не пьющему
Спросишь: «Чья же вина?» – нет вины. Не вина
то, что слово я множу на слово.
Ты купи мне вина. Ты налей. Я – до дна
осушу. И наполню. И снова.
Только это должно быть такое вино,
чтобы в нем – не забвенье, а сила.
Но такого вина мы не пили давно.
«Чья же в этом вина?» – ты спросила.
Я увидел места, где растет виноград,
зреют гроздья, вину избывая.
Мы поедем туда. То-то будет нам рад
виночерпий!
Уж он наливает.
«Жизнь рассудит, Господь разберет…»
Жизнь рассудит, Господь разберет,
партитуру распишет по нотам.
Говорите: «Движенье вперед —
результат каждодневной работы».
Это так. Только в белом платке,
перед парами глаз не маяча,
на отшибе, в тиши, в уголке
притаилась подруга Удача.
Вашей мысли орлиный полет
без нее – только хвост самолета.
Хоть, конечно, движенье вперед
есть продукт повседневной работы.
Но усмешкою скошенный рот —
вам неясно, что все это значит?
И смеется хитрюга Удача:
«Жизнь рассудит. Господь разберет».
…На отшибе, в тиши, в уголке
утаилась от сглаза Удача.
И смеется над вами, и плачет.
И гадает себе по руке.









































