Текст книги "Поезд прибывает по расписанию"
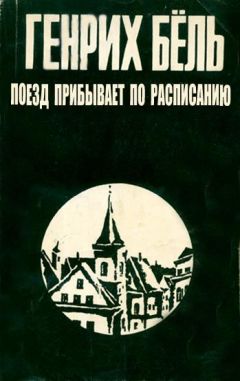
Автор книги: Генрих Бёлль
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Да, конечно, когда его выписали из госпиталя в Амьене, он сразу заковылял к той горе, но там уже все было по-иному. Серое шоссе не взбегало, петляя, на гору, оно вело себя вполне разумно. Гора тащила шоссе на своем горбу, а забор и не думал шататься или нестись сломя голову вверх; забор стоял на месте, и за ним был дом, который Андреас не узнал: он узнал только забор, забор, замысловато сложенный из кирпичей, но не сплошной, а с узорными просветами. У забора стоял типичный обыватель-француз и посасывал трубочку, в его глазах засела тяжелая, как свинец, насмешка. Он ровным счетом ничего не знал, знал только, что сами они, местные, эвакуировались отсюда, бежали, а немцы все разграбили, несмотря на то, что поперек дороги висел плакат: «За мародерство – смертная казнь». Никакой девушки в доме нет. Есть только его жена, разжиревшая матрона – вот она стоит, засунув руку в вырез платья, – лицо у нее как у крольчихи. Детей у них нет, дочери сроду не бывало, ни дочери, ни сестры, ни невестки. Никого! Тесные, непроветренные комнатушки, забитые всяким хламом. Достойная обывательская чета с явной издевкой следила за его тоскливым беспомощно-ищущим взглядом.
Сервант покорежили немцы, а ковер прожгли окурками; на этом диване они спали со своими девками и совершенно запакостили его. Папаша презрительно сплюнул. Но все это произошло позже, намного позже, к тому времени бои уже кончились и дымное облако над Амьеном давно рассеялось, да, это произошло значительно позже, уже после того, как в поле врезался самолет; до сих пор в земле торчит его фюзеляж. Француз ткнул своей трубкой в окно… Да, он все еще торчит в земле, фюзеляж с трехцветной кокардой, а вон там, рядом, могила летчика, отсюда видна стальная каска, на ней сейчас пляшут солнечные зайчики. И все это сама жизнь, сама жизнь: и этот запах жареного мяса из кухни, и покореженный сервант, и амьенский кафедральный собор, который темнеет внизу в котловине, «памятник французской готики»… Кончено. Все кончено.
Той девушки нет.
– Может, это была проститутка, – предположил француз.
Он, видно, сочувствовал Андреасу: какое чудо, что этот обыватель вообще способен сочувствовать, да еще немецкому солдату, невзирая на то, что солдат служит в той же самой армии, что и мародеры, которые украли у него столовые приборы и часы, валялись на его диване с девками и запакостили этот диван, совершенно запакостили.
Боль была так пронзительна, что он остановился на пороге дома и долго смотрел на шоссе, где ему стало дурно; боль была так ужасна, что он ее перестал чувствовать. Француз покачал головой, он никогда не видел таких несчастных глаз, как у этого немца, который стоял рядом с ним, тяжело опираясь на палку.
– Peut-?tre, – сказал он, когда Андреас собрался идти, – Peut-?tre une folle, может, это была сумасшедшая из той лечебницы, – француз показал рукой на длинный забор, за которым виднелись высокие красивые деревья и строения с красными крышами. – Лечебница для душевнобольных. В те дни они разбежались кто куда, потом их с большим трудом удалось собрать…
– Спасибо… Спасибо…
И он опять поплелся в гору. К лечебнице. Ограда начиналась в двух шагах, но до ворот было далеко. Долго, долго взбирался он на раскаленную гору, пока не дошел до ворот. Предчувствие его не обмануло; тех, кого он искал, уже не оказалось. У ворот маячил часовой в каске: душевнобольных не было и в помине, теперь там лежали раненые и больные, и еще там открыли специальное отделение для больных триппером.
– Огромный корпус для больных триппером, – объяснил часовой, – ты что, подцепил триппер?
Андреас взглянул на большое поле, на торчавший из земли фюзеляж с трехцветной кокардой и на стальную каску, на которой играли солнечные блики.
– Этот товар здесь прямо задарма, – сказал часовой; ему было скучно стоять на посту, – за пятьдесят пфеннигов с тобой любая пойдет, – он засмеялся, – за пятьдесят пфеннигов.
– Да, – сказал Андреас, не слушая. Сорок миллионов, думал он, во Франции сорок миллионов жителей, слишком много. Попробуй найди. Надо набраться терпения. Смотреть в глаза каждой встреченной на улице женщине… Ему неохота было плестись дальше и осматривать поле, где его ранили, хотя поле было всего в трех минутах ходьбы. Ведь это уже не то поле, здесь теперь стало все по-иному. Не то шоссе и не тот забор; они все забыли, шоссе все забыло, как забывают люди; и забор забыл, что от страха он рухнул, увлекая за собой Андреаса. А фюзеляж самолета – это сон, сон с французской кокардой. Зачем осматривать поле? Зачем тащиться еще минуты три и снова с ненавистью и горечью вспоминать ура-патриотическое стихотворение, которое он тогда чуть было не воплотил в жизнь? Зачем напрягать и без того уставшие ноги?
– Ну вот, – сказал небритый, – теперь мы уже скоро приедем в Пшемысль.
– Дай-ка мне еще раз глотнуть, – попросил Андреас. Он снова приложился к бутылке.
Было все еще холодно, но понемногу светало; скоро за окнами потянутся бескрайние просторы, просторы Польши. Темные дома, долины, испещренные тенями, и небо над ними, небо, которое, кажется, вот-вот упадет, потому что ему не на чем держаться. Может, это уже Галиция? Может, эта равнина, медленно выползающая из мрака, бледная, серая, напитанная тоской и кровью равнина и есть Галиция?… Галиция… Восточная Галиция.
– Ну и долго же ты спал, – позавидовал небритый, – от семи до пяти. Теперь уже пять. Перегон Краков – Тарнув мы проехали. Ну, а я не сомкнул глаз. Мы давно едем по Польше. Краков – Тарнув, скоро уже Пшемысль…
Какое гигантское расстояние! Уже Пшемысль, а еще недавно был Рейн. Я проспал десять часов и теперь опять голоден, а жить мне осталось всего сорок восемь часов. Сорок восемь часов уже прошло. Сорок восемь часов сидит во мне это «скоро». Скоро я умру. Вначале я считал «скоро» хоть и неизбежным, но далеким. Неизбежным, но туманным; потом оно все больше и больше сжималось и вот сжалось до пустякового отрезка пути, до двух дней. Колеса крутятся и крутятся, и с каждой секундой я все ближе к концу. Колеса крутятся и отрывают от моей жизни по клочку от моей загубленной жизни. Колеса сокращают мне жизнь, с дурацким перестуком раздирают ее на части; по польской земле они катятся с той же тупой сосредоточенностью, с какой катились по берегу Рейна. Колеса все время одни и те же. На это колесо под дверью, может быть, смотрел еще Пауль; это смазанное мазутом, покрытое коркой грязи колесо бежит из самого Парижа. Наверное, даже из Гавра. Париж, вокзал Монпарнас… Скоро в плетеных стульях под тентами рассядутся парижане; на осеннем ветру они будут попивать вино, глотать сладкую пыль Парижа, потягивать абсент или перно и одним небрежным пижонским щелчком сбрасывать окурки в сточные канавы, в ручейки, которые плещутся под этими ласковыми и всегда насмешливыми небесами. В Париже пять миллионов жителей, множество улиц, множество переулков и видимо-невидимо домов, и ни из одного дома не выглянули глаза той девушки; пять миллионов – это тоже слишком много…
Небритый вдруг с жаром заговорил. Рассвело, люди в вагоне зашевелились, стали ворочаться во сне, и небритый, наверное, почувствовал потребность выговориться, пока народ еще не совсем проснулся. Для его рассказа был нужен ночной час и человек, который слушал бы его, но только один человек.
– Ужас в том, что я ее уже никогда больше не увижу: могу поклясться, – сказал небритый тихо, – не знаю, что с ней теперь станет. Уже три дня как я в пути, три дня. Что она делает эти три дня? Не думаю, что пленный еще с ней. Нет, нет. Она закричала как зверь… как зверь, которого взяли на мушку. Теперь у нее никого нет. Она ждет. Не хотел бы я быть на месте женщины. Женщины всегда ждут… ждут… ждут… ждут…
Небритый говорил тихо, и в то же время он кричал страшным тихим криком.
– Она ждет… Не может жить без меня. Никого у нее нет, никого никогда не будет. Она ждет одного меня, и я люблю ее. Сейчас она невинна, как девочка, которая ни разу не поцеловалась, и ее невинность для меня одного. Жуткий, отчаянный страх очистил ее, знаю… и ни один человек, ни один человек на свете не может ей помочь, никто, кроме меня, а я сижу в этом эшелоне, который идет в Пшемысль… Буду во Львове и в Коломые… Но никогда уже не перееду через немецкую границу. Никому не понять, почему я не сяду на встречный поезд, отчего не вернусь к ней… Отчего? Этого никому не понять… Боюсь ее невинности… я очень люблю ее… с этим и умру, и все же она никогда обо мне не услышит, а потом придет похоронка, там будет написано: «Пал в боях за Велико-Германию», – небритый сделал очень большой глоток. – Поезд тащится как черепаха, правда, приятель? Я хотел бы оказаться за тридевять земель отсюда,… Как можно скорее… Не понимаю, почему я не пересяду на встречный поезд, ведь у меня еще увольнительная… Нет, пусть наш поезд идет быстрее, гораздо быстрее…
Несколько человек уже проснулись и недовольно жмурились от неприятного холодного света, которым были залиты равнины за окном…
– Боюсь, боюсь, – бормотал небритый Андреасу; к счастью, их никто не слышал, – боюсь смерти, но еще больше боюсь вернуться назад, прийти к ней… уж лучше умереть… может, я ей напишу…
Кое-кто из солдат приглаживал пятерней волосы, кое-кто закуривал, равнодушно взирая на пустые поля, редко-редко когда за окном мелькал какой-нибудь темный деревенский домишко – безлюдный край… кое-где на горизонте холмы… все серое… Просторы Польши.
Небритый вдруг замолк, застыл как неживой. Всю ночь он не сомкнул глаз, но сейчас его одолевал сон – глаза стали как помутневшее зеркало, щеки пожелтели, ввалились, а его щетина превратилась в настоящую бороду, черно-рыжую, как пряди волос на лбу.
– Но ведь в этом как раз и заключается несомненное преимущество противотанкового орудия калибра три и семь десятых, – сказал какой-то болван менторским тоном, – в этом-то и есть преимущество орудий такого типа… Мобильность… Мобильность…
– Да, но снаряды только щелкают по броне, – со смешком возразил его собеседник.
– Неправда!
– Правда! – сказал кто-то в другом углу. – И за это он еще получил Рыцарский крест, а мы шиш с маслом…
– Надо было слушать фюрера, – сказал солдат сзади. – Долой аристократов! И фамилия-то его была фон Крузайтен. Чудная фамилия. Корчил из себя невесть что…
Счастливчик этот небритый. Теперь, когда весь вагон болтает, он преспокойно спит, а когда было совсем тихо – бодрствовал. Впрочем, не надо отчаиваться, впереди у меня еще две ночи, думал Андреас, две долгие, долгие ночи, хорошо бы провести их одному. Если бы они узнали, что я молился за евреев в Черновицах, и в Станиславе, и в Коломые, они тут же посадили бы меня за решетку или упекли в сумасшедший дом…
Противотанковое орудие три и семь десятых!…
Белобрысый очень долго тер себе глаза, узкие как щелки и неприятно мутные. Уголки глаз у него гноились. Мерзкое зрелище! Но он предложил Андреасу хлеб, белый хлеб с конфитюром. И в его фляжке еще был кофе. Да, перекусить сейчас совсем неплохо. Андреас уже опять чувствовал сильный голод. И не мог оторвать жадного взгляда от большой буханки белобрысого. Хлеб оказался на редкость вкусным.
– Да, – вздохнул белобрысый, – домашняя булка, мама сама пекла.
Потом Андреас долго сидел в уборной и курил. Уборная была единственным местом, где можно было побыть одному. Единственным местом на всем свете, во всей прославленной армии Гитлера. Как приятно сидеть тут и курить. Андреасу показалось, что он снова преодолел отчаяние. Отчаяние было всего лишь короткой вспышкой после пробуждения, дурным сном. Он один, и все к нему вернулось. Когда он не один – все уходит. А сейчас все с ним – и Пауль, и глаза той девушки, любимой девушки… и белобрысый, и небритый, и тот, кто сказал «фактически, фактически мы уже выиграли эту войну», и тот, кто только что заявил: «Но ведь в этом как раз и заключается несомненное преимущество противотанкового орудия калибра три и семь десятых». Все они с ним. И молитвы тоже ожили, приблизились, излучают тепло. Как целительно одиночество! Когда человек один, он не ощущает себя таким одиноким. Сегодня вечером, думал он, я опять буду долго молиться, сегодня вечером во Львове. Львов – это трамплин… Между Львовом и Коломыей… Поезд с каждой минутой все ближе к цели, и колеса, которые катились по Парижу, по вокзалу Монпарнас, а может, даже по Гавру или по Абвилю – эти же самые колеса будут катиться и по Пшемыслю… они довезут его до самого трамплина…
Уже совсем светло, но солнце сегодня, наверное, так и не выглянет; правда, в толще серых плотных облаков высветилось неяркое пятно, и его мягкий жемчужный свет пробился наружу и озарил все вокруг: леса и дальние холмы, деревни и людей в темных одеждах, которые, заслонив ладонью глаза, провожали взглядом их поезд. Галиция… Галиция…
Андреас просидел в уборной до тех пор, пока попутчики не начали изо всех сил барабанить в дверь и бешено ругаться – только так его смогли вытурить.
Поезд прибыл в Пшемысль по расписанию. Места здесь оказались просто-таки красивыми. Андреас с белобрысым подождали немного и, когда вагон опустел, разбудили бородача. На перроне уже не было ни души. Солнце все же вылезло и прямой наводкой било по пыльным кучам щебня и песка. Бородач проснулся мгновенно.
– Ясно! – сказал он, вскочил и немедленно перерезал кусачками проволоку на дверях, чтобы они могли скорее выйти.
Меньше всего багажа оказалось у Андреаса – только мешок, который сильно полегчал после того, как из него вынули основную тяжесть – пайковые бутерброды. В мешке теперь лежала рубаха, пара носков и стопка писчей бумаги. Автомат он забыл; автомат остался в платяном шкафу у Пауля, за его прорезиненным плащом.
Белобрысый тащил летный рюкзак и чемодан; бородач – два ящика и ранец. Кроме того, у обоих висели на поясе пистолеты.
Только сейчас при свете солнца они увидели, что бородач – унтер-офицер. На его сером воротнике тускло поблескивали нашивки.
Вокзал был пустой и унылый, он походил скорее на товарную станцию. Слева тянулись бараки, множество бараков: дезкамера, кухня, канцелярия, казарма и наверняка солдатский публичный дом, где соблюдаются все правила гигиены. Куда ни бросишь взгляд – одни бараки, они уходили влево, далеко влево, там виднелась заброшенная, поросшая травой железнодорожная колея, товарная платформа, тоже поросшая травой, и высокая ель. Белобрысый и Андреас растянулись на солнце возле ели и увидели то, что закрывали бараки: древние башни Пшемысля на реке Сан.
Бородач не стал садиться. Он только сбросил свой ранец на землю и сказал:
– Пойду получу довольствие и узнаю, когда отправляется поезд на Львов. Хорошо? А вы пока вздремните.
Он взял у них отпускные свидетельства и очень медленно побрел к перрону. Он шел так мучительно медленно, так раздражающе медленно, что они успели разглядеть все пятна на его спецовке и все мелкие дырочки – словно от колючей проволоки, он шел неестественно медленно, враскачку – издали его можно было принять за моряка.
Наступил полдень, духота была невыносимая, даже тень от ели изрешетил зной: она стала сухой и уже не давала прохлады. Белобрысый расстелил одеяло, под голову они положили свои мешки; так они лежали и глядели на город и на раскаленные, пышущие зноем крыши бесчисленных бараков. Бородач скрылся где-то в проходе между бараками. Даже по его походке было видно, как ему все безразлично…
На другом пути стоял поезд, который отправлялся в Германию. Паровоз уже развел пары, и из окон высовывались солдаты без фуражек.
Почему бы мне не сесть на этот поезд? – думал Андреас. Что меня держит? Почему бы мне не сесть на этот поезд и не отправиться назад к берегам Рейна? Почему не купить себе отпускное свидетельство в этой стране, где все продается и покупается? Почему бы не прикатить в Париж на вокзал Монпарнас, не обойти все улицы, не прочесать все дома, чтобы разыскать ту девушку, разыскать ради одной-единственной, пусть самой мимолетной, ласки – прикосновения рук, ее рук, которые я так и не разглядел? Пять миллионов это все же одна восьмая… Может, и девушка входит в эти пять миллионов?… И почему мне не поехать в Амьен к тому дому, к той кирпичной ограде с узорчатыми просветами, и не пустить себе пулю в лоб как раз там, где ее взгляд на четверть секунды встретился с моим, где он нежно, глубоко и безошибочно проник мне в душу?
Но мысли Андреаса были такие же вялые, как и его движения. Какое блаженство – вытянуть ноги, они, казалось, росли прямо на глазах: вот-вот Андреас дотянется ступнями до самого Пшемысля.
Так они лежали и курили; их разморило – не хотелось шевелиться, – как-никак два дня и две ночи они провели в вагоне.
Когда Андреас проснулся, солнце уже успело описать на небе широкий полукруг. Бородач все еще не возвращался. Белобрысый не спал, он опять курил.
Поезд в Германию отошел, но у перрона стоял новый состав, который шел туда же, и снизу, из большого барака, где помещалась дезкамера, к нему спешили люди – серые фигурки, навьюченные мешками и ранцами, с автоматами, которые болтались у них на шеях, – эти люди ехали на побывку в Германию. Вдруг один из них побежал, потом побежали трое, потом человек десять, а потом помчались все: на бегу они теряли вещи, сшибали друг друга; серое, загнанное стадо неслось сломя голову только потому, что у одного не выдержали нервы.
– Где твоя карта? – спросил белобрысый.
После долгого молчания это первая фраза.
Андреас вытащил карту из кармана, развернул ее, сел, разложил карту у себя на коленях. Он не отрывал глаз от слова «Галиция», но палец белобрысого показывал совсем не туда, а гораздо южнее и восточнее; палец этот был очень длинный, тонкий, со светлыми волосиками и, несмотря на грязь, благородного вида.
– Вот, – сказал белобрысый, – вот куда я еду. Туда еще дней десять пути, если все пойдет гладко. – Его палец с коротким, но всe еще блестящим, отливающим голубым ногтем закрыл все пространство между Одессой и Херсоном, конец ногтя упирался в Николаев.
– Ты едешь в Николаев? – спросил Андреас.
– Нет, – белобрысый вздрогнул, его ноготь полез дальше, и Андреас заметил, что, уставившись в одну точку карты, он на самом деле ничего не видит, думает о другом, – Нет, – повторил белобрысый, – в Очаков. Я служу в зенитных частях, мы стояли до этого в Анапе, на Кубани. Но теперь ушли оттуда. Я еду в Очаков.
И тут вдруг их взгляды встретились. В первый раз за эти сорок восемь часов, которые они провели вместе, их взгляды встретились. Они часами шлепали картами, пили, ели, спали вповалку, но только сейчас их взгляды встретились. И Андреас увидел, что глаза у белобрысого подернуты какой-то отвратительной беловато-серой слизистой пленкой. И взгляд его прошел сквозь эту пленку, словно сквозь первый струп, который образовался на гнойной ране. Только сейчас Андреас понял, что в этом человеке есть нечто отталкивающее, что от него исходят какие-то флюиды со знаком минус; а ведь раньше, когда у белобрысого были еще ясные глаза, он, без сомнения, был красивый юноша: светловолосый, стройный, с изящными руками… Так вот, значит, как обстоит дело, подумал Андреас.
– Да, вот как обстоит дело, – сказал белобрысый, будто прочел мысли Андреаса. И продолжал тихим голосом, зловеще тихим: – Да. Меня погубил один тип. Мой вахмистр. Сделал из меня последнего подонка. Мерзавца. И ничто меня больше не радует. Даже жратва: это только кажется, что я ем с аппетитом; я ем автоматически, лакаю спирт автоматически, сплю автоматически. Чем я виноват? Из меня сделали подонка! – вдруг закричал он. Потом опять перешел на шепот: – Шесть недель мы сидели в окопах у Сиваша. Кругом ни души, ни одного дома… ни одной развалюхи… топи, вода, ивняк. Только русские иногда летали у нас над головой – они сбивали самолеты, которые шли из Одессы в Крым. Полтора месяца мы торчали на этом кошмарном болоте. В этом аду кромешном. Там было орудие, и при нем шесть человек прислуги и вахмистр. Вокруг ни одной собаки. Боеприпасы они подвозили нам на грузовике к краю болота, а оттуда мы тащили их на позицию через гать – по настилу из хвороста. Боеприпасы нам давали на две недели и целую гору жратвы. Жратва была нашей единственной отрадой. И еще мы ловили рыбу и разгоняли мошкару… Там летали тучи мошкары, тьма-тьмущая; не понимаю, как мы вообще не сошли с ума. Вахмистр был сущий скот. Вначале он день и ночь нес похабщину и жрал как удав. Мясо и сало: хлеб он почти не жрал… Поверь мне, – из груди белобрысого вырвался глубокий вздох, – поверь мне, человек, который воротит нос от хлеба, – пропащий. Да…
Теперь вокруг них была мертвая тишина, но солнце по-прежнему стояло на небе во всей своей красе и золотило Пшемысль.
– Боже мой, – застонал белобрысый, – он сделал из нас последних подонков. Что тут долго рассказывать? Все мы скурвились, все… кроме одного. Этот отказался. Уже немолодой, женатый, у него были дети; по вечерам он часто плакал и показывал нам карточки своих ребятишек… конечно, до всей этой истории. Он отказался наотрез. Дрался, угрожал… он был сильнее, чем все мы пятеро, и однажды ночью, когда он стоял на посту, вахмистр прикончил его из его же собственного пистолета, подкрался сзади и застрелил, а потом вытащил нас из постелей и заставил помогать ему – он задумал утопить труп в болоте. Труп – тяжелая штука… Да, брат, трупы – дикая тяжесть. Трупы – самое тяжелое, что есть на свете, впятером мы с трудом волокли его: было темно, лил дождь, и я думал: «Это преисподняя». Вахмистр написал донесение, где говорилось, что старик был бунтовщик и что он угрожал ему оружием, стрелял; в качестве вещественного доказательства он предъявил его пистолет, ведь там, понятное дело, недоставало одного патрона. А жене старика они послали извещение: мол, пал в боях за Велико-Германию в топях Сиваша… Да. Ну, а восемь дней спустя явился очередной грузовик с боеприпасами и привез мне телеграмму, где было сказано, что нашу фабрику разбомбило и что мне разрешено в связи с этим поехать на побывку домой. После этого я уже не вернулся на батарею, ушел, и все! – в его голосе прозвучало отчаянное ликование. – Ушел, и дело с концом! Представляю себе, как он бесновался! В штабе они прежде всего допросили меня как свидетеля насчет старика, и я слово в слово повторил донесение вахмистра. И тут же укатил… укатил! Из батареи в часть, которая стояла в Очакове, оттуда в Одессу, а оттуда еще дальше… Опять наступила зловещая тишина, только солнце по-прежнему сияло во всем своем великолепии. Андреас почувствовал неодолимое отвращение. Ничего страшнее этого быть не может, твердил он про себя, ничего страшнее быть не может…
– С тех пор меня ничто не радует и никогда не обрадует. Я боюсь смотреть на женщин. Все время, что я пробыл дома, я либо впадал в прострацию, либо выл как полоумный; мама решила, что я заболел какой-то опасной болезнью, но ведь не мог же я ей сказать; такое нельзя сказать ни одному человеку…
Безумие, что солнце светит как ни в чем не бывало, думал Андреас. Ужасное отвращение проникло ему в кровь, словно отрава. Он хотел взять белобрысого за руку, но тот в ужасе отпрянул.
– Нет, – закричал он, – не надо! – Перевернулся на живот, закрыл лицо ладонями, плечи у него задрожали… Казалось, от его рыданий земля вот-вот расколется, земная твердь разверзнется. Но небо по-прежнему улыбалось, улыбалось белобрысому, баракам, всем этим баракам и башням Пшемысля на реке Сан.
– Умереть, – причитал белобрысый, – единственный выход умереть. Я хочу умереть, покончить со всем этим! Умереть! – Тут вдруг у него перехватило дыхание, что-то душило его. И Андреас понял, что только теперь он заплакал, заплакал взаправдашними слезами.
У Андреаса помутилось в глазах, лавина крови, грязи и гноя захлестнула его – он стал молиться, отчаянно Молиться, словно утопающий, который взывает к людям, хотя в море нет ни души и он даже не видит берегов.
Это хорошо, думал он потом, слезы помогают… Плакать, плакать. Нет ни одного человека, который не заплакал бы хоть раз. Мне тоже надо плакать. Обязательно. Бородач плакал, и белобрысый тоже
плачет. А вот я целых три с половиной года не плакал, не проронил ни слезинки с тех пор, как спустился с холма к Амьену, с тех пор, как не захотел пройти еще несколько шагов до поля, где меня ранили.
Второй эшелон в Германию тоже ушел, и вокзал опустел. Странно, думал Андреас, теперь, если я и захочу вернуться назад, то уже не смогу. Нельзя оставлять этих двоих. Да я и не хочу. Возврата нет…
Вокзал с его расходящимися веером рельсами был сейчас совершенно безлюден, только кое-где между путями виднелись вспышки сварки да поодаль работала бригада поляков, сгружавшая щебень. Но вот на платформе появилась фигура в старых штанах небритого. Уже издали было видно, что фигура не имела ничего общего с тем глубоко несчастным, одичавшим бородачом, который ехал с ними в поезде и пытался заглушить тоску алкоголем. Это был совершенно другой человек, только штаны на кем были те же. Человек с розовым, гладким лицом, в сдвинутой чуть-чуть набекрень фуражке. Когда он подошел ближе, стало видно, что в глазах его светится нечто типично унтер-офицерское – смесь невозмутимости, насмешки, цинизма и милитаризма. Задумчивости в этих глазах как не бывало. Небритый побрился, умылся, пригладил волосы, и руки у него были стерильно чистые; слава богу, Андреас вспомнил, что его зовут Вилли, даже мысленно этого человека нельзя было теперь назвать «небритым», иначе, чем Вилли, его вообще нельзя было назвать.
Белобрысый все еще лежал на одеяле, уткнув лицо в ладони; он тяжело дышал, и было непонятно – спит он, стонет или плачет.
– Спит? – спросил Вилли.
– Да.
Вилли выложил полученные припасы, аккуратно поделив их на две кучки.
– Трехдневный паек, – сказал он.
Он получил по буханке хлеба на брата, по большому кругу вареной колбасы в промокшей бумаге, так как из колбасы вытекал сок. И еще ему дали примерно по четверть кило масла на человека, по восемнадцать сигарет и по три трубочки леденцов.
– А ты сам разве ничего не получил? – осведомился Андреас.
Вилли взглянул на него с удивлением, почти с обидой!
– Я ведь истратил все свои талоны на шестнадцать дней вперед.
Значит, это и впрямь было не во сне, а наяву, значит, Вилли на самом деле рассказывал ночью свою историю. Значит, это правда, и человек этот – тот же самый человек, хотя сейчас он гладко выбрит и глаза у него хоть и немного больные, но спокойные. Как осторожно он надевает в тени под елью черные форменные брюки танкиста, осторожно, чтобы не смять складку. Брюки у него новые и очень идут ему. Сейчас он типичный унтер-офицер.
– Гляди, я разжился пивом, – сказал Вилли и вытащил три бутылки пива.
Они соорудили из ящика небритого нечто вроде стола и принялись за еду. Белобрысый не шевелился, он лежал все в той же позе, ничком – в позе убитого. Себе Вилли добыл польское сало, пшеничный хлеб и лук. Пиво оказалось выше всяких похвал и даже охлажденное.
– Польские парикмахеры, – начал Вилли, – экстракласс. Шесть марок за все удовольствие. И ты другой человек: мытье головы за те же деньги. Экстра-класс, а какая стрижка! – Он снял свою форменную фуражку и показал аккуратно подстриженный затылок. – Стрижка – блеск!
Андреас все еще смотрел на него с изумлением. В глазах Вилли появилось нечто сентиментальное, специфическая унтер-офицерская сентиментальность.
Они здорово устроились, стол был прямо как настоящий, и от бараков сравнительно далеко.
– И вам тоже, – сказал Вилли, жуя и со смаком прихлебывая пиво, – и вам тоже надо вымыть голову – самим или в парикмахерской: с чистой головой совсем другое самочувствие. Все с тебя сходит, вся дрянь. Но первое дело – бритье. Тебе это тоже не помешает. – Вилли посмотрел на подбородок Андреаса. – Совершенно явно не помешает. Красивая житуха, приятель, усталости как не бывало и ты… и ты… – он никак не мог подобрать подходящих слов, – и ты просто другой человек. Время еще есть, до отхода нашего эшелона целых два часа. Сегодня вечером мы будем во Львове. А от Львова поедем как гражданские лица, скорым поездом, экспрессом Варшава – Бухарест. Шикарный поезд, я им постоянно езжу, надо только раздобыть печать, а уж печать мы всегда раздобудем. – Он громко засмеялся. – Печать мы раздобудем, но каким способом, я вам сейчас не скажу…
Странно, думал Андреас, неужели нам понадобятся целые сутки, чтобы попасть из Львова в то место, где это должно случиться. Здесь какая-то неувязка. Нет, завтра на рассвете, в пять часов, мы не м ем выехать из Львова. Какой вкусный хлеб с маслом! Он намазывал масло толстым слоем, резал сочную колбасу толстыми кружками. Чудеса! – думал он. Ведь это уже воскресное масло, а может, даже масло на понедельник; я ем масло, которое мне не положено, воскресное масло мне отнюдь не положено. Довольствие выдают на сутки – от двенадцати дня до двенадцати дня. Стало быть, масло на воскресный день мне не положено. Ей-богу, они подведут меня под военный трибунал… отправят мой труп к председателю трибунала и скажут: «Он съел воскресное масло и даже часть масла на понедельник, обокрал героический немецкий вермахт. Он знал, что умрет, и, несмотря на это, сожрал все масло, и хлеб, и колбасу, и леденцы и выкурил все сигареты. И это уже невозможно провести через хозчасть. Довольствие для мертвецов не проводится через хозчасть. Благодарение богу, мы не язычники и не кладем еду в могилы мертвецам, мы истые христиане; он обокрал истинно христианский великогерманский героический вермахт. И мы вынуждены приговорить его к…
– Во Львове, – захохотал Вилли, – во Львове я уж как-нибудь добуду печать. Во Львове все можно достать. Там я царь и бог.
Если бы Андреас вымолвил хоть словечко, если бы он спросил, где можно раздобыть во Львове печать, то моментально все узнал бы – Вилли горел желанием открыть свой секрет. Но Андреаса он не интересовал. Его устраивало, что они добудут печать. Экспресс его также вполне устраивал. До чего приятно, наверное, ехать не в воинском эшелоне. Ведь в обычном поезде едут не только военные, не только мужчины. Противно находиться все время в обществе мужчин, мужчины – такие бабы. Ну, а в том поезде будут и женщины-Польки… Румынки… Немки… Жены дипломатов… Шпионки. Как приятно ехать в поезде вместе с женщинами-до самого… до самого… места, где ему суждено умереть. Как это произойдет? Партизаны? Партизаны теперь везде. Но зачем партизанам нападать на курьерский поезд? Ведь по этой дороге проходит множество воинских эшелонов, которые везут целые полки, тысячи солдат, с оружием, довольствием, обмундированием, деньгами и боеприпасами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































