Текст книги "Поезд прибывает по расписанию"
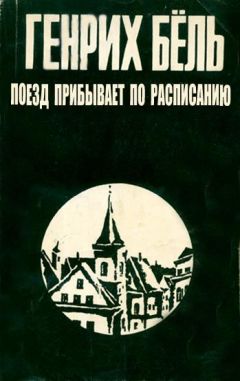
Автор книги: Генрих Бёлль
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Что с тобой? – спросила Олина. С тех пор как он крикнул «не надо», в ее мягком голосе слышалось удивление.
Он взглянул на нее; как приятно смотреть в глаза этой девушке. В ее серые, очень мягкие, печальные глаза. Надо ответить.
– Ничего, – сказал он и вдруг сам спросил, хотя ему стоило неимоверных усилий выдавить из себя эти несколько слов, – рот его был полон боли и яда, он спросил:
– Ты успела доучиться?
– Нет, – ответила она коротко.
Спрашивать дальше было жестоко. Девушка бросила сигарету в большую металлическую пепельницу, которую поставила на пол между двумя креслами и тоже спросила очень тихо и мягко:
– Хочешь, чтобы я тебе все рассказала?
– Да, – ответил он, не смея взглянуть ей в лицо, потому что ему было страшно встретить взгляд ее серых, таких спокойных глаз.
– Хорошо.
Но она так и не стала рассказывать – она смотрела в пол. А потом он почувствовал, что Олина подняла голову, и вдруг она спросила:
– Сколько тебе лет?
– В феврале исполнилось бы двадцать четыре, – тихо сказал он.
– В феврале исполнилось бы двадцать четыре. Исполнилось бы… Но не исполнится?
Он поглядел на нее с изумлением. Какой тонкий слух у этой девушки! И внезапно он понял, что все ей откроет, ей одной он все откроет. Она будет единственным человеком, который все узнает; узнает, что завтра он умрет; завтра рано утром, за несколько минут до шести или через несколько минут после шести…
– Нет, это я просто так сказал… Какой город, – спросил он неожиданно, – какой город находится в сорока километрах за Львовом по дороге… по дороге в Черновицы?
Ее изумление еще возросло.
– Стрый, – сказала она.
Стрый? Какое странное название, думал Андреас, очевидно, на карте я его не приметил. О боже, только бы не забыть помолиться за евреев в Стрые. Надо надеяться, в Стрые еще остались евреи. Стрый. Так вот что, оказывается, меня ждет. Я умру около города Стрый… даже до Станислава я не доберусь, даже до Коломыи, а уже о Черновицах и говорить нечего. Стрый! Вот как. А может, Стрый и вовсе не обозначен на карте, которую дал мне Вилли…
– В феврале тебе исполнится двадцать четыре, – сказала Олина. – Чудеса! И мне тоже.
Он посмотрел на нее. Она улыбалась.
– И мне тоже, – повторила она, – я родилась двенадцатого февраля тысяча девятьсот двадцатого года.
Они долго смотрели друг другу в глаза и никак не могли отвести взгляда, а потом Олина подвинулась к нему, но расстояние между креслами было чересчур велико, и она встала, подошла к Андреасу, протянула руки, чтобы обнять его, но он отклонился.
– Не надо, – сказал он тихо, – не надо, только не сердись, пожалуйста, потом… я тебе объясню… Я родился пятнадцатого февраля.
Она опять закурила, хорошо, что она не обиделась. Улыбнулась. Наверное, подумала: он нанял эту комнату на всю ночь и меня тоже. А теперь только шесть часов, даже нет шести…
– Ты ведь хотела мне рассказать, – напомнил Андреас.
– Да, – сказала она, – мы с тобой ровесники, это хорошо. Я старше тебя на три дня. Но я могла бы быть твоей сестрой. – Олина засмеялась. – А может, я все равно твоя сестра.
– Рассказывай, прошу тебя.
– Ладно, расскажу. Ладно. Я училась в Варшаве в консерватории. Ты ведь хотел знать, где я училась музыке? Не так ли?
– Да.
– Ты был в Варшаве?
– Нет.
– Хорошо. Ну вот. Варшава – большой, красивый город, и здание консерватории примерно такое же, как это. Только сад у нас был больше, куда больше. На переменах мы прогуливались по этому красивому большому саду и флиртовали. Я считалась очень способной. Училась по классу рояля. На вступительном экзамене я должна была исполнить совсем маленькую простую сонату Бетховена. Опасная штука! Простые маленькие вещицы можно очень легко «смазать» или сыграть слишком патетически. Маленькие вещицы исполнять чрезвычайно трудно. Это был Бетховен, понимаешь, Бетховен, но очень ранний, почти классицизм, еще почти как Гайдн. Очень коварная вещица для вступительного экзамена. Понятно?
– Да, – сказал Андреас, он почувствовал, что вот-вот заплачет.
– Ну ладно, я выдержала экзамен на «очень хорошо». И училась в консерватории до… Ну да… до того, как началась война. Ясно, до осени тридцать девятого, два года; в эти два года я много занималась и имела много поклонников. Я любила целоваться и флиртовать. Понимаешь? И я уже очень недурно играла Листа… и Чайковского тоже… Но Баха я так и не научилась играть как следует. Я еще только мечтала играть как следует Баха. Зато Шопена я тоже играла недурно. Ну вот. А потом началась война… О боже, за консерваторией был сад, такой чудесный сад, и там стояли скамейки и беседки; иногда в саду устраивались праздники: мы музицировали и танцевали… Один раз у нас был моцартовский праздник. Моцарта я уже играла прилично. Ну, а потом началась война!
Внезапно она оборвала свой рассказ. Андреас вопросительно посмотрел на нее, она ответила ему сердитым взглядом. Волосы над ее фрагонаровским лбом непокорно топорщились.
– Боже мой, – сказала она со злобой, – делай со мной то же, что делают другие. Нечего попусту болтать языком!
– Нет, – сказал Андреас, – рассказывай. Прошу тебя.
– За это тебе не заплатить никакими деньгами, – сказала она, нахмурив лоб.
– Почему? Я заплачу той же монетой, – возразил он. – Буду тебе рассказывать…
Но она молчала. Упершись взглядом в пол, она молчала. Он искоса взглянул на нее и подумал: а все же по ней заметно, что она шлюха. Из этого кукольного личика, из каждой его поры проглядывает чувственность. Нет, она не невинная пастушка, она очень даже развращенная пастушка. Как больно убедиться, что она все же шлюха. Розовые сны! Она вполне могла бы стоять где-нибудь на вокзале Монпарнас. И хорошо, что боль опять появилась. На некоторое время она совсем стихла. Приятно было слушать ее мягкий голос, когда она рассказывала о консерватории…
– Скучища! – сказала она вдруг совершенно безразличным тоном.
– Давай выпьем вина, – предложил Андрвас. Олина встала, деловой походкой направилась к шкафу
и тем же равнодушным тоном осведомилась:
– Что ты хочешь пить? – Заглянув в шкаф, она прибавила: – Здесь есть белое и красное. По-моему, есть мозельвейн.
– Хорошо, – ответил он, – давай пить мозель. Олина принесла бутылку, пододвинула маленький
столик, протянула Андреасу штопор; пока он откупоривал бутылку, она ставила рюмки. Взглянув на нее, он разлил вино, они чокнулись, и он улыбнулся, не обращая внимания на ее сердитое лицо.
– Давай выпьем за наш год рождения, – сказал он, – за тысяча девятьсот двадцатый.
Она невольно засмеялась.
– Согласна, но я все равно не буду больше рассказывать.
– Хочешь, чтобы я рассказывал?
– Нет, – ответила она, – все вы только о войне и говорите. Боевые эпизоды. Я слышу их целых два года. Стоит вам вернуться оттуда, и вы… начинаете рассказывать боевые эпизоды. Скучища.
– Чего же ты хочешь?
– Я хочу тебя совратить. Ты ведь невинен. Я угадала?
– Да, – сказал Андреас и испугался: так внезапно она вскочила.
– Так и знала, – крикнула она, – так и знала!
Лицо у нее было взволнованное, красное, глаза блестели; а он смотрел на нее и думал: странная история, из всех женщин, которых я когда-либо видел, я меньше всего вожделею к ней, хотя она такая красивая и такая доступная. Часто помимо воли меня пронзала мысль: какое счастье было бы обладать женщиной! Но из всех женщин я меньше всего вожделею к ней. Зато я могу рассказать ей все, решительно все…
– Олина, – начал он и показал на рояль. – Олина, сыграй мне ту маленькую сонату Бетховена.
– Тогда обещай, что ты меня, что ты меня… будешь любить.
– Оставь, – сказал он спокойно, – садись сюда. – Он посадил ее в кресло, и она безмолвно посмотрела на него.
– Слушай, – начал он, – теперь моя очередь рассказывать.
Но тут он взглянул в окно: солнце уже закатилось, только над дальними садами еще стояло сияние; пройдет совсем немного времени, исчезнет и это сияние над садами: солнце уже никогда, никогда не взойдет, он не увидит больше ни единого солнечного луча… Наступает последняя ночь, последний день уже прошел, так же, как и все остальные, бесполезно, бесцельно. Он молился совсем немного, пил вино, а теперь вот сидит в публичном доме…
Он ждал, когда окончательно стемнеет. Не знал, сколько длилось их молчание; забыл о девушке, забыл о вине, об этом доме. Не отрываясь, он смотрел на купы деревьев там, далеко у горизонта: их верхушки еще золотили последние солнечные лучи, самые последние лучи солнца, которое опускалось все ниже и ниже. Вот уже на верхушках остались только красноватые блики, такие изумительные, такие несказанно прекрасные. Остался крохотный солнечный нимб, последний отблеск; больше он уже ничего не увидит… все исчезло… Нет еще… На самом высоком дереве еще что-то брезжит, еле заметно брезжит; это дерево поднялось выше всех остальных и поймало несколько солнечных брызг, всего несколько брызг солнца, которое через полсекунды скроется навсегда… и тогда уже ничего не будет. Свет все еще виден, думал он, прерывисто дыша, свет все еще виден на верхушке того дерева… до смешного маленький солнечный пунктир, и я единственный человек на земле, который следит за ним… Свет все еще виден… все еще. Как будто улыбка, которая медленно сползает с лица… все еще… Конец! Свет исчез, фонарь потух, никогда больше я не увижу солнца…
– Олина, – начал он тихо и почувствовал, что настала минута, когда он в силах все рассказать и что теперь он одержит над ней победу. Ведь победить женщину можно только в темноте. Странно, думал он, неужели это правда? Ему казалось, что Олина принадлежит ему, что она в его власти.
– Олина, – продолжал он вполголоса. – Завтра утром я умру. Да, – он не сводил глаз с ее встревоженного лица. – Только не пугайся! Завтра утром я умру. Ты первый и единственный человек, которому я открылся. Да, я умру, это точно. Уже зашло солнце. Я умру, не доехав до города Стрыя.
Олина вскочила, она была бледна, с ужасом уставилась на него.
– Сумасшедший, – пробормотала она.
– Нет, – ответил он. – Какой я сумасшедший! Все так и будет, поверь мне. Поверь, что я не сумасшедший, что завтра утром я умру и что ты должна сыграть мне сейчас ту маленькую сонату Бетховена.
Она все еще пристально смотрела на него и в страхе бормотала:
– Что ты болтаешь… ведь так не бывает.
– Но я знаю это совершенно точно. А окончательно уверился, когда ты произнесла слово «Стрый». Именно Стрый. Какое ужасное название. Что это за название – Стрый? И почему я считал раньше, что это случится между Львовом и Черновицами… А потом считал – около Коломыи… Потом – около Станислава… а сейчас думаю: у города Стрыя. Ты сказала «Стрый», и я сразу понял, что так оно и будет. Подожди… – крикнул он, увидев, что она метнулась к двери и устремила на него полный ужаса взгляд, – ты должна остаться со мной, должна остаться, – повторял он. – Одному такое не вынести. Останься со мной, Олина. Я не сумасшедший. Не кричи, – он закрыл ей рот рукой. – О боже, как доказать тебе, что я не сумасшедший? Как доказать? Скажи, что мне сделать, как доказать тебе, что я не сумасшедший?
Но от страха Олина его не слышит. Она смотрит на него широко открытыми испуганными глазами. И тут внезапно он понял, каким чудовищным ремеслом она занимается. Ведь он и впрямь мог быть сумасшедшим, но ей все равно пришлось бы ублажать его; она все равно была бы в его власти. Ей приказали идти в эту комнату, ведь за нее внесено целых двести пятьдесят марок – эта девушка, Примадонна, очень дорогая игрушка… Ее посылают в комнату, как солдата на передовую. Ей приказывают идти, хотя ее кличка Примадонна, хотя она очень дорогая игрушка. Какая ужасная судьба! Ее посылают в комнату, и она даже приблизительно не знает, кто там: старик или юнец, урод или красавец, развратник или невинный мальчик. Она ничего не знает, ей просто приказывают идти в комнату. И вот она стоит передо мной, и ей страшно, очень страшно, так страшно, что она меня не слышит. Да, посещать публичные дома действительно грех, думал он. Ведь их посылают в комнату к любому… Он начал медленно гладить ее руку, которую раньше схватил, чтобы удержать перед дверью. И удивительное дело, страх в ее глазах постепенно исчезал: он все гладил и гладил ее руку, и у него было такое чувство, словно он гладит ребенка. Ни к одной женщине я не испытывал так мало вожделения, как к ней. Ребенок… И он вдруг вспомнил несчастную маленькую замухрышку на окраине Берлина в жалком подобии садика, окруженном бараками. Ребята бросили ее куклу в лужу и убежали. Андреас нагнулся и вытащил куклу, с нее ручьями текла грязная вода, это была дешевая, нескладная, потрепанная матерчатая кукла, но ему пришлось долго гладить девочку и уговаривать ее не плакать из-за того, что кукла вся вымокла… Ребенок…
– Ты ведь останешься? – спросил он. – Да?
Она кивнула, в глазах у нее стояли слезы. Он опять ласково подвел ее к креслу. Сумерки сгустились, стали печальными.
Олина послушно села, но продолжала боязливо следить за ним взглядом. Он налил ей вина. Она пригубила его. Тяжело вздохнула.
– Боже мой, как ты меня напугал, – сказала она и вдруг одним жадным глотком осушила рюмку.
– Олина, – сказал он, – тебе двадцать три года. Подумай, исполнится ли тебе двадцать пять? Понимаешь, – втолковывал он очень настойчиво, – попытайся представить себе: «Мне двадцать пять. Сейчас февраль тысяча девятьсот сорок пятого». Попытайся, Олина, сосредоточься.
Она закрыла глаза, Андреас увидел, как она зашевелила губами; шептала какие-то слова, какие-то польские слова, видимо: «Февраль тысяча девятьсот сорок пятого».
– Нет, – сказала она, словно просыпаясь, и покачала головой. – Нет… Пустота, как будто вообще ничего не существует… Странная штука.
– Видишь, – сказал он. – А когда я говорю себе: «Воскресенье утром», «понедельник утром», то ясно чувствую, что для меня это уже не существует. Вот как. Нет, я не сумасшедший.
Она снова закрыла глаза и что-то шепотом произнесла…
– Чудно, – сказала она тихо, – февраль тысяча девятьсот сорок четвертого года уже тоже не существует… – А потом вдруг перебила себя: – Господи, почему ты не хочешь пользоваться жизнью? Почему не хочешь потанцевать со мной? – Она подошла к роялю, села и ударила по клавишам. Она играла модный вальс «Я танцую с тобой, как на небе, на седьмом небе любви…»
Андреас улыбнулся.
– Сыграй ту сонату Бетховена… Сыграй…
Но она снова заиграла «Я танцую с тобой, как на небе, на седьмом небе любви…». Сейчас она играла тихо, совсем тихо, под стать сумеркам, которые тихо вползали через незанавешенное окно в комнату. Поразительно! Звуки были четкие и раздельные, как отточие. Она играла совсем тихо, и казалось, что этот рояль в публичном доме вдруг превратился в клавесин.
Клавесин, думал Андреас, вот самый подходящий музыкальный инструмент для нее, она должна играть на клавесине… Кажется, что она играет уже вовсе не эту модную дребедень и все же это тот самый вальс. Удивительно, думал Андреас, что она сделала из этого избитого вальса. Может, она училась композиции; ничтожную побрякушку она превратила в сонату, которая слилась с этими сумерками.
Время от времени как бы мимоходом она вкрапливала в свою игру мелодию вальса, и мелодия эта звучала чисто и ясно, без всякой сентиментальности: «Я танцую с тобой, как на небе, на седьмом небе любви». А порою эта музыкальная тема, подобно каменной скале, вырастала среди ласково набегавших волн.
Уже почти совсем стемнело, стало прохладно. Но Андреас этого не замечал. Как она играет… Нет, он ни за что не встанет закрыть окно, не встанет, даже если львовские сады скует тридцатиградусный мороз… Ни за что.
Быть может, все это мне только приснилось. Приснился этот тысяча девятьсот сорок третий военный год, эта унылая серая форма гитлеровской армии и этот львовский публичный дом. Какой дурной сон! Может быть, на самом деле я живу в семнадцатом или в восемнадцатом столетии, сижу сейчас в салоне с любимой, и она играет на клавесине для меня одного, играет все, что моей душе угодно, для меня одного… Этот дом – замок во Франции или на западе Германии, я внимаю звукам клавесина в салоне восемнадцатого столетия. Та, которую я люблю, играет на клавесине, играет для меня одного. Весь мир принадлежит мне в этот час, когда на землю опускаются сумерки… Пора зажигать свечи, но мы не станем звать слугу… не станем звать слугу… я зажгу свечи скрученной бумажкой, а скрученную бумажку подпалю своим военным билетом, сунув его в камин; нет, камин не горит, я сам разожгу камин; сырой и холодный воздух проникает сюда из сада, из нашего парка; я стану на колени перед камином, с любовью уложу дрова, скомкаю свой военный билет и подожгу его теми самыми спичками, которые она записала за мной. А деньги за спички даст закладная, которую мы просаживаем во Львове. Я окажусь на коленях и перед ней, ведь она подойдет к камину и с милой гримаской нетерпения будет ждать, когда займется огонь. Ноги у нее закоченели, пока она играла на клавесине, долго-долго сидела она при открытом окне в холоде и сырости и играла для меня одного, сестра моя. Она так прекрасно играла, что мне не хотелось вставать, чтобы закрыть окно… Ничего, я разведу отличный жаркий огонь; слуга нам не нужен, слуга нам не нужен! Как хорошо, что дверь заперта на ключ…
Тысяча девятьсот сорок третий год. Страшный век! Какие мерзкие одежды будут носить в этот век мужчины: они будут прославлять войну и носить в годы войны одежды цвета грязи, а мы, мы даже не думали прославлять войну, для нас это было просто честное ремесло, не больше; ремесло, при котором человек иногда терял больше, чем получал. И, занимаясь этим ремеслом, мы носили яркие одежды, как лекарь, как бургомистр, как… как проститутка, а те люди, люди двадцатого века, будут носить отвратительные одежды, и прославлять войну, и воевать во славу отечества; мерзкое столетие… Тысяча девятьсот сорок третий год…
У нас впереди еще целая ночь, думал он. Только сейчас сад скрылся под покровом темноты; дверь заперта, нам ничто не может помешать; весь замок наш, все наше: и вино, и свечи, и клавесин. Восемь с половиной сотен, не считая спичек! В Никополе валяются под ногами миллионы! Никополь? Пустота… Кишинев? Пустота… Черновицы? Пустота… Коломыя? Пустота… Станислав? Пустота… Стрый… Стрый… Ужасное название, которое звучит как черта, как кровавая черта, которую проведут у меня на горле! В Стрые меня убьют. Каждая смерть – убийство. Каждая смерть в годы войны – убийство, за которое кто-то несет вину. Стрый! «Я танцую с тобой, как на небе, на седьмом небе любви».
Нет, то не был сон, который кончился с последним звуком музыкальной фразы, просто последний звук разорвал легкую паутину, окутавшую его; сейчас у открытого окна, от которого веяло холодом сумерек, он понял, что плакал, раньше он этого не замечал, не чувствовал. Но вот сейчас лицо у него мокрое, и Олина своими мягкими, очень маленькими руками смахивает с него слезы; ручейки слез бегут у него по щекам, стекают к закрытому вороту кителя; Олина расстегнула крючок и платком вытерла ему шею. Приложила платок к его щекам, к глазам. Хорошо, что она не говорит ни слова…
Ни с того ни с сего на него напала непонятная веселость. Олина включила свет и, отвернув лицо, закрыла окно; возможно, она тоже плакала. Такой ничем не омраченной радости я еще никогда не испытывал, думал он, наблюдая за тем, как она шла к шкафу. Я постоянно испытывал вожделение, вожделение к безыменному женскому телу, вожделение к женской душе; но на сей раз мне ничего не надо… Странно, что все это я понял только во львовском публичном доме, в последний вечер моей жизни, на пороге последней ночи моей земной жизни, под которой завтра рано утром в Стрые будет подведена кровавая черта…
– Приляг, – предложила Олина и показала на кушетку. В таинственном шкафу нашелся и маленький электрический кипятильник, который она включила. – Я сварю кофе, – сказала она, – и буду тебе рассказывать…
Андреас лег, она села рядом с ним. Они закурили, пепельницу она для удобства поставила на низкий столик: теперь каждый из них без труда мог достать ее – надо было только протянуть руку.
– Конечно, ты и сам понимаешь, – начала она вполголоса, – то, что я тебе расскажу, не для чужих ушей. Даже если ты… даже если ты не умрешь, то ни в коем случае не должен разглашать тайну. Уверена, что ты будешь нем как могила. Мне пришлось клясться богом и всеми святыми, клясться счастьем родины, что я никому ничего не расскажу. Но ты не в счет, это все равно, что рассказать самой себе. От тебя я не могу иметь секретов, ведь невозможно иметь секреты от себя самой.
Олина встала, очень медленно и осторожно начала лить кипящую воду в маленький кофейник. Прерываясь на секунду, она улыбалась ему; и теперь он понял, что и она тоже плакала.
Она наполнила чашки, которые стояли на столике рядом с пепельницей.
– Ну вот, в тридцать девятом началась война. И родители мои погибли под развалинами нашего большого дома. Я осталась одна в Варшаве, гуляла по саду консерватории, где так веселилась раньше. А потом нашего директора посадили в концлагерь – он был еврей. Ну, а я… у меня просто пропала охота учиться музыке. Немцы над всеми нами надругались, над всеми, без исключения.
Она сделала глоток, и он тоже взял чашку. Она опять улыбнулась ему.
– Удивительно, что ты немец и что, несмотря на это, я тебя не ненавижу.
Она замолчала и снова улыбнулась, а он подумал, как быстро ему удалось одержать над ней победу. Когда она подходила к роялю, ей хотелось меня совратить. И когда она в первый раз заиграла: «Я танцую с тобой, как на небе, на седьмом небе любви», все еще было так неясно. Но потом, сидя у рояля, она заплакала…
– Вся Польша, – продолжала Олина, – охвачена сопротивлением. Вы ничего не знаете. Никто не знает истинного размаха движения. Не уверена, есть ли вообще сейчас в Польше люди, которые стоят в стороне. Когда кто-нибудь из вас продает револьвер, скажем, в Варшаве или в Кракове, это значит, что он продал жизнь своих соотечественников, стольких, сколько патронов в магазине его револьвера. И если ваш генерал или какой-нибудь там ефрейтор, – продолжала она с жаром, – спит с полькой и проболтался ей, что под Киевом, или Лубковицами, или еще где-то его часть не получила положенного довольствия или что она отошла на три километра, всего на три километра, то все это сразу берется на заметку; где вам догадаться, что сердце польки, которая отдалась с такой кажущейся легкостью и покорностью, радостно бьется совсем не от того, что она получила двадцать пять или двести пятьдесят злотых… Совсем не оттого. Все, что я тебе говорю, правда, но вы ни о чем не подозреваете. Быть среди вас шпионкой – легче легкого. Так легко, что мне это стало противно. Не зевай – и только. Удивительное дело! – Олина покачала головой и взглянула на него почти с презрением. – Удивительное дело! Вы, немцы, самый болтливый народ на свете и вдобавок еще самый сентиментальный… В какой ты армии? Он назвал номер своей армии.
– Нет, – сказала она, – он из другой армии. Я говорю о генерале, который часто посещает меня. Его трепотня ничем не отличается от трепотни какого-нибудь гимназистика, который выпил лишнее. «Мои ребятки! – хнычех он. – Бедные мои солдатики!» А чуть попозже, в припадке страсти, выбалтывает самые важные секреты. На его совести тьма «бедных ребяток»… Да, он много чего порассказал. А я… я… – продолжала она, запинаясь, – я с ним вообще не чувствую себя женщиной.
– Но некоторых ты все же любила? – спросил Андреас и подумал: как странно, мне больно от мысли, что некоторых она все же любила.
– Да, – сказала Олина, – некоторых я действительно любила, но очень немногих. – Она взглянула на него, и он увидел, что она опять заплакала.
Он взял ее за руку, встал и налил себе кофе.
– Некоторых солдат, – сказала она вполголоса, – некоторых простых солдат я любила. Да… И мне было в высшей степени безразлично, что они немцы, хотя всех немцев я, собственно, должна ненавидеть. И знаешь, когда я дарила им свою любовь, я чувство-юла себя совершенно выключенной из игры, в которой все у нас сейчас так или иначе участвуют, а я даже больше других. Игра это вот какая – посылать на смерть людей, о которых ты не имеешь понятия. Например, – прошептала она, – например, какой-нибудь гость – обер-ефрейтор или генерал – сообщил мне что-то, и я передала его сообщение дальше; и вот уже целый механизм пришел в движение и где-то далеко погибли люди, потому что я передала его информацию по инстанции. Понятно? Представь себе, к примеру, что ты говоришь первому встречному на вокзале: «Поезжай, браток, этим поездом, этим, а не тем», и как раз на этот поезд нападут; «браток» погибнет, потому что ты сказал ему: «Поезжай этим поездом…» Было так чудесно дарить свою любовь без всяких задних мыслей. Просто отдаваться. Я ничего у них не выведывала для нашей мозаики и ничего им не говорила, я просто любила их. Как ужасно, что потом они всегда были печальны…
– Мозаика? – хрипло спросил Андреас. – Что это значит?
– Вся система шпионажа – мозаика. Сведения собираются в одно место, нумеруются; каждый, даже самый маленький, клочок информации, который нам удается добыть, идет в дело. Так создается целостная картина… очень кропотливая работа… из незначительных фактов создается целостная картина… мозаика… картина вашей жизни… вашей войны… вашей армии. Понимаешь? – спросила она и посмотрела на него очень серьезно. – Но весь ужас в том, что иногда мне кажется это бессмысленным. Убивают всегда только невинных. Всегда. Даже мы. Я давно об этом догадывалась, – она отвела взгляд от Андреаса, – но знаешь, по-настоящему поняла это лишь в ту минуту, как вошла сюда в комнату и увидела тебя. Твою спину и твой затылок в лучах солнца, – она показала на окно, у которого стояли два кресла. – Я помню слово в слово, что мне сказала старуха, посылая к тебе: «В гостиной ждет один молодчик, мне кажется, из него много не вытянешь, но зато он хорошо заплатит». Когда она это сказала, я подумала: ничего, что-нибудь я из него все же вытяну, а может, он из тех, кого я смогу полюбить, и он не станет моей жертвой. Ведь существуют только жертвы и палачи. А потом я увидела тебя, увидела, как ты стоишь у окна, увидела твою спину, твой затылок, всю твою молодую фигуру, понурую, словно тебе уже много тысяч лет; и лишь тут я осознала, что и мы тоже убиваем одних только невинных… одних невинных…
Она плакала до жути беззвучно. Андреас ветел и пошел к роялю, проходя мимо нее, он погладил ее по затылку. Она с изумлением поглядела ему вслед. Слезы у нее моментально высохли. Теперь она смотрела на него не отрываясь: он сидел на табуретке у рояля, вперив глаза в клавиши, боязливо расправляя пальцы, на лбу у него появилась глубокая поперечная морщина, страдальческая морщина.
Обо мне он забыл, думала Олина, забыл обо мне, самое обидное, что они о нас забывают, когда становятся самими собой. Обо мне он больше не думает, никогда больше не подумает. Завтра утром… в Стрые он умрет, даже не вспомнив обо мне.
А ведь он моя первая и единственная любовь. Первая. Теперь он совсем один, невыразимо печален и совсем один. Морщина рассекла его лоб на две части, лицо его побледнело, он развел пальцы, словно хочет дотронуться до какого-то опасного зверя… Ах, если бы он смог что-нибудь сыграть, хоть что-нибудь, тогда он снова был бы со мной. Первое же созвучие вернет его ко мне. Ведь он мой, мой, мой… Мы близнецы, я всего на три дня старше его. Если бы он только мог что-нибудь сыграть. Все его тело свела судорога, он так мучительно развел пальцы, побелел как смерть, он так безмерно несчастен. И в памяти у него не осталось ничего, что мне хотелось ему внушить, играя на рояле… а потом рассказывая о себе; ничего не осталось – все исчезло, кроме привычной боли.
Она оказалась права: когда внезапно с выражением злобы и отчаяния он ударил по клавишам, то сразу же поднял голову, самый первый его взгляд предназначался ей. А потом он улыбнулся. Никогда в жизни она не видела такого счастливого лица, как у него, у этого юноши у рояля, освещенного неярким, желтоватым светом лампы.
Боже, как я его люблю, думала она, он сейчас такой счастливый, и он мой, и мы будем с ним в этой комнате до утра.
Она думала, он сыграет что-нибудь шумное, бурное, что-нибудь искрящееся, блестящее – из Чайковского, Листа или Шопена, ведь он как безумный ударил по клавишам.
Но он играл сонатину Бетховена. Нежную, простую, очень коварную для исполнителя музыкальную пьесу, и на секунду она испугалась, что он ее «смажет». Но он играл очень хорошо, очень осторожно, пожалуй, даже слишком осторожно, как бы не доверяя своему умению. И очень любовно. Никогда в жизни она не видела такого счастливого лица, как лицо этого солдата, отражавшееся в зеркальной крышке рояля. Он исполнял сонатину немного неуверенно, но очень чисто, она никогда не слышала, чтобы ее играли так чисто и проникновенно, он играл очень четко и безупречно ясно.
Она надеялась, что он будет играть еще. На душе у нее стало легко: она лежала теперь на кушетке, где только что лежал он; в пепельнице дымилась сигарета, ей очень хотелось затянуться, но она не решалась взять сигарету – малейший шорох мог его спугнуть… Прекрасней всего было его лицо, очень счастливое лицо, отражавшееся в черной блестящей крышке рояля…
– Да нет, – сказал он, смеясь, и встал, – что ж играть? Какой смысл? Надо было учиться вовремя, а я так и остался дилетантом… – Он наклонился над ней и отер ей слезы: как хорошо, что она плакала. – Лежи, – сказал он вполголоса, – не надо вставать. Я ведь тоже хотел рассказать тебе многое.
– Да, – прошептала она, – рассказывай и налей мне вина.
Как я счастлив, думал он, подходя к шкафу, бесконечно счастлив, хоть и убедился, что музыканта из меня не вышло. Чудес не бывает. Я так и не стал пианистом. С этой мечтой давно пора распроститься, и все равно я счастлив.
Он заглянул в шкаф, а потом, повернув голову, спросил:
– Какое вино ты хочешь?
– Красное, – сказала она весело, – на этот раз красное.
Он вынул из шкафа пузатую бутылку, увидел лист бумаги и карандаш, поглядел в ее записи. Сверху было написано что-то по-польски, очевидно, «спички», потом по-немецки «мозель», а дальше шло польское слово, которое наверняка означало «бутылка». Какой у нее прелестный почерк, подумал он, красивый, тонкий почерк. Под словом «мозель» он нацарапал «бордо», а под словом «бутылка», написанным Олиной по-польски, поставил кавычки.
– Неужели ты и вправду записал? – смеясь, спросила она, когда он наливал вино.
– Конечно.
– Не можешь обмануть даже хозяйку публичного дома?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































