Читать книгу "Без догмата"
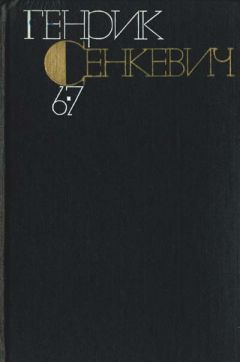
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
9 июня
Анельке не легче, чем мне. То, что я сегодня видел, убедило меня в этом. В душе ее идет тяжкая борьба, и силы для этой борьбы ей приходится черпать только в себе самой. Мысли мои путаются, никак не могу успокоиться.
После отъезда из Плошова Завиловского с дочкой, которые сегодня были у нас в гостях, тетя намеренно завела разговор о панне Елене и стала превозносить ее достоинства. Тут меня вдруг прорвало. Я был утомлен, не выспался, нервы у меня совсем развинтились. И, дав волю раздражению, я закричал:
– Ну, хорошо! Если вы непременно хотите, чтобы я женился, и вам безразлично, буду я счастлив или нет, так я хоть завтра могу сделать предложение панне Завиловской. В конце концов мне все равно!
Разумеется, было ясно, что говорю я это в раздражении и ни за что так не поступлю. Но лицо Анельки вдруг стало белее бумаги. Без всякой надобности встав с места, она принялась развязывать шнуры оконной шторы. Руки у нее дрожали, как в лихорадке. К счастью, тетя на нее не смотрела – она и сама была в таком замешательстве, в каком я ее никогда еще не видел. Не подию, что она мне ответила, – в эту минуту я видел одну только Анельку, все окружающее для меня перестало существовать.
Правда, я и до этого в мыслях приходил к выводу, что занял какое-то место в ее сердце, но одно дело – догадываться, другое – видеть. До своего смертного часа не забуду я этого побледневшего лица и дрожащих рук! Теперь у меня было неопровержимое доказательство. Ее волнение никак нельзя было объяснить только неожиданностью моей вспышки. Нет, внезапная весть не только о браке, но даже о смерти человека, ей безразличного, не заставила бы ее так побледнеть.
Несколько дней назад я еще говорил себе: «Если она и любит меня, что мне из того, раз любовь эта останется навсегда скрытой в ее сердце?» А вот сегодня, когда я воочию убедился, что любим, все мои надежды сразу воскресли, все сомнения рассеялись. Снова замаячила впереди победа, снова я почувствовал уверенность, что непременно наступит час, когда любовь Анельки станет сильнее ее, и тогда она будет моей.
Увы, я тотчас же убедился, что это только иллюзия. Когда тетушка, сказав еще что-то, вышла, – быть может, чтобы где-нибудь в уголке утереть слезы обиды, – я торопливо подошел к Анельке и сказал:
– Анельця, я за все сокровища мира не согласился бы жениться на панне Завиловской. Ты пойми меня и прости: мало ли у меня горя, а тут еще и тетушка со своими проектами. Ты лучше всех знаешь, что никогда этого не будет.
– Почему же?.. Я была бы рада, если бы ты женился, – выговорила она с усилием.
– Неправда! Я видел, как ты побледнела! Да, видел!
– Извини, я уйду…
– Но ты же любишь меня, моя Анелька! Не лги себе и мне: любишь.
У нее снова побелели губы.
– Нет, не люблю, – сказала она быстро. – И боюсь, что тебя возненавижу.
Она ушла к матери. Знаю, когда женщина борется со своей любовью, ей, должно быть, часто кажется то, о чем только что сказала мне Анелька, любовь ее, запретная и горькая, принимает именно такую окраску. И все-таки слова Анельки погасили мою радость, как ветер – свечу. В жизни много такого, чего, как бы ни было оно естественно, не в силах вынести нервы человеческие. Я сейчас как-то особенно остро осознал одну истину, которая и раньше была мне известна, которая известна всем: любовь к чужой жене, если это любовь только по имени, – мерзость, если же это любовь настоящая, она – великое несчастье, и тем большее, чем более эта женщина достойна любви. Меня мучает горькое любопытство – хочу знать, что было бы, если бы я сказал Анельке: «Либо ты сейчас же обнимешь меня и признаешься, что любишь, либо я на твоих глазах пущу себе пулю в лоб»? Знаю, это было бы подло, и никогда я не решусь на такой шантаж и насилие – ведь, как бы то ни было, я порядочный человек. Но не могу не гадать: что бы тогда сделала Анелька? И, право, я почти уверен, что она не сдалась бы и тогда, хотя, быть может, не пережила бы своего горя и своего презрения ко мне. Думая об этом, я ее и проклинать готов – и еще больше обожаю, ненавижу – и люблю, люблю еще сильнее. Да, надо прямо сказать, на меня обрушилось страшное несчастье. Самое худшее – то, что я не вижу спасения от него, нет у меня сил вырваться из его тисков. К порывам страсти, которую эта женщина всегда будила во мне, прибавилась теперь собачья привязанность. Глаза, мысли, все приковано к ней, я гляжу и не нагляжусь на ее волосы, губы, глаза, плечи. И чувствую, что она для меня уже не только самая желанная, но и самый дорогой человек на свете. Ни с одной женщиной не связывала меня такая двойная и нерушимая связь. Иногда ее влияние на меня кажется мне просто непостижимым, а иногда я себе его объясняю и – как всегда – самым невыгодным для себя образом.
Я жил быстро и прошел уже свой зенит. Теперь дорога моя идет вниз, в долину холода и мрака. Однако я чувствую, что в этой единственной женщине обрел бы снова свою молодость, и силу, и жажду жизни. Если Анелька для меня потеряна, значит, пропала жизнь и остается только прозябание, унылое, как предвкушение смерти. Потому я люблю Анельку не только сердцем, не только страстью мужчины, но и всей силой инстинкта самосохранения. В любви этой – мое спасение от страха небытия.
Анелька этого не знает. Но, думается, она меня очень жалеет: ведь вот и я, немилосердно ее мучая, душу бы отдал за то, чтобы ей было легче. И как же мне не говорить, что любовь к чужой жене – несчастье, если она доводит человека до того, например, что он вынужден терзать ту, за кого с радостью отдал бы жизнь. И на каждом шагу – тысячи таких заколдованных кругов! В конечном счете мы оба глубоко несчастны. Но у тебя, моя Анеля, есть какая-то опора в жизни, есть свой догмат, а я – как лодка без руля и ветрил.
Мне что-то нездоровится. Плохо сплю, вернее – совсем не сплю, да иначе и быть не может. А хотелось бы заболеть серьезно: пролежать бы этак с месяц без сознания, в беспамятстве, отдохнуть за все годы моей жизни. Это было бы для меня чем-то вроде каникул. Вчера Хвастовский-сын долго ко мне приглядывался, а потом ударился в философию. Сказал, что у меня нервная система уже отживающей породы людей, но вместе с тем я получил в наследство и большой запас физических сил. Пожалуй, он прав. Если бы не это, я не мог бы справиться со своими нервами. Кто знает – быть может, отчасти поэтому чувство мое к Анельке целиком поглотило всего меня? Силам моим нужно было какое-нибудь применение, нужен был выход, и, не найдя его ни в науке, ни в какой-либо деятельности, они устремились в одно русло: любовь к женщине. Но (тут опять-таки виноваты мои нервы) поток этот течет мутно и бурно, избрал кривой путь. Да, это главное – кривой путь!
Сколько волнений каждый день! Вечером ко мне пришла моя милая тетушка просить прощения за похвалы панне Завиловской. А я, покрывая ее руки поцелуями, в свою очередь извинялся за свою вспышку.
– Клянусь тебе, – говорила она, – я больше никогда и слова не скажу об этой девушке. Конечно, милый Леон, я всей душой хотела бы, чтобы ты женился, – ведь ты последний в роде. Но, видит бог, самое главное для меня – чтобы ты был счастлив, дорогой, любимый мой мальчик!
Я, как умел, успокоил ее и в заключение сказал:
– Вы же знаете, тетя, я до некоторой степени – баба, нервная баба!
Но тетушка немедленно возмутилась:
– Это ты-то баба? Заблуждаться каждый может. Но если бы у всех был твой ум и характер, на свете все шло бы иначе!
Ну, как рассеять подобные иллюзии? Иногда меня охватывает отчаяние, и я твержу себе: «Что мне делать здесь, в этом доме, среди женщин, позаимствовавших у ангелов все их добродетели?» Мне уже поздно переходить в их веру, а оставаясь самим собой, сколько я могу причинить им горя, разочарований и бед!
10 июня
Получил сегодня два письма: одно от моего поверенного в Риме, другое – от Снятынского. Из Рима мне сообщают, что препятствия со стороны итальянского правительства, которое обычно противится вывозу памятников старины и ценных произведений искусства, можно будет устранить, вернее – обойти. Коллекции отца были его частной собственностью, государству никак не принадлежат, и их можно переслать за границу просто как мебель.
Надо будет сейчас же заняться переделками в моем варшавском доме, приспособить его под музей. Я с неудовольствием думаю об этом, так как затея перевезти в Польшу коллекции больше ничуть меня не увлекает. На что это мне теперь? Я не откажусь от своего намерения только потому, что сам же о нем говорил повсюду и о нем так много уже писали в газетах.
Состояние души у меня сейчас такое же мучительное, как во время моих странствий после свадьбы Анели. Как и тогда, я все делаю, вижу и воспринимаю с единственной мыслью об Анеле, и стал совершенно нечувствителен к непосредственным впечатлениям. Мысли, на дне которых я не нахожу ее, кажутся мне совершенно пустыми и лишенными всякого значения. Вот яркая иллюстрация того, как человек может потерять себя. Сегодня утром я читал статью Бунге «Витализм и механистическая теория». Читал с огромным интересом: автор научно обосновывает то, что давно уже бродило в моей голове скорее в виде смутных догадок, чем четких идей. В этой статье наука сознается в недоверии к самой себе и подтверждает не только свое бессилие, но и позитивное существование какого-то мира, который есть нечто большее, чем материя и движение, – познать этот мир не помогает ни физика, ни химия. А мне уже все равно, будет ли этот мир надстройкой над материей, или подчинен ей. Поистине игра словами! Я не ученый, не обязан быть осторожным в своих выводах – и очертя голову кидаюсь в открытую дверь. Пусть себе наука сто раз твердит, что за дверью этой мрак, а я предчувствую, что мне там все будет виднее, чем по эту сторону. Я читал статью Бунге с жадностью, с чувством громадного облегчения. Только закоснелые глупцы не создают, как материализм нас гнетет и нагоняет тоску смертную, только они не боятся, как бы учение это случайно не оказалось истинным, не ждут новой эволюции науки и не радуются, как узники, когда открывается любая калитка, через которую можно вырваться на свежий воздух. Все дело в том, что дух наш уже порядком пришиблен, и мы не смеем ни свободно вздохнуть, ни поверить в свое счастье: Ну, а я смею, и читал я эту статью с таким чувством, словно вышел на волю из душного подвала. Быть может, и это только мимолетное впечатление. Я же понимаю, что неовитализм не делает эпохи в науке, и, может, я завтра добровольно вернусь в свою тюрьму. Не знаю! Но пока мне было хорошо. Я каждую минуту говорил себе: «Если это так, если даже путем скептицизма приходишь к твердой уверенности, что существует мир сверхчувственный, который „смеется над всякими механистическими теориями“ и лежит абсолютно вне сферы „физико-химических открытий“, то все возможно: всякая вера, всякий догмат, всякого рода мистицизм! А значит, можно думать, что существует не только бесконечное пространство, но и бесконечный разум, бесконечная благодать. Можно надеяться, что какая-то необъятная сутана укрывает вселенную, и под ней, под этой сутаной, можно найти прибежище, и есть над нами чья-то опека, под которой отдохнут измученные. А если так, то я знаю, по крайней мере, для чего живу и страдаю. Какое безмерное утешение!
Повторяю: я не обязан быть осторожным и робким в своих выводах, и я уже писал, что скептик ближе к мистицизму, чем кто бы то ни было. Это я проверил теперь на самом себе: я похож на долго просидевшую в клетке и выпущенную на волю птицу, которая носится повсюду, блаженствует, купаясь в пространстве. Я видел новые сферы, в которых рождалась новая жизнь. Не знаю, было ли это на какой-то другой планете или где-то в межпланетном пространстве, но эта жизнь, эти места были совсем иные, чем у нас. Там снял мягкий свет, в воздухе ощущалась чудесная прохлада, а главное – там связь между душой человека и душой всеобщей гораздо ближе, чем у нас, так близка, что невозможно различить, где кончается личное и начинается общее. При этом я понимал, что именно на неопределенности этой границы основано счастье жизни в том мире. Ибо там человек не выключается из своего окружения, не противопоставляет себя ему, а живет в полной гармонии с ним и, следовательно, во всю мощь общей жизни.
То не были видения. Нет, я только перешел черту, за которой кончается четкая работа мысли и начинаются чувства и ощущения. Эти чувства оставались еще некоторым образом выводами из прежних предпосылок, но они зашли уже так далеко, что стали почти неуловимыми, как золотая нить, которую вытягиваешь до бесконечности. Я не был еще способен ни целиком перевоплотиться в человека этих новых сфер, ни как следует раствориться в новой жизни и отказаться от самого себя. В какой-то степени я сохранял свою обособленность, чего-то мне не хватало, я, казалось, искал чего-то вокруг себя. И вдруг понял: ищу Анельку. Да, конечно, только ее, всегда ее! Без нее мне эта иная жизнь ни к чему. В конце концов я ее нашел, и мы стали блуждать с ней вместе, как тени Паоло и Франчески да Римини…
Зачем я пишу об этом? Да затем, что я вижу здесь устрашающее доказательство того, до какой степени всего меня поглотила любовь к этой женщине. Что за черт! Что общего между Бунге с его неовитализмом и Анелей? Тем не менее я даже тогда, когда размышляю об отвлеченных вещах, в конце концов прихожу к мыслям о ней. Науку, искусство, природу, жизнь – все я привожу теперь к этому одному знаменателю. Анелька для меня – ось, вокруг которой вращается мир.
Поэтому совершенно невероятно, чтобы я когда-нибудь внял голосу рассудка, который время от времени еще твердит мне слабо, приглушенно: «Уезжай! Беги!»
Знаю, добром это не кончится, не может кончиться. Но откуда я возьму силы, волю, энергию, если все это у меня отнято? С таким же успехом я мог бы приказать безногому: «Встань и иди!» На чем? И еще скажу: куда? зачем? Здесь – жизнь моя!
Порой хочется дать Анельке прочесть мой дневник. Но я этого не сделаю. Прочтя его, она, быть может, стала бы еще больше жалеть меня, но, несомненно, меньше любить. Если бы Анелька была моей, она искала бы во мне опоры, душевного успокоения и непоколебимой веры, веры за двоих в то, что мы поступили, как должно, поступили хорошо. Но она нашла бы во мне сомнения даже и в этом. Думаю, что если бы даже она умом поняла все, что я пережил и что во мне творится, многое она не способна почувствовать: мы с ней такие разные люди! Я, например, даже тогда, когда впадаю в мистицизм и твержу себе, что все возможно, представляю себе жизнь за гробом не так, как принято, а значит – ненормально (если эти общепринятые верования можно считать нормальными). Но почему? Если все возможно, то и ад, и чистилище, и рай так же возможны, как светлое царство, созданное моим воображением. Притом видения Данте величественнее и внушительнее моих. Так почему же? По двум причинам. Во-первых, мой скептицизм, отравляясь порожденными им сомнениями, как скорпион – собственным ядом, все же способен еще извлекать из разнородных предположений идеи простые и общепринятые. А во-вторых… Во вторых, я не могу вообразить себя в этой дантовской обители вдвоем с Анелькой. А без нее я не хочу такого загробного существования…
Все то, что я пишу и думаю, занимает только какую-то частицу моего мозга. Остальное полно Анелькой. Я еще вижу в эту минуту свет, падающий из ее окна на кусты барбариса внизу. Бедная моя девочка тоже не спит по ночам! Я видел сегодня, как она задремала над своим рукодельем. В большом кресле она казалась еще более миниатюрной и глубоко вздыхала от усталости. А я смотрел на нее с таким чувством, с каким отец смотрит на своего ребенка.
11 июня
Мне наконец прислали голову Мадонны Сассоферрато. Я отдал ее Анельке в присутствии тети и пани Целины, сказав, что это ее собственность, завещанная ей моим отцом, так что она никак не могла не принять ее. Потом сам повесил картину в ее будуаре. Она очень хороша. Я не в восторге от Мадонн Сассоферрато, но у этой такое простое, ясное лицо и так хороши светлые тона картины. Мне отрадно думать, что Анелька всякий раз, как на нее взглянет, невольно вспомнит, что это я подарил ей образ святой Мадонны и что он дар любви. Таким образом, любовь моя, которую она считает грешной, в мыслях ее теперь будет сочетаться с воспоминанием о святыне. Детское утешение! Но когда нет другого, хорошо и это.
Сегодня я пережил радостную минуту. Когда я повесил картину, Анелька подошла ко мне, желая меня поблагодарить. Так как пани Целина сидела довольно далеко, я осмелился задержать руку Анельки в своей и спросил вполголоса:
– Анелька, неужто ты и в самом деле меня ненавидишь?
Она как-то грустно покачала головой:
– О нет!
И сколько содержания было в этом коротком ответе!
Я писал, что если чувствам любимой женщины ко мне не суждено никогда проявиться, то мне все равно, любит она меня или нет. Но это одни слова. Нет, совсем мне не все равно! Пусть я владею хоть этим ее даром! Я не отдал бы его ни за что на свете. Иначе мне нечем было бы жить.
12 июня
Я – в Варшаве: третьего дня получил от Снятынского письмо, в котором он звал меня на прощальный обед по случаю отъезда Клары. На обед я не поехал, а с Кларой простился сегодня на вокзале и сейчас только вернулся оттуда. Эта славная девушка уезжала, несомненно, обиженная на меня и разочарованная, но, увидев меня, все мне простила, и прощание было трогательное. Я тоже чувствовал, что мне будет недоставать Клары и пустота вокруг станет еще ощутимее. В моих мистических сферах не будет прощаний! Сегодня на вокзале мне стало очень грустно. Вечер к тому же был пасмурный и дождливый, дождь зарядил, наверное, на несколько дней. Он не помешал, однако, множеству людей прийти провожать Клару. Ее купе было так завалено венками и цветами, что напоминало погребальную колесницу. Придется ей все это выбросить, чтобы не задохнуться. Последние минуты Клара (насколько было возможно в такой обстановке) посвятила мне одному, не считаясь с тем, что подумают люди. Я вошел к ней в купе, мы разговаривали, как близкие друзья, не обращая внимания на сидевшую тут же и, как всегда, безмолвную старую родственницу Клары и на провожающих, которые в конце концов один за другим деликатно удалились в коридор.
Я держал обе руки Клары, а она смотрела на меня своими честными голубыми глазами и взволнованно говорила:
– Вам одному я скажу откровенно, что ниоткуда мне не было так жаль уезжать, как из Варшавы… Из-за этой суматохи перед отъездом не осталось даже времени высказать то, что у меня на душе… Но мне так грустно! Во Франкфурте я встречаюсь со многими образованными людьми и с артистами, но все-таки… сама не знаю… есть какая-то разница между ними и здешними людьми. Вы, поляки, – как бы более чуткие инструменты. А уж о вас лично нечего и говорить!
– Вы позволите писать вам?
– Да, я как раз хотела вас просить об этом. И я тоже буду вам писать. Хотя у меня есть музыка, но мне иногда уже ее одной недостаточно. Может, и вам когда-нибудь захочется поговорить со мною хотя бы в письмах. У вас много друзей, но, наверно, ни одного такого преданного, как я, и так горячо желающего вам добра… Ох, я такая глупая, все меня волнует, а тут сейчас уже поезд отойдет…
– Мы ведь оба постоянно кочуем по белу свету, Клара: вы – артистка, а я – цыган. Так что можем сказать друг другу не «прощай», а «до свиданья».
– Да, до свиданья! До самого скорого свиданья! Вы тоже артист. Можно не играть, не писать, не рисовать – и все же душой быть артистом. Я это поняла с первой минуты знакомства с вами. И еще другое поняла: что вы как будто и счастливый человек, а на сердце у вас, быть может, очень тяжело. Так не забывайте, что есть на свете одна немка, которая любит вас, как сестра.
Я поцеловал ей руку, а она, думая, что я уже с ней прощаюсь, сказала торопливо:
– Еще есть время. Был только второй звонок.
Мне, по правде говоря, уже хотелось уйти. До чего же у меня развинтились нервы! На родственнице Клары был прорезиненный дождевой плащ, который нестерпимо шуршал при каждом ее движении, и это шуршание – вернее, свист резины – доводило меня просто до исступления. Кроме того, до отхода поезда оставалось уже только две-три минуты. Наконец в купе вбежала Снятынская, и я вышел на перрон.
– Пишите по адресу «Франкфурт, Хильсту», – крикнула мне вдогонку Клара. – А из дому мне письмо перешлют, где бы я ни была.
И вот я стою уже на перроне под окном ее вагона, а вокруг провожающие что-то кричат, прощаясь с Кларой, и с этим гомоном сливается шипенье пара, шумное пыхтенье локомотива, выкрики поездной бригады. Вдруг окно купе опустилось, и я еще раз увидел милое лицо Клары.
– Где вы проведете лето? – спросила она.
– Не знаю еще. Я вам напишу.
Тут локомотив запыхтел еще громче, послышался свисток, и поезд тронулся. Мы прокричали последние приветствия, а Клара посылала нам воздушные поцелуи, пока поезд не скрылся в темноте.
– Вы очень будете тосковать? – спросила у меня вдруг Снятынская.
– Очень, – ответил я и, простясь с ней поклоном, ушел с вокзала.
У меня действительно было такое чувство, словно уехал человек, который чем-то мог мне помочь. Я был очень расстроен. Быть может, виноват был отчасти и этот унылый вечер, дождливый и такой туманный, что уличные фонари в густой мгле издали походили на радужные круги. Последняя искорка надежды угасла во мне. Мой пессимизм, казалось, уже не оставался внутри, а, как воздух, обнимал весь окружающий мир, оседал на предметах и людях, проникал во все щели, пропитывал все и всех.
Я шел домой угнетенный, испытывая тяжкую тревогу, непонятное беспокойство, словно предчувствие какой-то неведомой опасности. В душе проснулась на минуту безумная тоска по солнцу и ясному небу, по тем краям, где не бывает таких дождей, мрака и туманов. Казалось, если я умчусь туда, где так светло, то самый свет там будет мне защитой, не допустит до меня чего-то страшного. Все мои мысли сосредоточились на одном слове, которое я твердил, как эхо: «Уехать! Уехать!» Но вдруг с ужасом вспомнил, что, уехав, оставлю здесь Анельку одну в жертву той неведомой опасности, от которой сам хочу бежать. Знаю, что это – моя фантазия, что ей было бы легче, если бы я уехал, но не могу отделаться от ощущения, что бежать было бы трусостью и подлостью с моей стороны… И это сильнее всех доводов рассудка. Да и вообще разговор об отъезде – только пустые слова. Я могу их сколько угодно повторять, верить в них, но если бы вздумал от них перейти к действиям, то оказалось бы, что из всех действий, какие в моих силах, отъезд – наименее возможное. Я вложил в эту любовь столько себя, она так крепко вросла в мою жизнь, что мне легче, кажется, дать растерзать себя на куски, чем от нее оторваться.
У меня настолько развиты способность контролировать свои мысли и самоанализ, что не верится, чтобы я мог сойти с ума. Никак я этого себе не представляю, а между тем по временам чувствую, что нервы мои уже натянуты до предела.
Жаль, что уехала Клара. Я редко виделся с ней в последнее время, но отрадно было знать, что она близко. Теперь Анелька завладеет мною всецело, ей будет принадлежать и та часть души, которую я отдавал спокойной привязанности и дружбе.
Вернувшись домой, я застал у себя молодого Хвастовского. Он приехал вечером, чтобы посоветоваться со своим братом-книгопродавцем: они здесь открывают магазин школьных учебников. Эти братья всегда что-нибудь затевают, вечно чем-то заняты, и потому жизнь их полна до краев. Я обрадовался Хвастовскому, как ребенок, который, боясь привидений, счастлив, когда кто-нибудь войдет в комнату. Вот до чего дошло! Душевное здоровье этого молодого человека действует на меня благотворно, бодрость его как будто передается и мне. Он сказал, что пани Целина заметно поправляется и через недельку сможет ехать в Гаштейн. Вот и прекрасно, хоть бы поскорее переменить обстановку! Я всеми силами постараюсь ускорить наш отъезд. Уговорю и тетушку ехать. Она это сделает ради меня, а тогда никого не удивит, если и я отправлюсь с ними. Ну, вот, теперь я по крайней мере чего-то хочу, и хочу сильно! Там мне представится возможность окружить Анельку заботами. И мы будем еще ближе друг к другу, чем в Плошове.
Я вздохнул с облегчением после этого убийственного дня. Ничто так не гнетет меня, как ненастная погода. Еще и сейчас слышно, как дождь барабанит по желобам, но в просветах между тучами уже кое-где мигают звезды.





































