Читать книгу "Без догмата"
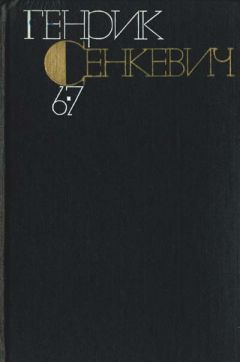
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
30 апреля
Вчера на меня, как снег на голову, свалилось письмо тетушки. Мне переслали его из Рима. Писано оно две недели назад, и непонятно, почему так долго пролежало в Каза Озориа. Тетя уверена, что я ездил на Корфу. Решив, что я уже, наверное, оттуда возвратился, она пишет мне в Рим следующее:
«С большим беспокойством и нетерпением ждем вестей от тебя. Я, старуха, крепко уже вросла в землю, и меня никакой ветер не расшатает, но на Анельку жалко смотреть. Она, должно быть, ожидала от тебя письма еще из Вены или из Рима, а не получив его, затревожилась. Потом умер твой отец. Я нарочно говорила при Анельке, что, мол, теперь ты не можешь думать ни о чем, кроме своего горя, но пройдет несколько недель, ты встряхнешься и вернешься к деятельной жизни. Мы с Анелькой не говорим о тебе откровенно, но отлично друг друга понимаем. И я видела, что она успокоилась. Но когда прошел целый месяц, а ты ни разу не дал знать о себе, она снова стала беспокоиться – главным образом о твоем здоровье, но ее мучило, верно, и то, что ты нас совсем забыл. Я тоже тревожусь, писала несколько раз на Корфу до востребования, как мы с тобой условились, но не получила никакого ответа. Сейчас на всякий случай пишу тебе в Рим, потому что страх, что ты, быть может, болен, отравляет нам жизнь. Напиши хоть несколько слов, а главное, дорогой мой, встряхнись и приди в себя. Буду с тобой откровенна: страдает Анелька еще и оттого, что кто-то наговорил ее матери, будто ты – всем известный волокита и обольститель. Представь себе мое возмущение! Целина пришла в отчаяние и рассказала это дочери, и теперь у одной постоянно мигрени, другая похудела, побледнела, бедняжка, изменилась так, что жалость берет. А какая она славная девочка, что за ангельская доброта! Чтобы не огорчать мать, она притворяется веселой, но я отлично вижу, что с ней творится, и у меня сердце разрывается на части. Дорогой мой Леон, я не говорила об этом с тобой в Риме из уважения к твоему горю, но такое горе, как смерть близких, воля божья, с ним приходится мириться и не падать духом. Написал бы ты хоть словечко, – такое, какое бы нас успокоило! Сжалься над девочкой. Не скрою, мое самое горячее желание – чтобы по окончании траура, хотя бы через год или два, вы с Анелей поженились, потому что эта девушка, по-моему, настоящее сокровище. Однако если ты решил иначе, лучше все-таки как-нибудь дать нам это понять. Ты меня знаешь, я к преувеличениям не склонна и пишу тебе об этом потому, что серьезно опасаюсь за здоровье Анельки. Притом сейчас дело идет об ее будущем. Кромицкий зачастил к нам и, очевидно, имеет серьезные намерения. Я было хотела по-своему, без церемоний, выпроводить его (тем более что это, наверное, он наболтал Целине о твоей ветрености), но Целина умолила меня не делать этого. Она в полном отчаянии и ни чуточки не верит в твою любовь к Анельке. Что мне было делать? А вдруг материнское чутье ее не обманывает? Напиши же, милый Леон, как можно скорее. Обнимаю тебя крепко. Прими благословение старухи, у которой нет никого на свете ближе тебя. Анелька после смерти твоего отца хотела тебе написать – выразить соболезнование, но Целина ей не позволила. У меня с ней из-за этого даже вышла ссора. Целина – превосходная женщина, но часто меня раздражает. Все тебе сердечно кланяются. Молодой Хвастовский открывает у нас здесь пивоварню: немного денег у него есть, остальные я ему дала взаймы».
Сначала это письмо на меня как будто не произвело никакого впечатления. Но затем я почувствовал, что это не так, и в волнении стал ходить из угла в угол. Волнение мое возрастало с каждой минутой и наконец стало невыносимо. Через час я уже озадаченно сказал себе: «Что за черт? Да я же ни о чем другом думать не могу!» Просто удивительно, с какой силой нахлынули на меня самые разнообразные чувства, пробегая стремительно в душе одно за другим, как гонимые ветром облака. Какой же я нервный! Прежде всего мне стало жаль Анелю. Все то, что я еще недавно чувствовал к ней и что еще до сих пор таилось где-то в закоулках души, вдруг вырвалось наружу, как пар из котла. Ехать к ней, успокоить ее, обнять, подарить счастье – таково было первое мое побуждение, первый порыв сердца, далекий от ясно сформулированного решения, но очень властный. А когда я представил себе ее полные слез глаза и ручки в моих руках, влечение к ней воскресло с прежней силой. Потом я мысленно сравнил Анельку с Лаурой, – и это сравнение было роковым для Лауры. Та жизнь, которую я вел здесь, сразу стала мне поперек горла. Я жаждал дышать чистым воздухом, не тем, каким я дышу здесь, жаждал покоя и душевной отрады, а более всего – любви чистой и честной. Я радовался при мысли, что ничто еще не потеряно, все можно исправить и зависит это только от моего желания. Но вдруг вспомнил о Кромицком, об Анелькиной матери, которая, не веря мне, видимо, стала на его сторону. И тут вспыхнул во мне гнев. Он рос и рос, заглушая все другие чувства. Чем настойчивее рассудок твердил мне, что пани Целина имеет полное право сомневаться в моем постоянстве, тем острее было чувство обиды на нее за то, что она смеет не доверять мне. В конце концов я дошел до какой-то отчаянной злости на себя и на всех. Все, что я думал и чувствовал, вылилось в нескольких словах: «Ну что же, пусть так!»
Письмо тетушки пришло вчера. Сегодня, уже спокойнее разбираясь в себе, я с удивлением замечаю, что обида глубоко проникла мне в душу и сейчас она, пожалуй, острее, чем была. Чувство это всецело овладело мною. Я говорю себе все, что может сказать человек трезво мыслящий, – и все же не могу простить этого Кромицкого не только панн Целине, но и ее дочери. Ведь в конце концов Анелька могла бы одним словом прекратить его визиты в Плошов, а если не сделала этого, значит, идет на уступки матери, жертвует мной, чтобы избавить мать от мигрени. И наконец, ухаживание Кромицкого оскверняет в моих глазах Анельку, низводит ее до пошлого типа «девицы на выданье». Не могу и писать об этом спокойно!
Быть может, я сейчас рассуждаю и воспринимаю все, как человек до крайности раздраженный. Быть может, во мне говорит болезненное самолюбие. Я умею смотреть на себя глазами постороннего наблюдателя, но и это сейчас не помогает: я все больше злюсь, горечь и обида все сильнее. Даже писать об этом – пытка для нервов, и потому я откладываю дневник в сторону.
1 мая
Ночью я думал: «Авось завтра буду спокойнее». Где там! Растет во мне ожесточение какое-то против Анелькиной матери, самой Анели, тетушки и против себя самого. Разная бывает кожа у людей – моя дьявольски тонка, и этого тетушка не учла.
Да и чем мне плохо здесь, в Пельи? Лаура подобна цельной глыбе мрамора, но, оставаясь с ней, я по крайней мере не страдаю, ибо, кроме красоты, в ней нет ничего. Довольно с меня этих утонченных и чувствительных душ!.. Пусть их утешает Кромицкий.
2 мая
Я сам отнес сегодня на почту письмо к тетушке. Написал, что желаю счастья пану Кромицкому с панной Анелей, а панне Анеле – с паном Кромицким. Тетушка требовала решительного ответа, так вот она его и получила.
3 мая
Мне вдруг пришла в голову новая мысль: а вдруг то, что тетя написала о Кромицком, – просто женская дипломатия, попытка меня «пришпорить»? В таком случае остается поздравить тетушку с ее изобретательностью и знанием людей!
10 мая
Прошла неделя. Всю эту неделю я не писал, потому что был как в чаду. Меня неотвязно гложут страшная тоска и сожаления. Анелька мне была близка, да я и сейчас не могу думать о ней равнодушно. Приходят на память слова Гамлета: «Я любил Офелию, как сорок тысяч братьев любить не могут». Только я сказан бы иначе: «Я Анельку любил больше, чем сорок тысяч Лаур». И надо же было, чтобы именно я своими руками причинил ей зло! Иногда я утешаюсь мыслью, что несчастьем для нее, напротив, был бы брак с таким человеком, как я. Но это неверно! Если бы она стала моей, я был бы добр к ней. Мучает меня только подозрение, что ей, быть может, достаточно и Кромицкого.
Стоит только об этом подумать – и снова во мне все кипит и я готов написать второе такое же письмо.
Свершилось! Это сознание – единственное утешение для таких, как я, потому что оно дает возможность сложить руки и прозябать по-прежнему. Быть может, это признак исключительной слабости, но в этом «свершилось!» я нахожу некоторое облегчение.
Теперь я уже способен рассуждать спокойнее. И вот, ударяя себя по лбу, я пытаюсь понять, как же человек, который не только хвастает своей необычно развитой способностью самоанализа, но и действительно обладает ею, столько дней поступал исключительно под влиянием рефлексов. К чему тогда сознание, если оно при первом же раздражении нервов уходит в какие-то закоулки мозга и остается пассивным свидетелем рефлекторных действий? Значит, оно служит только для анализа post factum? Не знаю, что мне толку в этом, по, раз уж не остается ничего другого, надо использовать его хотя бы для этого. Итак: почему я поступил так с Анелей? Потому разве, что я человек интеллигентный, пожалуй даже очень интеллигентный (будь я проклят, если говорю это, чтобы польстить себе или похвастаться), но неразумный? Главное – не дано мне спокойной мужской рассудительности. Нервов своих я не умею держать в узде, я болезненно впечатлителен, меня, по выражению поэта, можно ранить даже сложенным вдвое лепестком розы. В моей интеллигентности есть что-то женское. Быть может, я не исключение, и много есть среди мужчин (особенно у нас в Польше) людей такого сорта. Но это для меня слабое утешение. Такого рода ум, как мой, может многое понять, но руководиться им в жизни трудно: он всегда беспокойно мечется, колеблется, слишком долго взвешивает каждое решение и в конце концов застревает на перепутье. Оттого у человека парализуется дееспособность, развивается слабость характера, этот весьма распространенный у нас органический недостаток. Вот, например, я ставлю себе второй вопрос: не будь в письме тетки упоминания о Кромицком, развязка была бы иная? Ей-ей, я не решаюсь ответить «да». Развязка наступила бы не так скоро – это несомненно. Но кто знает, была ли бы она благополучной. Слабые характеры нуждаются в бесконечных поблажках, только для сильных людей препятствия служат стимулом к действию. Лаура, вероятно, это понимает, – она в некоторых отношениях весьма проницательна, – и, быть может, потому была ко мне так… милостива.
Но что же в конце концов из этого следует? Что я тряпка, размазня? Вовсе нет! Я никогда себя не щажу, не скрываю от себя горькой правды, не скрыл бы и этого, – но это неправда, я чувствую, что мог бы, не раздумывая долго, отправиться на Северный полюс или стать миссионером и поехать в глубь Африки. Во мне есть некоторая неугомонность, наследственная отвага, я способен на всякие смелые замыслы, рискованные предприятия. Темперамент у меня живой, я подвижен и легок на подъем чрезвычайно, хотя и не в такой степени, как, например, Снятынский.
И только когда требуется решить какой-нибудь жизненно важный вопрос, мой скептицизм делает меня бессильным, ум теряется в лабиринте предположений и выводов, воле не на что опереться, и мои поступки тогда зависят частично от внешних случайных обстоятельств.
12 мая
Я никогда не любил Лауру, только был и до сих пор еще остаюсь во власти ее физического очарования. Может, это на первый взгляд и кажется странным, но это довольно обычное явление: можно даже быть страстно влюбленным – и не любить. Сколько раз мне доводилось видеть страсть, горькую, мучительную, ранящую именно тем, что в ней не было любви. Я уже, кажется, говорил, что Снятынских связывает не только любовь, но и безмерная дружба и нежность. Поэтому им хорошо вместе… Ах, я чувствую, что и я вот так же нежно любил бы Анельку, и мы с ней жили бы очень дружно… Лучше об этом не думать!.. А Лаура – та, может быть, встречала в жизни много людей, которые безумно влюблялись в ее черные волосы, классически-прекрасную фигуру, ее брови, голос, взгляд, посадку головы, – но я уверен, что ее никто никогда не любил. Эта удивительная женщина влечет к себе непреодолимо, но в то же время отталкивает, ничего в ней нет, кроме красоты, потому что даже ее необычайная интеллигентность – только раба, которая ползает у ног ее красоты и завязывает ей котурны. Не далее как неделю назад я видел, как Лаура подавала милостыню ребенку недавно утонувшего рыбака, и при этом мне подумалось: она с такой же грацией совершенно спокойно выколола бы глаза этому ребенку, если бы думала, что это ей больше к лицу. Это всегда чувствуется, и потому-то, встретив такую женщину, можно потерять голову, но нежно любить ее невозможно. А Лаура понимает все, – кроме этого. Но до чего же она хороша! Когда она на днях сходила со ступеней террасы в сад, покачивая дивными бедрами, мне, как говорит Словацкий, «казалось, что я умру». Решительно – я во власти двух сил, одна меня притягивает, другая отталкивает. Хочу ехать в Швейцарию – и в то же время хочу вернуться в Рим. Чем это кончится, не знаю. Правильно говорит Рибо, что «хочу» – это только состояние сознания, а не акт воли; а уж двойственное «хочу» – тем более не акт воли. Я получил письмо от своего нотариуса, он вызывает меня в Рим по делам наследства. Нужно выполнить какие-то формальности. Вероятно, все можно было бы сделать и без меня, если бы я сильно захотел остаться здесь. Но ведь это – благовидный предлог для отъезда… С некоторых пор я люблю Лауру еще меньше, чем прежде. Она ничуть не виновата, она всегда одинакова, но дело в том, что я недовольство собой перенес и на нее. В минуты внутреннего разлада я искал в ее объятиях не только успокоения – нет, я как бы стремился сознательно унизиться и теперь злюсь на нее за это. Она же ничего не знает о моих душевных треволнениях. Какое ей дело до всего того, что не может служить ей украшением? Она заметила только, что я стал нервнее и раздражительнее, спросила раз-другой, отчего, но ответа не добивалась.
Быть может, мое влечение к ней все-таки одержит верх, и я не уеду, но, во всяком случае, скажу ей завтра или еще сегодня, что должен ехать. Интересно, как она примет эту новость, тем более интересно, что я это неясно себе представляю. Подозреваю, что при всей ее страсти ко мне, такой же, как у меня к ней, она тоже меня не любит (разумеется, если она вообще снисходит до того, чтобы любить или не любить кого-либо). В душах наших много сходного, но в тысячу раз больше противоположного.
Устал я страшно. Не могу не думать о том, какое впечатление мое письмо произвело в Плошове. Думаю об этом постоянно, даже тогда, когда со мной Лаура, и вижу перед собой Анельку и тетю. Какая же Лаура счастливица, завидую ее неизменному спокойствию. А мне так трудно справиться с собой.
Я рад предстоящей перемене места. В Пельи, хоть это и морской курорт, сейчас совсем пусто. Жара стоит невозможная. Море не шелохнется в своем ленивом покое, и ни на миг не плеснет волной у берега, словно обессилев от зноя. Порой подует жаркий ветер, поднимет облака белой пыли, и она оседает толстым слоем на листьях пальм, букса, смоковниц и миртов, проникает даже в дом сквозь опущенные жалюзи. У меня болят глаза – здесь все стены отражают блеск солнца так ослепительно, что днем невозможно на них смотреть.
В Швейцарию или в Рим – лишь бы уехать отсюда! Мне кажется, везде будет лучше, чем здесь. В общем, мы все собираемся в путь. Дэвиса я не видел уже четыре, а то и пять дней. Боюсь, что он не сегодня-завтра окончательно свихнется. Доктор говорил мне, что бедняга то и дело предлагает ему померяться силами. Это, по мнению врачей, очень скверный симптом.
Рим, Каза Озориа, 18 мая
Видно, мне было необходимо уединение. Сейчас я чувствую себя так, как в первое время в Пельи, – мне и грустно и хорошо. Даже лучше, чем было в Пельи, – здесь я не чувствую того беспокойства, какое вызывала во мне с самого начала близость Лауры. Брожу по темному, пустому дому, нахожу тысячи мелочей, напоминающих об отце, и память о нем опять свежа в душе моей. Образ его уже окутала было синяя дымка дали, а теперь я на каждом шагу встречаюсь с его прежней реальной жизнью. На столе в рабочем кабинете лежат лупы, через которые он рассматривал всякие образцы, бронзовые иглы для выковыривания сухой земли из отрытых при раскопках сосудов, краски, кисточки, начатые рукописи, записи, касающиеся его коллекций, – словом, тысяча мелочей. По временам мне чудится, будто отец только вышел ненадолго и вернется к своим обычным занятиям, а когда эта иллюзия рассеивается, во мне просыпается тоска по нем, искренняя и глубокая, и я чувствую, что люблю отца не как воспоминание, люблю его самого, спящего вечным сном на Кампо Санто.
Но эта печаль настолько чище всех тех чувств, которые в последнее время владели мною, что мне с нею хорошо, я чувствую себя как бы облагороженным ею, уже не таким развратным, каким я себе казался… И еще я убедился, что как бы отчаянно человек ни мудрил над собой, это не может помешать ему радоваться, когда он замечает в себе какие-нибудь добрые задатки. Откуда это неудержимое стремление людей к добру? Начав разматывать этот клубок, я захожу иногда очень далеко. Как разум наш есть отражение логической закономерности всеобщего бытия, так, быть может, и наше понятие добра – это отблеск какого-то абсолютного добра? Если бы это было так, человек мог бы разом покончить со всеми своими сомнениями и воскликнуть не только «Эврика!», но и «Аллилуйя!». Боюсь, однако, как бы эта моя теория не рассыпалась, подобно множеству других, – и потому не решаюсь ее строить. В общем, все это подсказывают мне скорее чувства, чем логические рассуждения. Я еще непременно вернусь к этому вопросу, ибо тут дело идет об извлечении занозы не из ноги, а из души. Но сейчас я слишком измучен, слишком мне грустно, хотя вместе с тем на душе хорошо и покойно.
Кажется, человек – единственное из всех живых существ, которое способно поступать часто против своей воли. Оказывается, мне давно хотелось покинуть Пельи, между тем дни шли за днями, а я не двигался с места. Даже накануне отъезда я был почти уверен, что останусь. Неожиданно мне пришла на помощь сама Лаура.
Я сообщил ей о письме нотариуса и о моем предстоящем отъезде только для того, чтобы увидеть, какое это произведет впечатление. Мы были одни в комнате. Я ждал какого-нибудь восклицания, признаков волнения, протестов… Ничего подобного!
Услышав новость, Лаура повернулась ко мне и, прислонясь щекой к моей щеке, перебирая пальцами мои волосы, спросила:
– Но ты вернешься, не правда ли?
Право, для меня до сих пор остается загадкой, что это означало. Думала ли она, что я обязательно должен ехать? Или, уверенная в силе своей красоты, ни минуты не сомневалась, что я вернусь? А может быть, ухватилась за первую представившуюся возможность избавиться от меня – ибо после такого вопроса мне не оставалось ничего другого, как уехать. Ласка, которой сопровождался ее вопрос, как будто опровергает такое предположение, но все же оно мне кажется наиболее правдоподобным. Бывают минуты, когда я почти уверен, что Лаура хотела мне сказать: «Не ты мне, а я тебе даю отставку». Признаюсь, если то была отставка, то ловкость Лауры необычайна, она тем более поразительна, что проделано было это самым ласковым и милым образом, и я так и остался в неведении, посмеялась ли она надо мной или нет. Но к чему обманывать себя? Своим вопросом Лаура выиграла игру. Возможно, в любом другом случае мое самолюбие было бы этим уязвлено, но теперь это мне безразлично.
В тот последний вечер мы не только не стали холоднее, напротив, – были друг к другу нежнее, чем всегда. Расстались очень поздно. И сейчас еще вижу, как Лаура, заслоняя рукой свечу, с опущенными глазами провожала меня до двери. Она была так хороша, что мне просто жаль было покидать ее. На другой день она простилась со мной на вокзале. Букет чайных роз я довез до Генуи и там где-то обронил. Да, удивительная женщина! Чем дальше я отъезжал, тем большее испытывал облегчение наряду с физической тоской по ней. Я ехал без остановок до самого Рима и теперь чувствую себя, как птица, вылетевшая из клетки на волю.
22 мая
Я не застал в городе почти никого из знакомых. Жара выгнала всех на виллы или в горы. Днем на улицах мало прохожих, встречаются только иностранцы, большей частью – англичане в пробковых шлемах, обмотанных кисеей, с красным «Бедекером» в руках и вечным «Very interesting»[22]22
Очень интересно (англ.)
[Закрыть] на устах. В середине дня на нашей Бабуино бывает так пусто, что шаги немногих прохожих гулким эхом раскатываются по тротуарам. Зато по вечерам улицы кишат народом. Меня всегда в эти часы мучает одышка и какое-то нервное беспокойство, и я выхожу на свежий воздух, брожу до изнеможения, – после этого мне бывает гораздо легче. Прогулка моя обычно кончается на Пинчио. Я часто три-четыре раза прохожу по этой великолепной террасе. В эти часы по ней кружит множество влюбленных пар. Одни гуляют под руку, сблизив головы висок к виску и подняв глаза к небу, словно от избытка блаженства. Другие сидят на скамейках под деревьями, где царит полный мрак. По временам мерцающий свет фонаря выхватывает из глубины этого мрака то профиль берсальера, полускрытый перьями шляпы, то светлое платье девушки, то лицо рабочего или студента. До моих ушей все время долетают шепот, клятвы и мольбы, тихое пение. Кажется, будто ты на весеннем карнавале, и удивительно приятно бывает затеряться в толпе и отдохнуть душой в атмосфере здорового веселья. Как простодушно счастливы эти люди! Я словно вбираю в себя их простоту, и она лучше всякого хлорала успокаивает мне нервы. Вечера стоят теплые и светлые, только иногда поднимается свежий ветер. Из-за Тринита-дель-Монти встает луна и серебряной ладьей плывет над этим людским муравейником, освещая верхушки деревьев, крыши и башни. У подножия террасы шумит и сияет огнями город, а вдали в серебристой мгле темнеет силуэт собора св. Петра с куполом, светящимся, как вторая луна. Давно Рим не казался мне таким прекрасным! Я нахожу в нем какое-то новое очарование. Каждый вечер возвращаюсь домой поздно и ложусь спать почти счастливый при мысли, что завтра проснусь снова в Риме. А как сплю! Не знаю, – может, это от усталости я засыпаю мертвым сном и даже утром еще хожу как одурманенный.
По утрам у меня совещания с нотариусом. Иногда я составляю для себя опись отцовских коллекций. Отец не завещал их городу, так что и коллекции перешли ко мне, как единственному наследнику. Выполняя волю отца, я без колебаний подарил бы их Риму, но боюсь, что отец, смущенный соображениями тетушки, не оставил никакого распоряжения умышленно, для того, чтобы его коллекции когда-нибудь можно было перевезти на нашу родину. Что он в последние часы жизни думал о ней, видно из многочисленных пунктов завещания. Много им завещано небольших сумм дальним родственникам, а одна запись тронула меня сильнее, чем могу выразить: «Голову Мадонны Сассоферрато завещаю моей будущей снохе».





































