Читать книгу "Без догмата"
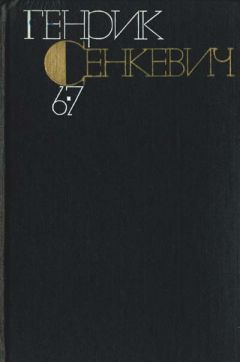
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
22 августа
После того как пани Целина закончила курс лечения, мы еще несколько недель оставались здесь, ожидая, пока спадет жара на равнинах. И дождались отвратительной ненастной погоды! Теперь опять ждем первого ясного дня, чтобы двинуться отсюда в Вену. Но вот уже третий день здесь царит тьма египетская. Всю неделю на вершинах гор скоплялись тучи, теперь они сползли с этих высоких гнезд, где высиживали дождь и снег, и, надвинувшись на Гаштейн, закрыли своим тяжелым лоном все небо над долиной. Мы живем в такой мгле, что даже в полдень трудно отыскать дорогу от Штраубингера до нашей виллы. Дома и деревья, горы и водопады – все скрыто в беловатом сыром тумане, который стирает все очертания, оседает на предметах да, кажется, и на душах. С двух часов дня приходится зажигать лампы. Дамы кончают укладываться. Мы бы уже давно уехали, несмотря на туман, если бы не то, что дорога в одном месте за Гофгаштейном размыта горными потоками. У пани Целины опять начались мигрени; тетя получила от старого Хвастовского письмо с вестями о сборе урожая и чуть не весь день ходила большими шагами по столовой, вслух препираясь с Хвастовским и ругая его. Анелька сегодня утром очень плохо выглядела. Она призналась нам, что с вечера ей приснился тот кретин, который встретился нам на дороге к Шрекбрюке. Проснувшись, она уже не спала до утра, и всю ночь ее мучил какой-то нервный страх. Странно, что этот несчастный нищий произвел на нее такое сильное впечатление! Я пытался развлечь ее веселой болтовней, и мне это до некоторой степени удалось – вообще со времени нашего договора на Шрекбрюке Анелька стала гораздо спокойнее, веселее и счастливее.
Видя это, я не смею больше роптать на судьбу, хотя мне часто думается, что отношения между нами держатся на отсутствии всякой близости. Заключая уговор, я хорошо знал, чего хочу и какие формы примет наша любовь. А сейчас эти формы как-то расплываются, становятся все более неопределенными и неуловимыми, как будто и они растворились в тумане, окутавшем Гаштейн. Я все время чувствую, что Анелька не признает обещанных мне прав, а настаивать на них не решаюсь. Не решаюсь потому, что всякая борьба утомляет, тем более – борьба с любимым человеком. А я борюсь вот уже полгода и, ровно ничего не добившись, измотался до такой степени, что сейчас предпочитаю какой ни на есть покой прежним бесплодным усилиям.
Однако есть, пожалуй, и другая причина. Если настоящее положение вещей и не таково, как я надеялся, зато оно явно расположило ко мне Анельку. Ей кажется, что я люблю ее теперь любовью более возвышенной, и она за это меня больше ценит (не смею сказать «любит»). Хотя внешне это ни в чем не проявляется, я чувствую, что не ошибся, и это придает мне сил. Я твержу себе: если таким путем можно укрепить ее любовь, терпи, не сходи с этого пути, и авось дождешься, что любовь пересилит в ней волю к сопротивлению.
Все люди, а в особенности женщины, считают, что так называемая платоническая любовь – это какой-то особый вид любви, весьма редкий и необыкновенно возвышенный. Но это попросту путаница понятий. Могут существовать платонические отношения, а платоническая любовь – такая же бессмыслица, как, например, несветящее солнце. Даже любовь к умершему – это тоска не только по душе, но и по земной оболочке любимого. А между живыми такая любовь – это отречение. Когда я говорил Анельке: «Буду любить тебя такой любовью, как любят умерших», – это не было сознательной ложью. Но отречение не исключает надежды. Несмотря на все пережитые, разочарования, на глубокую уверенность, что мечты не сбудутся, где-то на дне души моей таилась и все еще таится надежда, что нынешние отношения с Анелькой – только этап на пути нашей любви. Я могу сто раз твердить себе: «Это самообман», – но пока не умерли желания, до тех пор не умрет и надежда – они нераздельны. Я вынужден был согласиться на «платонический» союз потому, что лучше такая близость, чем полное отсутствие всякой близости. Но, хотя согласие мое было искренне, я почти помимо воли смотрю на него как на игру, как на дипломатию, которая должна привести к полному, а не половинчатому счастью.
Но вот что меня поражает и угнетает, чего я никак понять не могу: я и тут терплю поражение. Победы мои маячат где-то в тумане будущего, как призраки, как мираж, а в настоящем я, при всем своем знании жизни и человеческой души, при всех своих дипломатических хитростях, пасую перед женщиной, которая несравненно простодушнее меня, менее опытна в житейской тактике, далеко не так дальновидна, не способна рассчитывать каждый свой шаг. Да, слов нет, – я побежден. Каковы теперешние наши отношения? Это, в сущности, отношения любящих родственников, а следовательно – именно то, чего хотела она, а я не хотел. Прежде я плыл по бурному морю, беспрестанно терпел аварии, но по крайней мере сам управлял своей ладьей. Теперь Анелька правит обеими, а я плыву ровнее, медленнее, но чувствую, что плыву туда, куда мне вовсе не хочется. Я понимаю, почему Анелька, как только я заговорил о любви Данте к Беатриче, протянула мне обе руки: она решила вести меня! А может быть, она лучше меня умеет все предвидеть и рассчитывать? Нет, это невероятно, я не знаю человека, менее способного на какие-либо расчеты. Однако не могу отделаться от почти мистического чувства, что Анелька поступает так, словно кто-то рассчитывает за нее.
Да и обстановка вокруг нас создалась какая-то необычная. Странно и то, что я позволяю себя ограничивать, что я сам придумал эту форму близости, так противоречащую моей натуре, моим воззрениям и самым горячим желаниям. Если бы до моей встречи с Анелькой кто-нибудь мне предсказал, что со временем я буду носиться с такими идеями, я счел бы его сумасшедшим и добрый месяц у меня была бы тема для вышучивания такого пророка, да и себя самого. Я – и платоническая любовь! Да меня и теперь еще иногда смех разбирает при этой мысли.
Но я не скрываю от себя, что меня привела к этому горькая необходимость.
23 августа
Завтра едем. Небо проясняется, ветер западный, а это предвещает хорошую погоду. Туман медленно уползает к горам длинными белесыми валами, похожими на громадных Левиафанов. Мы с Анелькой побывали на Кайзервеге. У меня с утра не выходил из головы вопрос: что было бы, если бы отношения, установившиеся между нами, перестали удовлетворять и Анельку? Я не считаю себя вправе переступить границу и боюсь это сделать. А что, если и она чувствует то же самое? Природная робость и стыдливость и так уже для нее непреодолимая преграда, а если она еще притом считает наш договор обязательным для себя точно так же, как для меня, – то у нас никогда не дойдет до объяснения и мы будем напрасно страдать.
Однако, подумав хорошенько, я понял, как вздорны мои опасения. Анельке даже эти платонические отношения кажутся чересчур «вольными», и она, сознательно или бессознательно, их ограничивает, она даже в этих тесных рамках не позволяет мне того, на что я имею право, – так неужели же она первая, по собственному почину, предоставит мне более широкие права?
Но так уже создан человек, что даже в аду еще на что-то надеется. Несмотря на явную неосновательность моих предположений, я решил на всякий случай сказать Анельке, что наш договор обязателен только для меня, – остальное зависит от ее желания.
Хотелось сказать ей еще многое другое: что судьба ко мне жестока, что сердце мое жаждет слышать от нее слово «люблю», – и не раз, а часто, каждый день, что этим только я могу жить и оставаться на высоте. Но в это утро Анелька была так непринужденно весела, так ласкова ко мне, что у меня не хватило духу смутить ее ясное спокойствие. Вчера я не понимал, как эта женщина, такая простодушная, берет надо мной верх, побеждает даже там, где, по всем человеческим понятиям, победителем должен быть я. Сегодня это мне уже понятнее, и у меня возникла очень печальная гипотеза: все дело в том, что я ее люблю сильнее, чем она меня.
Один мой знакомый часто употреблял выражение «я не в счет». И было бы не удивительно, если бы я теперь стал повторять это выражение. Порой так хочется высказать то, что, как раскаленный уголь, жжет мне язык, да боюсь спугнуть ее веселость, улыбку, испортить ей хорошее настроение, – и молчу. Сколько раз так бывало!
То, что я ее больше люблю, чем она меня, сто раз приходило мне в голову, но о наших отношениях я сегодня думаю одно, завтра – другое, теряюсь, сам себе противоречу, все представляется мне каждый день в ином свете. То кажется, что Анелька и меня не так уж любит, да и вообще не способна любить сильно. То я не только думаю, но и чувствую, что у нее самое большое и любящее сердце, какое я встречал в своей жизни. И всегда нахожу доказательства и тому и другому. Я спрашиваю себя: если бы, например, любовь ее ко мне возросла в три, четыре, в десять раз, наступил бы в конце концов день, когда любовь эта победила бы ее сопротивление? Да! Значит, все дело в том, что сейчас ее чувство ко мне недостаточно сильно? Нет! Если бы это чувство было вправду слабым или его вовсе не было бы, Анелька не страдала бы так, – а ведь я видел, что она почти так же несчастлива, как я сам. На все доводы против нее у меня один ответ: я в и д е л!
Сегодня у нее вырвались слова, которые я запомню, ибо в них тоже нашел ответ на мои сомнения. Она не сказала бы этих слов, если бы речь шла о нас и нашей любви. Но я говорил общими фразами, как всегда говорю теперь на эти темы. Я доказывал, что любовь по природе своей – сила действенная, что она направляет волю человека и заставляет его действовать. Выслушав меня, Анелька промолвила:
– Или страдать.
Да, конечно, – страдать. Этими двумя словами она заставила меня замолчать и наполнила сердце глубоким уважением к ней. В такие минуты я и счастлив и вместе несчастен, ибо снова верится, что она любит меня, как я – ее, по хочет оставаться чистой перед богом, людьми и собой. А я этого храма не разрушу.
Сколько я ни разбираюсь в ее душе и чувствах, ничего не могу утверждать наверное. По-прежнему стою на распутье. Ко всем моим «не знаю» в вопросах религиозных, философских и общественных прибавилось еще одно, личное, самое для меня главное, ибо я отлично понимаю, что на этом «не знаю» могу сломать себе шею.
Я сам ковал ту цепь, что связала меня с Анелей, и связала навсегда, – нечего и думать, что она когда-нибудь разорвется, – я люблю Анельку безумно, но еще вопрос, здоровая ли это любовь. Будь я моложе, здоровее духом и телом, будь я более нормальным, не таким вывихнутым человеком, я, может, и разорвал бы эти оковы и, во всяком случае, пытался бы от них освободиться, убедившись, что, грубо говоря, ничего не добьюсь от Анельки и никогда она не раскроет мне объятий. А сейчас я и не пытаюсь бороться, я люблю ее, как только может любить человек с больными нервами, и любовь эта похожа на манию. Так любят старики, которые изо всех сил цепляются за свою последнюю любовь, ибо она становится для них вопросом жизни. Так держится за ветку человек, висящий над пропастью.
Любовь к Анельке – то единственное, что расцвело в моей жизни, и потому так неестественно буйно это цветение. Такое явление вполне нормально и будет повторяться тем чаще, чем больше на свете будет людей подобных мне, то есть заеденных самоанализом скептиков и притом истериков, с пустотой в душе и сильнейшим неврозом в крови. Этакий современный продукт уходящей в прошлое эпохи может и вовсе не знать любви или отождествлять любовь с развратом. Но если все его жизненные силы вдруг сосредоточатся на каком-нибудь чувстве и тут примешается еще его невроз, это чувство овладеет им целиком и станет таким упорным, как бывают только болезни. Этого, может быть, еще не поняли психологи и, безусловно, не понимают до сих пор романисты, изучающие душу современного человека.
Вена, 25 августа
Сегодня мы приехали в Вену. В дороге мне довелось слышать разговор между пани Целиной и Анелькой, и так как разговор этот как-то странно взволновал Анельку, я хочу его записать. В вагоне, кроме нас четверых, никого не было, и мы толковали о портрете Анельки, в частности о том, что от белого платья придется отказаться, так как для того, чтобы его сшить, потребовалось бы слишком много времени. Неожиданно пани Целина (она прекрасно помнит всякие даты и вечно напоминает о них другим) сказала, обращаясь к Анельке:
– А ведь сегодня ровно два месяца, как твой муж приехал в Плошов?
– Да, кажется, – отозвалась Анелька и вдруг густо покраснела.
Чтобы скрыть это, она встала и принялась снимать с вагонной сетки дорожную сумку. Когда она снова обернулась к нам, румянец еще не совсем сошел с ее щек и лицо имело страдальческое, угрюмое выражение. Тетя и пани Целина ничего не заметили, так как они в эту минуту заспорили о том, в какой именно день приехал Кромицкий. Но я все увидел и понял. Ведь в тот самый день ей пришлось терпеть ласки и поцелуи мужа… При этой мысли мною овладело бешенство, и вместе с тем стыдно стало за этот ее румянец. Да, в любви моей много острых терний, не меньше и больно ранящих омерзительных мелочей. До замечания пани Целины я был почти счастлив, тешась иллюзией, будто мы с Анелькой едем вместе как новобрачные, совершающие свое свадебное путешествие. И вот – в одно мгновение блаженство кончилось. Я злился на Анельку, и это сразу сказалось на моем обращении с ней. Она это почувствовала. И в Вене, когда мы на минуту остались вдвоем в зале ожидания, спросила меня:
– Ты за что-то на меня сердишься?
– Нет, я тебя люблю, – ответил я резким тоном.
Ее лицо снова омрачилось. Быть может, она подумала, что мне надоели наши мирные отношения и я опять стал прежним Леоном. А я был зол вдвойне от сознания, что ни мое раздвоение, ни разум не помогают мне обороняться от всякого неприятного впечатления. Единственным лекарством бывают новые впечатления, которые вытесняют прежние, а философия моя в этих случаях бессильна.
Сразу по приезде я отправился к Ангели, но попал к нему только в шесть часов, и студия была уже заперта. Анелька до завтра будет отдыхать с дороги, а завтра мы пойдем к нему уже вместе. Я передумал, не хочу, чтобы Ангели писал ее в белом платье. Пусть на портрете я не увижу ее обнаженных плеч, зато она будет на нем такая, какой я вижу ее каждый день и какой больше всего люблю.
Вечером нас навестил доктор Хвастовский. Он, как всегда, здоров и полон энергии.
26 августа
Этой ночью я видел скверный сон. Начну с него описание событий сегодняшнего дня: самый сон – чепуха, но я убежден, что здоровый мозг не может порождать такие видения. Я давно страдаю бессонницей, а вчера почему-то, едва закрыл глаза, как впал в забытье. Не знаю, в котором часу ночи мне приснилась эта чепуха, но, кажется, на заре: когда я проснулся, было уже светло, а спал я, должно быть, недолго. Мне снилось, что из всех щелей между матрацем и кроватью лезут целые полчища большущих жуков, каждый не меньше спичечной коробки. Они поползли вверх по стене. И странно, до чего же реальны бывают такие сны: я совершенно отчетливо слышал, как шуршали обои под лапками жуков. Подняв глаза, я увидел в углу под потолком целые гроздья уже других насекомых, – эти были белые с черными пятнами и еще крупнее. Кое-где я различал брюшко и два ряда ножек, похожих на ребра. Во сне все это казалось естественным. Мне было противно, но я не испытывал ни страха, ни удивления. И только когда я проснулся и мысль моя уже работала ясно, отвращение стало нестерпимым и перешло в непонятный страх – страх смерти. Первый раз в жизни я испытывал подобное чувство. Этот страх смерти можно было бы словами выразить так: «Кто знает, какими мерзкими существами кишит мрак загробного мира?» Позднее я припомнил, что таких громадных жуков, белых с черными пятнами, я видел где-то в музее. Но в первые минуты они мне казались фантастическим видением страшного потустороннего мира. Я вскочил с постели, поднял шторы, и дневной свет совершенно успокоил меня. На улице уже началось движение; собаки тащили тележки с зеленью, служанки шли на рынок, рабочие – на фабрики. Картина обыденной человеческой жизни – самое лучшее лекарство от подобных фантасмагорий. Я сейчас ощущаю страстную жажду света и жизни. Все это вместе взятое показывает, что я не совсем здоров. Моя душевная драма гложет меня изнутри, как червь. То, что в волосах моих уже появилась седина, в порядке вещей. Но лицо мое, особенно по утрам, имеет восковой оттенок, а руки стали прозрачными. Я не худею, скорее даже полнею, но при всем том вижу, что у меня развивается анемия, чувствую, что мои жизненные силы на исходе, и добром это не кончится.
С ума я не сойду. Никак не могу себе представить, что может наступить такой час, когда я утрачу власть над собой. И, наконец, один видный врач, а главное – разумный человек, говорил мне, что на известной ступени развития сознания помешательство становится невозможным. Да я, кажется, уже об этом писал. Однако и не сходя с ума можно заболеть тяжкой нервной болезнью, – а я немного уже знаю, что это такое, и скажу честно: предпочел бы любую другую болезнь.
Вообще говоря, я докторам не доверяю, особенно таким, которые верят в медицину. Но все-таки надо будет, пожалуй, с кем-либо из них посоветоваться, тем более что и тетя этого хочет. Собственно, я и так знаю вернейшее лекарство от своей болезни: если бы Кромицкий умер, а я женился бы на Анельке, – я выздоровел бы сразу. Если бы она пришла ко мне и сказала: «Я вся безраздельно твоя», – это бы меня сразу исцелило. Болезни, порожденные нервами, нервами же надо лечить.
Но Анелька не захочет меня излечить таким образом, хотя бы дело шло о моей жизни.
Ходил с нею и тетей к Ангели. Сегодня Анелька в первый раз ему позировала. Как же я был прав, утверждая, что она – одна из самых красивых женщин, каких я встречал в жизни, ибо в ее красоте нет ничего шаблонного! Ангели всматривался в нее с таким восхищением, как будто созерцал великое и благородное произведение искусства. Он пришел в прекрасное настроение, писал с увлечением и откровенно объяснял нам, чем он так доволен.
– В нашей практике это редкость, – говорил он. – Совсем иначе работается, когда перед глазами т а к а я модель… Что за лицо! Какое выражение!
А между тем лицо это было не так пленительно, как всегда, потому что застенчивая Анелька чувствовала себя неловко и с трудом сохраняла естественную позу и выражение. Впрочем, Ангели и это понял.
– На следующих сеансах дело скорее пойдет на лад, – сказал он. – С каждым положением человеку нужно освоиться.
И, работая, поминутно восклицал:
– Вот это будет портрет!
Он и на тетушку поглядывал с удовольствием, – вероятно, потому, что в ее аристократическом лице виден характер, энергия и удивительная широта натуры. Обращение ее с Ангели в своем роде несравненно: это – наивная бесцеремонность знатной дамы, которая никогда не нарушает требований хорошего вкуса, но не признает ничьего авторитета. Ангели, человек, привыкший к поклонению, но очень умный, это уловил, – и я видел, что его это забавляет.
Решено было, что Анелька будет позировать в черном шелковом платье, очень изящном. Как хорошо оно обрисовывает ее фигуру, стройную и не лишенную полноты! Не могу ни думать, ни писать об этом спокойно… Ангели, обращаясь к Анельке, назвал ее «мадемуазель». Женщины, даже женщины-ангелы, – удивительный народ: я видел, что моей любимой это приятно. Еще большее удовлетворение выразило ее милое личико, когда художник после того, как я его поправил, сказал:
– Но я все время буду ошибаться! Глядя на madame, трудно не ошибиться…
И в самом деле, Анелька, вспыхнувшая от смущения, была в эти минуты так обворожительна, что мне снова вспомнились – на этот раз уже точнее – стихи, что я сочинил когда-то. Каждая строфа кончалась так:
Дивлюсь только я, что цветы
Не растут у тебя под ногами.
Ведь ты – воплощенье весны,
О птица моя золотая,
Ты май, к нам слетевший из рая.
Когда при выходе из студии тетушка немного от нас отстала, я шепнул Анельке на ухо:
– Ты сама не знаешь, понятия не имеешь, как ты хороша!
Она ничего не ответила, только, как всегда в таких случаях, опустила глаза. Но я весь день подмечал в ее обхождении со мной легкий оттенок бессознательного кокетства: так подействовали на нее слова Ангели и мои. Она чувствовала, что я от всей души восхищаюсь ею, и была мне благодарна.
А я не только любовался ею. Я говорил – нет, вопил! – в душе:
– К черту все договоры! Хочу любить ее без всяких запретов и ограничений.
Вечером мы были в опере на вагнеровском «Летучем Голландце». Я вряд ли слышал что-нибудь, вернее говоря, – я воспринимал музыку только чувственно, только через мою любовь.
Я мысленно спрашивал Вагнера: «Какое впечатление производит твоя музыка на нее? Проникает ли в ее душу, располагает ли к любви, переносит ли в какие-то миры, где любовь – высший закон?» Только это меня интересовало.
Женщины, мне кажется, не способны любить так беззаветно. Они всегда сохраняют какую-то часть души для себя, для мира и разных его впечатлений.





































