Читать книгу "Без догмата"
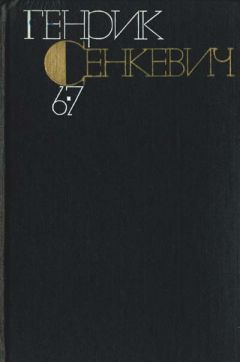
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
3 апреля
Ни одна женщина не может уделить другу, которого постигла тяжелая утрата, больше внимания и сочувствия, чем Лаура уделяет мне. Однако – странная вещь! – ее доброта напоминает мне лунный свет: она светит, но не греет. Она выражается в самых совершенных формах, но души в ней нет; она – обдуманная, головная, а не сердечная. Снова во мне заговорил скептик, но что поделаешь – никогда я не влюбляюсь настолько, чтобы в опьянении утратить наблюдательность. Если бы моя богиня была добра по натуре, она была бы добра ко всем. Но ее отношение к мужу, например, доказывает обратное. У несчастного Дэвиса, правда, кровь настолько остыла, что ему холодно даже на солнцепеке, – но как же леденит его равнодушие жены! Я не замечал в ней никогда даже искры сострадания к нему. Она его попросту не замечает и знать не хочет. Миллионер этот среди окружающей его роскоши ходит, как нищий, – даже жалость берет. Ему как будто все стало безразлично, но человек, сохранивший хоть искру сознания, всегда чувствует доброе отношение к себе. Лучшее доказательство тому – благодарность, которую чувствует ко мне Дэвис только за то, что я иногда беседую с ним о его здоровье.
А быть может, в нем говорит то бессознательное чувство, которое заставляет существо слабое и беспомощное льнуть к более сильному. Мне действительно искренне жаль его, когда я смотрю на его белое, как мел, лицо с кулачок, на эти ноги, сухие, как палки, и все его тщедушное тело, даже в зной укутанное теплым пледом. Но не хочу и самому себе казаться лучше, чем я есть: сострадание к Дэвису ни от чего меня не удержит. Как говорит Шекспир, уклейка для того и существует, чтобы щуке было что есть. Я не раз замечал – когда дело идет о женщине, мужчины бывают безжалостны друг к другу. Этот остаточный животный инстинкт толкает нас на борьбу за самку, борьбу не на жизнь, а на смерть. В такой борьбе, какие бы формы она ни принимала, – горе слабым! Даже чувство чести не обуздает сильного. И безусловно осуждает эту борьбу только религия.
12 апреля
Дней десять не записывал ничего в дневник. Перелом наступил неделю назад. Я заранее был уверен, что это произойдет на море: такие женщины, как Лаура, и в минуты опьянения не забывают о подходящей обстановке. Если они даже добрые дела творят лишь потому, что это их красит, – тем более им нужна красота при падении. Тут играет роль и страсть ко всему необычайному, порожденная не романтикой, а желанием драпироваться во все, что только может украсить. Я еще не окончательно потерял голову и смотрю на Лауру по-прежнему трезвыми глазами, но порой думаю: а может, она вправе быть такой, как она есть, и считать, что даже солнце и звезды существуют лишь для того, чтобы служить ей украшением? Абсолютная красота по самой природе вещей должна быть безмерно эгоистична и все подчинять себе. А Лаура – воплощение такой красоты, и никто не имеет права требовать от нее большего. Я, во всяком случае, требую от нее лишь одного – чтобы она всегда и везде была прекрасна…
Слава богу, я – хороший гребец, и благодаря этому мы можем выходить на лодке в море только вдвоем. На прошлой неделе Лаура в самую жаркую пору дня вдруг объявила, что хочет покататься по морю. Она, как Геката, обожает зной и солнце. Легкий ветер вскоре отнес лодку довольно далеко от берега и затем неожиданно улегся. Парус наш повис вдоль мачты. Яркие лучи солнца, отражаясь от зеркальной поверхности моря, еще усиливали жару, хотя было уже далеко за полдень. Лаура растянулась на индийской циновке, постланной на дне нашего суденышка, и, опустив голову на подушки, лежала неподвижно, залитая красноватым светом солнца, просачивавшимся сквозь навес. Странная истома овладела мною, и, глядя на эту женщину, чьи классические формы обрисовывались под легкой одеждой, я испытывал трепет восторга. Лауру тоже разморило, глаза ее затуманились, губы были полуоткрыты, и во всей фигуре чувствовалась лень и расслабленность. Когда я на нее смотрел, она опускала веки, словно жалуясь на бессилие…
И я скоро предоставил лодке плыть по воле волн.
На виллу мы вернулись очень поздно. Это возвращение надолго останется у меня в памяти. После заката солнца, сплавившего небо и море в одно ослепительное сияние без конца и границ, наступил вечер, такой дивный, какого я никогда не видывал даже на Ривьере. Из-за моря встал огромный красный месяц, пронизал мрак своим мягким светом, а на море проложил широкую сверкающую дорогу, по которой мы плыли до самого берега. Море слегка колыхалось, как всегда в ночные часы. Казалось, грудь его поднимали глубокие вздохи. Из маленькой бухты долетали голоса лигурийских рыбаков – они пели хором. Снова поднялся ветерок, но теперь он дул с берега и приносил запах цветущих апельсиновых деревьев. При всей своей неспособности отдаваться целиком одному впечатлению, я был весь во власти волшебной тишины, царившей над сушей и морем и словно оседавшей, как роса, на предметах и душах. По временам я смотрел на Лауру, сидевшую передо мной в свете месяца, как Елена Троянская, и мне чудилось, что мы живем во времена древней Эллады и плывем сейчас куда-то к священным оливковым рощам, где свершаются элевсинские таинства. И пережитые восторги страсти казались мне не порывом чувственности, а каким-то культом, мистически связывавшим нас с этой ночью, весной, со всей природой.
15 апреля
Пришло время уезжать, а мы всё не едем. Моя Геката не боится солнца. Дэвису оно полезно, а мне все равно, где быть, – здесь или в Швейцарии. Мне приходит в голову одна неожиданная мысль. Она меня немного пугает, но выскажу ее откровенно: иногда мне думается, что душа христианина, даже если в ней иссяк совершенно источник веры, не может жить одной красотой формы. Печальное для меня открытие! Ведь, если это верно, я теряю почву под ногами. А мысль эта упорно возвращается и не дает мне покоя. Мы – не древние эллины, мы – люди иной культуры. Наши души отличаются готическими извилинами и стремлением ввысь, чуждым душе эллина. Никогда нам от этого не избавиться. Наши души неудержимо стремятся вверх, а души греков с безмятежной простотой стлались над землей. Те из нас, в ком еще силен дух Эллады, испытывают, правда, большую потребность в красоте и ревниво ищут ее повсюду, по и они безотчетно жаждут, чтобы у Аспасии были глаза Дантовой Беатриче. Такие желания таятся и во мне. Как подумаю, что это великолепное животное, Лаура, теперь – моя и будет моей, пока я этого хочу, я радуюсь вдвойне – и как мужчина, и как поклонник красоты. А все-таки чего-то мне не хватает, и нечем дышать. На алтаре моего греческого храма стоит мраморная богиня, – но мой готический храм пуст. Я признаю, что встретил сейчас нечто близкое к совершенству, но не могу отделаться от мысли, что за этим совершенством – мрак. Я прежде думал, что в словах Гете: «Будьте подобны богам и животным», – вся мудрость жизни. А теперь, когда я выполняю завет Гете, я чувствую, что он сказал не все. Ему следовало еще добавить: «Будьте подобны ангелам».
17 апреля
Сегодня Дэвис вошел в комнату, когда я сидел на скамеечке у ног Лауры, положив голову к ней на колени. Его бескровное лицо и тусклые глаза ни на секунду не утратили своего угнетенного и равнодушного выражения. Неслышно ступая в мягких туфлях, расшитых индийским рисунком – солнцами, – он, как призрак, прошел мимо нас в соседнюю комнату, где помещалась библиотека. Лаура была великолепна в эту минуту, ее глаза сверкали неудержимым гневом. Я встал, ожидая, что будет дальше. В первый момент я вообразил, что Дэвис сейчас выйдет из библиотеки с револьвером в руке, и решил, что тогда выброшу его через окно вместе с пледом, револьвером и индийскими туфлями. Но Дэвис не вышел. Я ждал долго и напрасно. Не знаю, что он там делал: размышлял о своей горькой судьбе или плакал? А может, остался совершенно равнодушен? Мы встретились все трое только за завтраком. Сидели за столом как ни в чем не бывали. Быть может, это моя фантазия, – но мне качалось, что Лаура бросает на мужа грозные взгляды, а сквозь его обычную апатию проглядывает сегодня тайная мука. Признаюсь, такая развязка была мне неприятнее всякой другой. Передо мной потом весь день стояло лицо Дэвиса, стоит и сейчас немым укором. Я не забияка, но готов отвечать за свои поступки. И наконец, я шляхтич и предпочел бы, чтобы моим соперником был не этот тщедушный, больной, беззащитный и несчастный человечишка. На душе у меня такой противный осадок, как будто я надавал пощечин паралитику, – и редко я чувствовал такое отвращение к самому себе.
Все же мы, как обычно, отправились на прогулку по морю – я не хотел от нее отказываться, чтобы Лаура не подумала, будто я боюсь Дэвиса. Но в лодке мы в первый раз повздорили. Я признался, что меня мучает совесть, а когда она меня высмеяла, сказал ей напрямик:
– Не к лицу тебе этот смех, а ты помни, что тебе все можно, кроме того, что тебе не к лицу.
Лаура нахмурила сросшиеся брови и ответила с горечью:
– Ну конечно, после того, что между нами было, ты можешь оскорблять меня еще более безнаказанно, чем Дэвиса.
Выслушав такой упрек, я принужден был извиниться. Мы быстро помирились, и Лаура стала рассказывать о себе. При этом я лишний раз смог убедиться в остроте ее ума. У всех женщин, которых я знал, при подобных обстоятельствах появлялось непобедимое желание рассказать свою историю. Я их за это и не виню, понимая, что им хотелось оправдаться и перед собой и передо мной, – потребность, которой мы, мужчины, вовсе не испытываем. Однако я ни разу не встречал женщины, достаточно разумной, чтобы соблюдать в этих признаниях должную эстетическую меру, и достаточно правдивой, чтобы не разрешать себе «лжи во спасение». То же самое утверждают все мужчины, и они же могут засвидетельствовать, что все эти истории падения удивительно похожи одна на другую и поэтому нестерпимо скучны. Лаура начала говорить о себе тоже с излишней готовностью и некоторым самодовольством, по тем и ограничилось ее сходство с другими падшими ангелами. В том, что она говорила, сквозило, пожалуй, желание порисоваться оригинальностью, но никак не изобразить себя жертвой. Зная, что я скептик, она не хотела нарваться на снисходительную усмешку недоверия. Искренность ее граничила с дерзостью и была бы цинична, если бы не то, что речь шла о своего рода системе, где эстетика полностью заменяла этику. Лаура хочет, чтобы у ее жизни были черты Аполлона, а не горб Полишинеля, – вот ее философия. За Дэвиса она вышла не просто ради его миллионов, а для того, чтобы с помощью этих миллионов, насколько это в силах человеческих, создать себе жизнь красивую не в обывательском, а в самом высшем эстетическом смысле слова. Она, по ее словам, не чувствует себя ничем обязанной мужу, – она его заранее обо всем предупредила. Он ей и жалок и противен. А так как ему теперь все на свете безразлично, то и нет нужды с ним считаться – он для нее все равно что умер. Да и вообще, добавила Лаура, она не считается ни с чем, что нарушает красоту жизни и мешает ею наслаждаться. Общественное мнение ее мало интересует, и я очень ошибаюсь, если думаю иначе. С отцом моим она подружилась не потому, что он был человек с большими связями, а потому, что он был чудесным образцом человеческой породы. Меня же она любит давно. Она понимает, что я больше дорожил бы ею, если бы победа досталась мне не так легко, но она не хотела торговаться со своим счастьем.
Удивительное впечатление производили на меня эти декларации, произнесенные ее прелестными устами, голосом мягким, тихим, но полным металлических нот. Говоря все это, Лаура то и дело подбирала платье, как бы желая освободить мне место рядом с собой. Порой провожала глазами пролетавших чаек, потом снова внимательно вглядывалась в мое лицо, словно пытаясь прочесть мои мысли. А я слушал ее с чувством удовлетворения, находя в ее словах доказательство, что я разгадал эту женщину. Впрочем, было в них и нечто совершенно для меня новое. Так, преклоняясь перед умом Лауры, я все же думал, что в жизни она руководится скорее инстинктами и свойствами своей натуры. Я не предполагал, что она способна создать целую теорию для философского обоснования и оправдания своих склонностей и стремлений. Это в известной мере возвысило ее в моих глазах: оказывается, в тех случаях, когда я подозревал ее в разных низменных и мелочных расчетах, она действовала согласно своим принципам, – быть может, дурным и даже страшным, но как-никак принципам. Например, мне казалось, что она втайне рассчитывает выйти за меня после смерти Дэвиса, – а сейчас она мне доказала, что я заблуждался. Она первая заговорила об этом. Призналась, что, если бы я просил ее руки, она, вероятно, была бы не в силах отказать мне, потому что любит меня сильнее, чем я думаю (в эту минуту, клянусь, я видел, как жаркий румянец облил ей лицо и шею). Но она знает, что этого никогда не будет, что рано или поздно я с легким сердцем ее брошу. Так что же из этого? «Вот я погрузила руки в воду и ощущаю чудесную прохладу, – так неужели же отказать себе в этом наслаждении только потому, что через минуту-другую солнце высушит холодную влагу на моих руках?»
Говоря это, она перегнулась через борт лодки (при этом грудь ее обрисовалась под платьем во всей своей безупречной красоте) и, обмакнув руки в воду, протянула их затем ко мне, влажные, порозовевшие, словно пронизанные солнцем.
Я сжал эти мокрые руки в своих, а она, словно вторя тому, что я чувствовал, шепнула нежно, с томной лаской в голосе:
– Иди ко мне!..
20 апреля
Вчера я весь день не видел Лауры. Она простудилась, сидя допоздна на балконе, и теперь у нее болят зубы. Как мне скучно! К счастью, позавчера вечером сюда приехал врач, который отныне постоянно будет при Дэвисе. Если бы не он, не с кем было бы и словом перемолвиться. Врач этот – молодой итальянец, черный, как жук, малорослый, с большой головой и умными глазами. Он производит впечатление человека очень интеллигентного. Видимо, ему с первого же вечера стало ясно положение вещей в этом доме, он нашел все это вполне естественным и без колебаний признал меня настоящим хозяином дома. Я не мог удержаться от улыбки, когда он сегодня утром спросил меня, можно ли ему повидать больную «госпожу графиню» и прописать ей лекарство. Своеобразные нравы и обычаи в этой стране! Везде в других странах, когда на замужнюю женщину падает подозрение в измене мужу, все общество дружно ополчается против нее и травит ее часто с бессмысленной жестокостью. Здесь же так почитают любовь, что все тотчас становятся на сторону грешницы и готовы тайно помогать влюбленным. Я сказал итальянцу, что спрошу у «госпожи графини», угодно ли ей его принять. И вот сегодня после завтрака я вторгся в будуар Лауры. Она впустила меня неохотно: у нее немного опухла щека, и ей не хотелось показываться мне в таком виде. Действительно, увидев ее, я вспомнил то время, когда брал уроки живописи. Я еще тогда приметил, что когда пишешь портрет современника, то при всех недочетах и даже изменениях, внесенных портретистом, сходство ничуть не пострадает, если передано выражение, «идея» лица. Другое дело – копировать классиков: здесь каждый неточный штрих, каждое отклонение нарушает гармонию лица и меняет его. Сейчас я проверил это на Лауре. Припухлость щеки была весьма незначительна, да я ее почти и не разглядел, так как Лаура упорно повертывалась ко мне здоровой щекой. Но глаза у нее были немного красны, а веки набрякли – и вот лицо стало уже какое-то другое, утратило строгую гармонию линий и далеко не так красиво, как всегда. Разумеется, я и виду не показал, что это замечаю, но Лаура принимала мои ласки с каким-то беспокойством, словно ее мучили угрызения совести. Видно, с ее точки зрения, флюс – смертный грех.
Да, что ни говори, – своеобразное мировоззрение! Во мне тоже, несомненно, живет языческая душа древнего грека, но есть и кое-что другое. Лауру ее философия может когда-нибудь сделать очень несчастной. Сделать своей религией поклонение красоте – это еще можно понять. Но сотворить себе кумир из собственной красоты – значит готовить себе несчастье. Что уж это за религия, которую может пошатнуть первый флюс, а прыщик на носу способен и совсем уничтожить!
25 апреля
Пора, однако, ехать в Швейцарию, – жара здесь становится невыносима. К тому же еще по временам налетает сирокко, словно жаркое дыхание Африки. Правда, море охлаждает это дыхание пустыни, но все же оно очень неприятно.
На Дэвиса сирокко действует убийственно. Теперь доктор следит за тем, чтобы его пациент не злоупотреблял морфием, и потому Дэвис бывает то раздражителен до крайности, то впадает в полнейшую апатию. Однако я заметил, что даже в состоянии дикого раздражения он боится и Лауры и меня. Кто знает, не начинается ли у этого полупомешанного мания преследования и не грызет ли его подозрение, что мы задумали его убить или утопить? Вообще для меня отношения с Дэвисом – одна из темных сторон моей здешней жизни. Я сказал «одна из ее темных сторон», так как ясно вижу и ряд других. Я не был бы самим собой, если бы не сознавал, что не только коснею, но быстро и явно развращаюсь в объятиях этой женщины. Никакими словами не опишешь, сколько омерзения к себе, и горечи, и раскаяния вызывала во мне вначале мысль, что я так быстро после смерти отца очертя голову ринулся в этот омут чувственных наслаждений! Восставала против этого и моя совесть, и та чуткость душевная, которая мне бесспорно присуща. И мне было так тяжело, что писать об этом я не мог. Сейчас все это во мне притупилось. Порой делаю себе те же упреки, мысли мои остались прежними, но совесть меня больше не мучает.
Об Анеле стараюсь забыть, потому что думать о ней мучительно, а вернее – потому, что без душевного разлада не могу вспомнить этот плошовский эпизод моей жизни! То думается, что я ее не стою, то – что я вел себя как осел и попросту сыграл смешную роль в истории с девушкой, которая ничем не отличается от дюжины других. Это ранит мое самолюбие, и я даже досадую на Анельку. Бывает, что меня коробит сознание вины перед ней, а через какой-нибудь час это мне уже кажется глупым ребячеством. В общем, я не нравлюсь себе таким, каким я был в Плошове, не мирюсь и с тем, каким стал сейчас. Я перестаю четко различать добро и зло, а главное – и к тому и другому становлюсь равнодушен. Это – следствие какого-то душевного застоя. С другой стороны, эта апатия меня спасает: измученный внутренним разладом, я слышу ее голос: «Ну, допустим, что ты хуже, чем был, – так что же? Стоит ли из-за чего бы то ни было терзаться?»
Я замечаю в себе и еще одну перемену. Постепенно я привык даже к тому, что вначале так возмущало мое чувство чести, – и теперь уже довольно хладнокровно бью лежачего. Вот уже с некоторого времени я ловлю себя на том, что делаю тысячи вещей, на которые никогда бы не отважился, если бы Дэвис физически и умственно был не таким немощным Лазарем, а человеком сильным, способным защищать свою честь и собственность. Мы с Лаурой больше не стесняемся и не утруждаем себя поездками в лодке… Никак я не думал, что моя нравственная щепетильность может так притупиться. Правда, я легко мог бы сказать себе: «Что мне за дело до этого жалкого левантинца?», но, ей-богу, я часто не могу отделаться от мысли, что моя черноволосая богиня с бровями Юноны вовсе не Юнона, а Цирцея, прикосновением своим превращающая людей в… (как бы это выразиться в духе греческой мифологии?) …в питомцев Эвмея.
А когда я задаю себе вопрос: «В чем же тут дело?» – ответ равносилен банкротству многих моих прежних воззрений. Да, любовь наша – влечение плоти, а не душ. Но меня не покидает мысль, что современный человек не может этим удовлетворяться. Мы с Лаурой подобны лишь богам и животным, но никогда – людям. В сущности, наше чувство нельзя даже назвать любовью, ибо мы друг другу только желанны, но ничуть не дороги. Будь Лаура другой и я – другим, мы могли бы быть во сто раз счастливее, и не казалось бы мне сейчас, что мне место среди свиней Эвмея. Я понимаю, что любовь, желающая быть только духовной, останется лишь тенью. Но, когда она совершенно без души, она обращается в мерзость. Впрочем, люди, которых коснулся волшебный жезл Цирцеи, наслаждаются этой мерзостью.
Как странно и грустно мне, человеку с душой эллина, писать такие вещи! Но я начинаю скептически относиться и к созданной мною для себя Элладе. Начинаю сомневаться, возможно ли жить давно отжившими формами жизни. И так как я остался правдивым, то и пишу, что думаю.





































