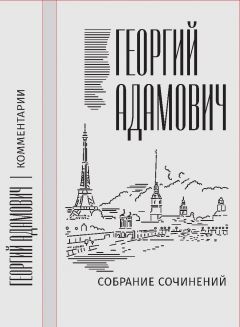
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В попытках доискаться, в чем же самая суть расхождения, является мысль: не главное ли в поэзии – ощущение суеты сует? Голод не оттого ли, что суета сует не питательна? Читаешь стихи, видишь, как они крепко и ладно сделаны, – и недоумеваешь: зачем они сделаны, зачем? Поэзия должна бы на этот вопрос ответить или перечеркнуть, отбросить его. Но все доступные ей средства приблизительны, и в свете недоумения «зачем?» обнаруживается их несостоятельность. Золотая райская птица все равно упорхнет. В руках останется в лучшем случае попугай с красными и зелеными перьями, к тому же и крикливый.
Что же делать? – спрашиваешь себя в сотый раз. Что делать во имя «образа и подобия»? Ради «лучших слов», какие надо в себе найти? Попытка вытравить все украшения, всякого рода побрякушки, не только грошовые, но и отличной выделки, высокой пробы, мало-помалу приводит к белой странице. Никакой мед не пришелся по вкусу, и «се аз умираю», хоть н с блаженным чувством правоты и верности (немножко как у Анненского в монологе Фамиры после состязания с Музой… Как у него это хорошо! А кто этот монолог помнит? Пять-шесть человек. Зато о «многопудии бронзы» известно миллионам).
Подстерегает опасность и хуже, чем пустая страница: естественное, даже в каком-то смысле здоровое стремление избавиться от тирании «невозможности», однако без согласия вступить на путь беспечно-развлекательный, в духе «лимонада», о котором говорил Державин, и говорил, конечно, в насмешку, – стремление это может привести к сочинению стихов, ничем не отличающихся от тех, которые писали майковские эпигоны, вялых, бледных, даже не мертвых, а как бы еще не родившихся, никаких. Преодоление прозы может оказаться на деле осуществлением прозы и ее победой. Если в ответ нет отклика, сетовать не на кого: виноват ты сам, надо все начинать сначала.
У нас в эмиграции есть поэт сравнительно еще молодой, который с темой моей связан, хоть и не знаю, согласился ли бы он с таким утверждением, – Игорь Чиннов. Некоторый недостаток внимания к нему вызван, по-видимому, крайней его «камерностью», и правда, читая его, вспоминаешь иногда остроумное, типично галльское в своей отчетливости замечание Поля Валери: «Ecrire en moi naturel. Tels écrivent en moi dièse». Чиннов пишет в «moi bémol», он приглушает тон с той же одержимостью, с какой Цветаева или Маяковский упорствовали в своих диезах. Но его тончайшие стилистические находки, переливчато-перламутровые оттенки иных его эпитетов внушены, мне кажется, двойным отталкиванием: и от эпигонства, и от пышности, за которой можно протащить контрабандой что угодно. Будто эквилибрист на проволоке, он то сделает шаг, то остановится, переводя дыхание, но равновесия не теряет никогда. Ни одного срыва.
________
Опять вспомню Валери: «будет ли еще в Европе что-нибудь великое», или «будет ли двадцать первый век?» – как спросил себя недавно один из наших русских писателей.
Недоумение относится к творчеству, хотя в наш «атомный» век истолковать его можно шире и тревожнее. Это распространяющееся теперь ощущение иногда сопоставляется с позднеримским, тем, которое запечатлено в знаменитом верленовском сонете – «все выпито, все съедено, plus rien à dire». Но на Рим надвигалась неизвестность, огромное темное варварство, притом таившее в себе не меньше сил, чем было их в классической древности. Сейчас в мире светло: все ясно, все подсчитано, неизвестности придти неоткуда. А стремительное ускорение технического прогресса оказалось для искусства настолько заразительным, что в последние сто лет оно больше сменило форм, больше отвергло, большим увлеклось, больше возненавидело или провозгласило – словом, больше проявило нетерпения и непоседливости, чем за два тысячелетия до того: у Пушкина с Горацием, например, общие черты очевиднее, чем у Пушкина и Хлебникова или у Пушкина и французских сюрреалистов. И нетерпение это, непоседливость эта все усиливается…
В первые, озорные футуристические годы был человек по имени Василиск Гнедов, считавшийся поэтом, хотя, кажется, он ничего не писал. Его единственное произведение называлось – «Поэма конца». На литературных вечерах ему кричали: «Гнедов, поэму конца!»… «Василиск, Василиск!» Он выходил мрачный, с каменным лицом, именно «под Хлебникова», долго молчал, потом медленно поднимал тяжелый кулак – и вполголоса говорил: «Все!» В будущем, вероятно, найдутся поэты более словоохотливые, но это «все!» теперь, с оглядкой чуть ли не полвека назад, представляется символическим. Как продолжить, как развить поэзию? А если невозможно развитие, удержится ли в поэзии жизнь? «Будет ли двадцать первый век?»
Сейчас наши лучшие стихи не пишутся, а скорей дописываются. Георгий Иванов, в сущности, не пишет, а дописывает, искусно смешивая последние обрывки чувств, надежд и мыслей, и притом, слава Богу, без уступок какому-либо модернизму. Но насчет возможности развития своих приемов он, надо думать, не обольщается сам.
________
Возвеличение прошлого в ущерб и в упрек настоящему – позиция банальная и смешная, в особенности если внушена она возрастом. Об этом не стоит и говорить: это – «вы, нынешние, ну-тка!» Но и утверждение, что все эпохи одинаковы и что след, оставляемый в искусстве каждым поколением, равноценен всякому другому, – не менее ошибочно.
В русском прошлом было много хорошего, было и много слабого. Но, обрывая эти свои заметки – в которых столько осталось недоговоренного! – в виде лучшего к ним комментария, в виде ключа к ним и даже оправдания, не могу удержаться, чтобы именно из прошлого не привести короткое стихотворение – шесть строк Баратынского:
Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой,
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли,
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.
Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят: «удивительно», «изумительно». Ничего «изумительного» в этих стихах нет! Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества: это именно возвращение на алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение «образа и подобия». Ни иронии, ни слез, ни картинно-живописной мишуры: никаких симптомов разжижения воли. Экономия средств, то есть начало и конец мастерства, доведена до предела: все стихотворение держится, конечно, на одном слове «строгий». Но слово это наполнено содержанием, которого хватило бы на десяток поэм, вроде какой-нибудь несчастной «Инонии», и целое залито отброшенным назад светом этого слова.
После всего, что пронеслось в памяти перед этим, таким строкам поистине «без волнения внимать невозможно». И хочется сказать: Евгений Абрамович, не первый русский поэт, но в поэзии первый наш учитель, за холод, вас окружавший, за снисходительное, да и то с оговорочками, одобрение пустомели Белинского, дававшего вам понять, что вы – человек отсталый, а он – человек передовой, и потому вправе учить вас уму-разуму, за все, куда докатились мы после вас, за человеческую низость, за «бронзы многопудие», за вашу стойкость, ясновидение и печаль позвольте послать вам поклон, «смиренно преклонить колени», как сказано у другого поэта, «учитель перед именем твоим…».
Или иначе, – будто пьяный Мармеладов с пустым полуштофом в руках, обратиться к поэзии с мольбой: «Да приидет царствие твое!»
Но не придет оно никогда.
Эссеистика
1923–1971
Комментарии <I>
1
На одном из обычных диспутов, где никто никого не слушает и никто никому не отвечает, В. Шкловский возмущался:
– Пушкин! Напрасно вы вспоминаете Пушкина!.. Пушкин не ваш… Пушкин был прежде всего сорванец и пародист. Он был пугачом для «хранителей традиций»…
В этом есть большая доля правды. Вспомним, что и Кузмин обозвал Пушкина «добрым малым».
Но это одна из тех вещей, которые не следовало бы говорить громко в «приличном обществе». Конечно, в Пушкине было немного «рубахи-парня», «души нараспашку», одним словом, немного Сергея Городецкого, – но непонятно, как можно этим восхищаться и это ставить в пример.
Неизменное обывательское сопоставление имен Пушкина и Лермонтова ведь только тем и оправдано, что относительную свою художественную слабость Лермонтов искупил своей средневековой, Савонароловской напряженностью тона, и каждый обыватель это почувствовал. Каждый гимназист это чувствует и влюбляется в Лермонтова, со страхом и трепетом.
Лермонтов часто был пошл, – и скверно пошл, по-юнкерски и по-кавалерийски. Но между «Сашкой» и «Ангелом» нет решительно никакой связи, никаких промежуточных тонов. Разные люди писали их. Болотная муть «Сашки» не заволакивает и не закрывает «неба полуночи».
У Пушкина же «Здорово, Юрьев, лейб-улан» как чуть слышное эхо нет-нет да и почудится то здесь, то там.
Но надо еще раз сказать: в лучших вещах Пушкина этого нет. Этого нет в «Заклинании» («О, если правда…»). Этого нет ни в «Полтаве», ни в печально-прекрасной седьмой песне Онегина. Оттого мы его и вспоминаем.
2
Нельзя не придти в уныние, разбираясь в наследстве, оставленном нам прошлым веком. Романтизм, пройдя через безотчетно-восторженные мечтания времен Руссо и Вертера, в 1830 г. вдруг приобрел голос и повадку среднего парижского адвоката, с остроконечной бородкой, заботами о всеобщей справедливости и принципиальным культом всего, что «grand». История была благосклонна к адвокатам и дала им тему и тональность: в их памяти жила еще фигура человека со скрещенными на груди руками, l’Empereur.
Победа французского романтизма была быстрой и прочной. Потоки лишенных стиля, блестяще-вялых стихов затопили мир. По небосклону торжественно катилось солнце Гюго. Из прошлого вспомнили Шекспира, – и в нем его ошибки и его уродства.
3
За два года до смерти Пушкин писал о «глубоком и жалком упадке» современной ему французской литературы. Несколько случайных строчек Вольтера казались ему недостижимым образцом для французов его эпохи.
Пушкинские стихи с каждым годом становились все суше и все строже, иногда даже ценой потери прежней «неги». Он как бы сдерживал, напрягая все силы, готовое рухнуть здание – стиль искусства. Он избирал наименее песенные формы – шестистопный ямб или белый стих.
После его смерти медленно и верно начинается разложение. В стилистике Лермонтова уже даны шестидесятые и девяностые годы, романы Чернышевского и Успенского, идеология русской общественности et caetera.
Поэзия Тютчева есть как бы история жизни очень здорового сознания в эпидемически-зараженном воздухе, история стилистических побед и поражений (далеко не редких).
Позднее пришли Надсон и Бальмонт.
4
Едва ли надо объяснять, что порча стиля есть желание сделать его вполне свободным: никаких рамок и ничем художник не ограничен. Но «стиль – это человек». Всегда и везде это идет параллельно с назойливой выразительностью чувства и с затмением разума. Разум ведь на то и дан человеку, чтобы знать цену «рамкам».
5
На западе было назидательное явление: Парнасцы. Во главе их стоял человек, если и не гениальный, то проникнутый сознанием высокого назначения поэзии. Они безошибочно определили место индивидуального чувства в искусстве. Они упорно работали над техникой.
И все-таки почти все, что они оставили, напоминает лишь превосходные черновики. Романтизм, из которого они вышли, тяготеет над ними, давит и опутывает их. Они многословны и педантичны. Леконт де Лиль, ни за что на свете не согласившийся бы вспомнить о своем личном горе или радости, легко отдает целые десятки строф на описание чувства Каина или Сигурда. Как будто это не одно и то же?
Исключим навсегда из числа французов прошлого века: Альфреда де Виньи, самого холодного, самого печального, самого одинокого из всех когда-либо живших на земле поэтов (мне хотелось бы еще добавить: и самого взрослого).
И Бодлера, конечно.
6
Банвиль в остроумнейшем «Petit traité» оживленно и настойчиво спорит с Буало, будто со своим современником. Это лучшее подтверждение силы влияния Буало.
Очень часто Банвиль прав: нетрудно заметить и показать ошибку противника, умершего полтора века назад. В блистательной концепции Буало не все, конечно, было продумано и сглажено.
Но Банвиль хочет большей частью подтвердить свои шаткие положения примерами и, захлебываясь, цитирует Гюго.
Тогда невольно вспоминается, что «Art poétique» может быть иллюстрировано примерами из Расина.
На том же вечере, когда Шкловский «восстанавливал» образ Пушкина, часто упоминалось имя Расина.
7
Расин есть прекраснейший из поэтов христианской Европы. Мне хочется еще раз повторить это.
Многим он обязан эпохе: чувством меры прежде всего, какой-то версальской сдержанностью. Но от природы у него был чистый и сильный голос, и ум, как раз настолько острый, чтобы оставить жизнь иллюзиям. Во всем новом искусстве нет ничего равного короткой драме об Эсфири – по ясности и прямоте линий, по глубокой нежности замысла, по «ужасу и жалости».
8
Есть предрассудок, общий почти всем любителям поэтического искусства. Он состоит в том, что с появлением символистов началось, будто бы, возрождение поэзии.
Это не верно. Этого не было ни у нас, ни во Франции. Ранние стихи Бальмонта и Брюсова свидетельствуют лишь о некотором расширении кругозора, – и только. Прежде был «гнет оков», теперь «дрожь предчувствий», – но и только. В чувстве же слова, в честности по отношению к нему был сделан резкий прыжок, – если и не назад, то в сторону. Может быть, это и было нужно, но безотносительно «идеалы» и «грезы» восьмидесятых годов все-таки лучше, чем «стозвонности» Бальмонта.
Декаденты стали употреблять в своем словаре слова: звезда, луч, гора, свеча и другие имена реальных сущностей мира не для того, чтобы назвать их, а чтобы уподобить другим предметам или даже чувствам. Это до сих пор еще не изжито. И теперь еще мы читаем стихи с какими-то неведомыми, вне времени и пространства существующими солнцами и звездами. С декадентами пришел культ метафоры. И это еще не брошено, как пустая забава (имажинисты).
9
Еще о декадентах: лучшим из них, в лучшие их минуты, не хватало простоты и проясненности замысла.
Их искусство напоминает облака. Нет линий и нет архитектуры. Ничего не заострено. Поэтому, в конце концов, они оставляют (и оставили) в сознании равнодушие и лень. Иногда, читая их, хочется спросить: что это значит, это сплетение полуслов и полуобразов, о каких человеческих чувствах говорит оно?
И повторить: «Какой тяжелый, темный бред!»
10
Часто приходится слышать:
– Нет хороших и дурных эпох в искусстве. Никто не прав и никто не виноват. Каждое поколение отрицает наследие предыдущего. Каждый истинный художник должен быть художником-революционером…
И прочая, и прочая, и прочая.
Эта легкомысленная теория имеет и свою формулу: ход коня.
Основная мысль ее (о неизбежности смен) правильна. Действительно, в мире все происходит так. Но вывод о «непротивлении злу» по природе своей нигилистичен. Неужели человеческий разум окончательно решил склониться перед фактами и отказался руководить ими?
– Расина неизбежно сменяет Гюго.
– Знаем.
– Отбросим индивидуальные различия… Первый не лучше и не хуже второго.
– Нет. Если художник не шут и не ребенок, то он знает, что у искусства есть цель. И тогда у него есть некоторый «критерий оценки».
В искусстве были эпохи упадка и просветления. Это не может не помнить поэт первой четверти двадцатого века, определяя свое место в истории.
И совершенно безразлично, разрушает ли он традиции или «топчется на месте». Это зависит от того, чем занимались его ближайшие предшественники: можно ли взять их с собой в дорогу или их необходимо «сбросить с парохода современности».
11
Часто приходится слышать:
– Это тупик! Логический строй речи, прозаический порядок слов, точность языка, отсутствие метафор, молчаливое недоверие к свободному стиху, – весь этот кларизм упирается сам в себя. Это никуда не ведет и не может быть продолжено!..
Иногда, «в состоянии запальчивости и раздражения», случается с этим взглядом спорить. Но в часы спокойствия с ним надо согласиться. Он не только правилен теоретически, – он поддерживается всей историей искусства.
Но это ничуть не меняет дела: идея прогресса и развития далеко не так обаятельна, чтобы ради нее жертвовать нашим лучшим достоянием.
И мы не откажемся ради ее прекрасных глаз от того, что кажется нам установленным не относительно, а абсолютно, в условиях нашего мира, по крайней мере.
12
Красноармейская частушка:
Ах ты, Бог, ты, мой Бог,
Улетел на небо,
Нас забыл на земле
На полфунте хлеба.
Как это прекрасно и как пронзительно! Это лучше, чем «Двенадцать». Если бы Бодлер знал автора этой песенки, он улыбнулся бы ему и сочувственно пожал его руку.
Комментарии <II>
13 (I)
После всех бесед, споров, острот, бездомничества, гаданий, обещаний, после евразийцев, после русского шпенглерианства, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации, оставался человек один, наедине с собой, вне общества, и лишь с насмешливо-ядовитым сознаньицем, что вот и вне общества может еще существовать человек, любить, думать, жить, – все-таки и после всего этого не поздно и не лишнее повторить, что главный для нас вопрос «современности», над личными темами, есть общерусский вопрос о востоке и западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия – страна промежуточная. И, конечно, этот вопрос, будучи главным вообще и везде, остается главным и в литературе. Ответа еще нет, но все, что мы теперь предпринимаем, во всех областях, – есть подготовка материалов для ответа, «дело», досье, где время наведет порядок.
Французская литература блистательна. Какой ум в ней, какая точность в диагнозе эпохи, какая «взрослость»! Одно расхолаживает: она слишком благополучна. Это вовсе не нигилистический, не эстетико-безответственный упрек, а то, что о ней думаешь после всех отдельных оценок. И, на русский вкус, она, за редчайшими исключениями, никогда не переставала быть слишком благополучной и поэтому – в настоящем смысле – слабо-влекущей, мало-прельщающей[10]10
Слово «благополучна» может быть неверно понято. Сейчас французская литература серьезна и по-своему тревожна. Она очень далека от Вольтера, не говоря уж о Поль де Коках. В ней не осталось никакой беспечности: время все меняет, и теперешние французы нисколько не похожи на традиционных французиков, тех, «из Бордо». Но природы не изменишь; остаются четыре стены и потолок, «плотно прикрытая крышка». Очень честная литература, без блудливых заигрываний с «мирами иными», – но скучающая и сухая. По существу – со своими трагедиями. Но для человека, который умирает на ветру и под открытым небом, другой человек, мучающийся «bien au chaud», под шелковым одеялом, с сиделками, с докторами, с ежеминутным выслушиванием пульса, для него и это – благополучие. Два исключения: Паскаль, Бодлер.
[Закрыть]. Уровень?
Да, такого уровня нигде нет, и пройдут еще сотни лет, пока мы чего-либо подобного добьемся, да, вероятно, и не добьемся никогда. Но что с «уровнем» делать в литературе, и на что он нужен! Нужно, чтобы все инженеры умели более или менее хорошо строить мосты, чтобы все столяры умели более или менее хорошо делать столы и стулья, но чтобы все писатели умели более или менее удачно писать романы, а поэты стихи, даже совсем удачно, восхитительно удачно, – это совершенно никому не нужно. Не хочу с легкомысленным или обиженным высокомерием отворачиваться от французов, не спорю, что учиться у них нам полезно, что противопоставить им сейчас мы почти ничего не можем, – но воображение дополняет то, чего в русской литературе сейчас нет. «Прорыв» русской литературы глубже, в воздухе меньше пыли, а все остальное, что тут спорить, слабее и беднее. Но, испробовав этого воздуха, другого уже не захочешь. Как мы долго обольщались, годами, десятилетиями, насчет Европы. «Дорогие там лежат могилы». И действительно, дорогие. От нестерпимой тупости славянофильства нас в Европу и к западу несло почти что «на крыльях восторга». И вот – донесло. И после всех наших скитаний, без обольщений и слезливости, со свободной памятью, как только можно спокойно и рассудочно говоришь: нам сладок дым отечества. Все серо, скудно и, Боже мой, как захолустно. Но вполне рассудочно, ответственно, с сознанием последствий и выводов, хочется повторить: сладок дым отечества, России.
14
Конечно, этот важнейший и существеннейший наш вопрос, за литературой, политикой, историей, есть вопрос «метафизический», т. е. разрешимый неизбежно вслепую, с возможностью целиком ошибиться и целиком прогадать. «Како веруеши?» и чего ждешь от жизни, – предварительно должен был бы спросить себя человек, и только тогда про себя решать. Но хорошо, что уже выметен и безвозвратно разметен по ветру старый, залежавшийся сор: о царе-батюшке, о благолепии исконного быта, о народе-богоносце, с советами или без советов. Если устраиваться, да покрепче и поустойчивее, то уж лучше по-европейски, трезво, с расчетом, разумом и зрячестью, без слащавой блажи и декоративной трухи. Тут западничество остается непоколебленным. Но устраиваться ли? Петр и министры со Сперанским не сомневались, и делали дело. Однако русское «умозрение» сомневалось сплошь, и, собственно, только этим непостижимым уму сомнением и потрясло мир. Устраиваться ли? Две тысячи лет тому назад этим же сомнением потрясло мир Евангелие, – и расшатало бы до основания, если бы сомнение вовремя не улеглось и мир не оправился. Слово, в которое все в этом сомнении упирается, страшно произнести, и не надо, потому что оно беззащитно от логических, «позитивных» нападок, – если только становится целью. А оно во всяком антизападничестве есть таинственная и последняя цель. Не вернуться ли? Куда? – спросит европеец. – О, не в Азию, а много, много дальше… От одного этого сомнения леденяще-эфирными струйками пронизана русская литература, а, кажется, именно в нем ее «дух, судьба, ничтожество и очарование».
15
…И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.
Тема «возвращения» есть скрытая тема всей русской литературы, одинаково значительная от Пушкина, у которого она пробивается сквозь все еще фарфорово-восковое в нем (время, едва ли натура), сквозь все навязанное ему и наносное, по существу ненавистное, сквозь барабанное «люблю тебя, Петра творенье!» – и до Блока, у которого она, как основной фон, присутствует всегда. Это вообще самая лирическая тема человечества, с самыми глубокими откликами на нее. Немцы (Вагнер, и у него особенно предсмертное возвращение памяти Зигфриду) еще питаются ею, но она, словно вода, иссякает на сухой, как будто песчаной почве Франции. Ее во Франции только «литературно обрабатывают». Но это уже не то. Между тем, вся поэзия только на нее отвечает: в поэзии есть жажда воссоединиться, опять слиться, вечно пребыть в полноте, – и в «розовые зори», в «холодеющие небеса» человек смотрит, как в окно «туда». Это, прежде всего, тема верности. Она лежит в глубине легенды о блудном сыне, так неотразимо поразившей все русские сознания, – и ведь для нашей литературы человеческая жизнь гораздо менее была «строительством», чем именно «блудной» прогулкой, которой рано или поздно пора положить конец, от которой неодолимо тянет домой. Толстой именно как блудный сын надевал лапти и брался за плуг.
16 (II)
Как бы это сказать? Бывало в рассказах – в каком-нибудь «Вестнике Европы». Вечер. Станция, где-нибудь в средней России, поезд только что прошел. Холод, май и черемуха. Станционная барышня еще гуляет взад и вперед, вполне традиционная: шестнадцать лет, косы, мечты. Пожалуй, еще и «березки», непременно «чахлые», за палисадником, непременно пыльным. Ждать больше нечего.
Это, разумеется, должно быть в восьмидесятые, лучше в девяностые годы, в «безвременье». Знакомо так, что бесполезно и вглядываться, а кому не знакомо, тот действительно «не поймет и не заметит». Здесь почти все уже пелены прорваны, почти что ничем жизнь уже не держится, это русская глушь, истаивающая, переходящая в елисейские тени; все белое и черное, как в монастыре. (Сюда же: позднее, безнадежное народничество, музыка Чайковского, «идеалы»…)
Потом, – худо ли, хорошо, – все опять пришло в норму. Но без следа такие припадки слабости не проходят, и без причины не случаются. Да и «норма» наша не высокая.
17
Русская литература мало занималась человеком, «собственно человеком», у нее нет навыка и пристальности во взгляде, и теперь, когда первый ее, «прометеевский», героический период закончился, и единственное, что ей остается, это быть с человеком с глазу на глаз, без тяжбы с Богом, она внезапно и ослабела. Она долго спорила с Богом, вернее, не спорила, а взывала, молила, требовала, негодовала, отрекалась, возвращала входные билеты, – и все было гласом в пустыне. Она устала и выдохлась, потому что нельзя все время вести монолог. Слишком долго Бог не отвечал. И она уже стала забывать, с чего начала, что спрашивала, и Леонид Андреев, последний спорщик, просто-напросто громыхал и ухал, совершенно невпопад, скорее из молодецки-спортивных побуждений, чем по внутренней необходимости. Другие (не все, – но почти все) скатились вниз, как на салазках. Они принялись описывать и рассказывать, – как человек пьет чай, как бежит собачка по саду, как «Николай Феоктистович, запахнув байковый халат, вышел на крыльцо и, взглянув на копошившихся у корыта поросят, с наслаждением причмокнул губами:
– Фу ты, ну-ты…».
Или как комбриг Иванов послужил революции, – все равно. В свое оправдание они утверждают, что иначе нельзя: внутреннее через внешнее (мимоходом: по смыслу надо бы «внутреннее-де», иначе не совсем точно; но лучше исказить смысл, чем написать «де»). Хорошо, если «через». Но большей частью ничего не сквозит, и Николай Феоктистович чмокает себе на здоровье губами, на чем дело и кончается. Сквозить может в одной, долго сверленной, упорно буравленной точке: внезапно вспыхивает свет. Но когда на десятиметровой толще быта литература растекается по поверхности тонким масляным слоем, локутинской лакированной картинкой, – ничего не сквозит. Второй, после-героический период русской литературы требует меньше пафоса, чем было прежде, но не меньшего вслушивания, не меньшего всматривания: разрядилось звучание, и душа человека не вся собрана в одном взлете, но по существу только она одна есть предмет, тема и смысл (не психология, конечно, «für sich», а то, что прикрывается иногда во внутреннем опыте; как дом с телефоном или TSF, даже еще молчащим, живее другого дома, – в возможности, – так и литература, если в ней может послышаться нежданный, невидимый отзвук).
18
Есть творчество – внутрь. Оно совершенно не требует вымысла, хотя и над ним можно «слезами облиться». Оно ищет раскрытия того, что дано, и этим довольствуется. Другому, вовне вымысел нужен. Но Толстой на старости лет сказал (в воспоминаниях Микулич):
– Как я могу написать, что по правой стороне Невского шла дама в бархатной шубе, если никакой дамы не было…
Точка. Заповедь: больше нечего добавить. Нравственный закон художника. Не было дамы, значит, не надо о ней и писать, – и черт с ними, со всеми возвышающими обманами и навеваниями снов золотых. Это не значит, что надо писать «художественные биографии», где приятным стилем сообщается только то, что было… Все требует компромисса, если хочет жить. И если вы непременно желаете быть романистом, про даму писать вам придется. Но значительность творчества измеряется тем, насколько вы ею тяготитесь, и насколько все то, что вы о ней рассказываете, управляется не прихотью фантазии, а движением внутренних образов.
19 (III)
А. говорил мне:
– Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали… не высоко, со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, тончайшая, и не видно было раны. Чтобы нечего было сказать, чтобы некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил»… и вообще, чтобы человек как будто пил горький, ледяной и черный напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками.
В дополнение: любопытно, что теперь поэты все больше клонятся к тому, чтобы превратиться в ангелов, – за счет человеческого. Им душен воздух земли, и поднять весь человеческий груз им, очевидно, не по силам. Они и сбрасывают его, после чего без труда достигают «чистейших сфер». Но по старинному глубокомысленному преданию человек больше ангела. «Гёте был пошляк», обмолвился в запальчивости и раздражении один из ангелических русских писателей, – верно, по ощущению, но с ужасающим кощунством в порядке истинной иерархии ценностей.
20 (IV)
«Конец литературы». Книги, конечно, не перестанут никогда выходить. Их всегда будут читать, будут разбирать, «критиковать». Но литература может кончиться в сознании отдельного человека. Дело в том, что по самой природе своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоит только писателю «возжаждать вещей последних», как литература (своя, личная) начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться, и превратится в ничто. Еще: ее может убить ирония. Но вернее всего, убьет ее ощущение никчемности. Будто снимаешь листик за листиком: это не важно и то не важно (или нелепо, – в случае иронии), это – пустяки, и то – всего лишь мишура, листик за листиком, безжалостно, в предчувствии самого верного, самого нужного, а его нет. Одни только листья, будто кочан капусты. Стоит только пожелать простоты, – простота разъест душу, серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко-мефистофелевское и по-мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты и как достичь ее, не уничтожившись в тот же момент! Все не просто. Простота же есть ноль, небытие. «Я – воображаемый, – еще могу написать то, что все вы пишете, но уже я не хочу этого писать. И пусть не говорят мне о бессилии: отказываюсь умышленно, намеренно; сознательно выбираю молчание».
Есть еще объяснение, более наглядное. Литература принуждена выбирать случайную тему и случайные образы, живого человека из миллионов, не схему, а личность. Если же я случайного (т. е. игры) избегаю, то литература гибнет. Представьте себе окружность с радиусами. Литература – на концах радиусов, где поле обширное и необозримое, где тысячи случаев, тем, настроений, тонов, ритмов, сюжетов. Удача выбора, оправданность его во всей этой сложности и есть свойство таланта, и чем безграничнее материал выбора, т. е. чем дальше скольжение по радиусам – тем больше радости в творчестве, свободы в игре. Но бывает желание в душе человека: спуститься к центру («Не хочу пустяков – хочу единственно-нужного»). И мало-помалу поле суживается, радиусы стягиваются, выбор уменьшается, все удаленное от центра кажется в переносном смысле поверхностным, все одно за другим отбрасывается. Человек ищет «настоящих слов», простоты и правды, ненавидя всякие обольщения и отказываясь неумолимо-логическими в своей последовательности отказами. Наконец, он у центра. Но центр есть точка, т. е. отрицание пространства, и в нем можно только задохнуться, умолкнуть. Настоящих слов в языке нет, а передумывать поздно, да и невозможно.
В Пушкине и Толстом многое становится понятным так. Пушкинский «конец» яснее, и отчетливее замкнут он в области литературы. Пушкин иссякал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной тут повинны. Пушкина точил червь простоты. Не талант его ослабел, – нет. Но, по-видимому, не хотелось ему того, чем этот талант удовлетворялся раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск. Что было бы дальше, если бы Пушкин жил, – кто знает? – но пути его не видно, пути его нет (в противоположность Лермонтову). «Полтава» еще струится, играет, «блистает всеми красками». Но в «Медном всаднике» нет уже внутренней уверенности. Рука опытнее, чем когда бы то ни было, но ум и душа сомневаются, и все чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть отдает будущим Брюсовым. А в последних стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть. Оставалась проза. Но кто с таким даром уже соскользнул с одной ступеньки на другую, докатился бы и до конца: это – к великой чести Пушкина, как и всех, кому хоть вдалеке мерещится «непоправимо белая страница», после которой еще можно жить, но уже нельзя писать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































