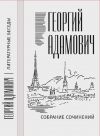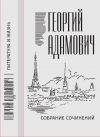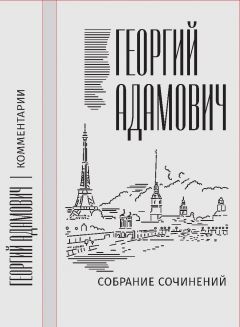
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Комментарии <III>
21
Крах идеи художественного совершенства отразился отчетливее всего на нашем отношении к Пушкину.
Конечно, Пушкин совершенен, более совершенен, во всяком случае, чем другие русские писатели. Но, утверждая это, мы имеем в виду не столько богатство, разнообразие, силу или гармоническую стройность его внутренней, умственно-душевной одаренности, сколько литературную его удачу. Прежде всего, это удача стиля, и читая, например, Толстого после «Путешествия в Арзрум» или поздние, в каждой строчке как бы излучающие какой-то добрый и теплый свет стихи Тютчева (не говоря уже о Некрасове, о Блоке) после «Безумных лет…» – острее всего ощущаешь потерю стиля (т. е. отсутствие единого стержня в речи). Но Толстой не слабее Пушкина, и если бы взглянуть изнутри, думается, и не менее «совершенен». Огня в нем не меньше. Один раз, в «Смерти Ивана Ильича», и он приблизился к полноте литературной удачи, достигнутой притом не отбором и отказом от неподходящих, засоряющих элементов, а включением их всех и мощным, тираническим их оживлением. Собственно говоря, уже с этого момента пушкинский «предел» перестал быть пределом. Но много позже случилось, что литературная непогрешимость, словесное совершенство были как бы «развенчаны». Что в них, на что они? Пожалуй, тут некоторую роль сыграл вечный толстовский вопрос, ко всему применимый, все разъедающий: ну, а дальше что? Вот мы читаем «Безумных лет…» – нечто вполне законченное, закругленное, скорей «вещь», чем «мир». А дальше что? Именно то, что раньше пленяло, теперь стало смущать, ибо этот «дивный состав» все-таки чем-то подкрашен, чтобы даже на цвет быть таким приятным, чем-то все-таки подслащен, чтобы убит в нем был горький, извечный привкус творчества… Нет выхода для «дальше», это не оборванная линия, а круг, все само в себя возвращается, все само себе отвечает.
«Мир скучает о музыке». Ее мало в мире. Но если уж она слышится, то пусть звучит полностью, без отбора, хотя бы и «божественного». Оставьте, хочется сказать. Иллюзии «искусства» рассеялись. Прекрасная вещь – мера, но не всем все-таки стоит ради нее жертвовать.
22
«Грациозный гений Пушкина…». Не помню, кто написал это, много лет тому назад. Но вот совсем недавно Бердяев (которому часто случается «падать с луны») повторил то же самое. Наверное, многие улыбнулись, читая. Бердяев написал даже не «грациозный», а «чарующий», но passons, постараемся сдержать улыбку. Тем более что это правда.
Как ни странно, это правда. Пушкин действительно явление грациозное, чарующее, последний из «чарующих», удержавшийся на той черте, за которой очаровывать было уже невозможно… Это – во всех планах, и прежде всего в плане историческом. Пушкину удалось еще спасти «грацию» от уже закрадывавшейся в нее глупости. И ничего нет более противо-пушкинского, чем утверждения, что «он все знал, все понимал», но нашел будто бы для всех противоречий какую-то волшебную гармонию. Во-первых – это голословно. Откуда вы знаете, что он все знал? Нет никакого свидетельства, никакого следа в том, что он оставил. Во-вторых – это искажает и портит Пушкина, низводя его до уровня тех, которые что-то «знают», но, однако, не очень много, что-то «понимают», но не совсем. В плоскости «знающих», средь детей ничтожных мира, Пушкин нисколько не замечателен, и если «мировые бездны» у Пушкина имеются, то, признаемся, это бездны довольно скромные. Но в том-то и все дело, что «бездн» у Пушкина нет и в помине, что старое, естественное, наивное его понимание вернее гершензоновской ахинеи. Конечно, нельзя, как в учебнике Незеленова, писать «чарующий гений», но надо иначе сказать то же самое, чтобы вновь очарование заняло место мудрости, чтобы вновь хрупкость и зябкость Пушкина, его отступление перед будущим, его безнадежное стремление удержать игрушечно-стройную Россию, которая уже по всем швам расползалась, и отказ принять расползание, хотя бы оно и было неизбежно (здесь стиль, как маленькое зеркало), – чтобы все это выступило вперед по сравнению с «провидцем», с «учителем», с «пророком». Да и на чем он сам стоит, наш «основоположник»? Откуда он взялся? Из ничего, из темной ночи, из екатерининского тусклого рассвета, из державинского мощного варварства, вдруг, каким-то чудом это неслыханное, утонченнейшее совершенство, и опять, сразу вслед за ним, сумерки, мощь, варварство, Гоголь, Достоевский, Толстой… Россия в это время помалкивала да с удивлением посматривала, как эти двести лет, с их очевиднейшим началом и концом, с головокружительной быстротой процесса рождения, развития и смерти, принимаются за всю ее историю, и как это «чудо», непонятно-скороспелое, подозрительное, вероятно, с гнильцой в корнях, – ибо без этого слишком уж непонятное, – навеки веков канонизируется ее главной, единственной, важнейшей вершиной.
Два слова о «гнильце». Вспомните письма Пушкина, пронзительно-грустные, которые так любил Анненский, чувствуя в них, вероятно, «свое». «Женка, женка, ангел мой…». В них Пушкин не притворяется, позы не принимает, он лишь отшучивается, отсмеивается, не оглядываясь, пятится назад, нехотя балагурит, как будто зная, что все равно все пойдет к черту: Россия, любовь, стихи, все.
23 (V)
За что вы любите Толстого?
Вопрос был предложен мне с оттенком недоверия в голосе. Ответив уклончиво, я задумался. За что? Узко-эстетически, в плоскости «нравится», мне далеко не все у Толстого нравится. Язык? Да, конечно, язык у него несравненный, но нельзя же любить Толстого за язык, это ведь не Лесков. Ощущение жизни? Да, – но оно мне чуждо (при всем желании не говорить о себе, этого не избежать, когда хочешь хоть что-нибудь сказать не совсем общее; убрать себя со своей дороги трудно; здесь «я» не цель, а средство, не объект, а «призма»; это приходится объяснять «во избежание досадных недоразумений», устраивать которые всегда находятся добровольцы-любители). Многое другое вспоминал я, и, признавая «да, и это», все же чувствовал, что главное обхожу.
Помогла случайность, мелочь. Конечно, это не было открытие, просто я снова понял то, что знал и раньше. Попался мне на глаза в тот же вечер номер «России и Славянства», юбилейный, ко дню «русской культуры». Чудовищный номер по количеству торжествующе-самодовольной фальши, густо залившей его юбилейные страницы! О бальмонтовском «Слове о полку Игореве» не стоит говорить, да этот нелепый «перевод» и не относится к делу. Но рядом, со всех сторон, особенно на первой странице: русская культура, русская государственность, заветы Петра, традиции Сперанского, наша миссия в эмиграции, наш долг перед родиной, Пушкин, Достоевский и Суворов, даже Суворов… И ни разу, нигде нет имени Толстого! Как это хорошо! Как хорошо, что его имя невозможно в этом ряду! Как хорошо, что нельзя устроить ко дню русской культуры заседание в Трокадеро, посвященное Толстому, – а если устроить, то получится или такая ложь, или такой конфуз, что горько придется устроителям раскаиваться. А ведь Толстой это все-таки Россия, только не такая, как ее представляет себе Струве. Что говорить, и Пушкин в действительности не тот, как у Струве, и Достоевский не тот, но они беспрепятственно поддаются стилизации, они безропотно участвуют в маскараде, они даже соседству с Суворовым не очень удивляются. А в Толстом правдивость так сильна, что его не сломаешь. Он и после смерти «не может молчать», и поэтому на юбилейном празднестве, с демонстрированием наших национальных слав, лучше и благоразумнее сделать вид, что его в России никогда и не было.
Повторяю, это мелочь. Ну что такое какая-то парижская газетка, что такое «день русской культуры» с речью профессора Кульмана и хористками в кокошниках? Но Толстой всюду таков, в малом и в великом.
Надо бы нам условиться, что без него русской культуры не будет, – хотя и совсем неясно еще, как его в какую бы то ни было культуру включить. Но лучше хоть что-нибудь с ним – и без бутафории, разумеется, – чем любое благоустройство, его будто бы «преодолевшее» и успокоившееся на Суворове. Здесь сразу, если продолжить мысль, возникает другой вопрос, глубже и больше – о Христе, который до сих пор противостоит всей культуре «огромной и тревожной тенью».
(Струве, совсем как Ленин, рассчитывает, по-видимому, что «глупость спасет мир». Едва ли! И нельзя же Россию «подмораживать» без конца. Если она и не сгниет, то окоченеет).
24 (VI)
В судьбе и деятельности Толстого одно обстоятельство смущает.
Им владела навязчивая идея, будто в каждом человеческом поступке, в каждом слове есть доля лицемерия. Он вскрывал это лицемерие с неутомимой настойчивостью, доходя иногда до ясновидения и находя ложь там, где ее никто никогда не замечал. В сущности, это «совлечение покровов» есть его главный художественный прием, тот, которому он больше всего остального обязан репутацией «сердцеведа». Он и вправду знал людей, как никто. Но не случалось ли ему твердить, будто по инерции, «ложь, фальшь, притворство!», когда никакой лжи не оставалось больше? Ему верили потому, что он обладал неотразимой, гипнотической убедительностью. Но это уже был бред, маниакальная подозрительность, а не зоркость.
В лицемерии он заподозрил и Бога, только церковного, конечно. Он отверг обрядность, ибо «зачем это Богу нужно?». Неужели, если есть Бог, если Бог это Бог, ему требуются какие-то ухищрения, штучки, фокусы, и нельзя к нему обращаться открыто, просто, как бы «с глазу на глаз», без проводников и посредников? Цепь необходима в спиритизме, для вызова духов, но неужели нужна она и Богу? Затем, неужели Богу не противны славословия, воскурения фимиама? Ведь вот даже ему, человеку, Толстому, это противно, и, лишь по слабости своей иногда этим наслаждаясь, он знает и чувствует, что наслаждаться нечем. Зачем вообще Богу вера в него? Богу должны быть нужны только дела… Религия Толстого вся вышла из этого ощущения, протестантского в основе и при всей своей прямолинейности чрезвычайно значительного, чрезвычайно «серьезного». Есть вообще в облике Толстого, – как в позднем протестантстве, – какое-то глубоко человечное, очищающее и честное величие… Но, требуя от Бога прямоты, Толстой уничтожил его.
Веры у Толстого нет. Есть только вопрос, «порыв» – без ответа. Ищущим Бога он не дает ничего.
Так путь к правде оказался путем к небытию… Не ошибся ли Толстой в расчете? Не бросил ли он вызов вместе с «цивилизацией» и всему мировому строю, в котором доля условности допущена? Может быть, Богу нужны «штучки»? Может быть, Бог, вообще-то мало во что вмешиваясь, склонен все же скорей поддержать «общественное мнение», нежели тех, которые требуют невозможного? Толстой с этим никогда бы не согласился, но как знать, не остается ли он – и с ним вместе далекий его Учитель – в ужасном и безысходном одиночестве?
25
Из писем А.
«Сен-Санс рассказывает в своих воспоминаниях, как в девяностых годах к нему приехала какая-то дама, американка… Разговор шел о музыке. Сен-Санс посмеивался над вагнеристами, над их крайностями. Для иллюстрации какой-то своей мысли он подошел к роялю и взял два аккорда, два простых тризвучья, минорное и мажорное, те, с которыми просыпается на скале Брюнгильда. “Здравствуй, солнце!”.
Дама побледнела и упала в глубокий обморок.
Сен-Санс смеется. Это ведь самые простые аккорды, они у него самого встречаются десятки раз в том же сочетании. Ему нечего возразить… Но где она, эта дама? Жива ли она еще? Слышит ли она еще то, что слышала тогда? Я хотел бы поцеловать ее руку».
«Может быть, литература вовсе не то, что мы с вами думаем. Может быть, правда, нужно “прорабатывать характер”, “искать связи с эпохой”, “очищать стиль”, “идти вперед”? Вообще, с пользой работать на словесной ниве, и только. Понимаете ли, мой друг? Без иронии? Работники вправе сердиться, у них отличные доводы, за них надежные союзники. Они вообще во всем правы. Но тогда, будем откровенны, – я плюю на литературу».
«В Москве холодно, хотя по календарю и весна.
Послушайте, не мешайте им. Ну, допустим, они провалятся, допустим (хотя, по совести, не думаете же вы, что они провалятся окончательно, во всем?). Ну, а мы – не интеллигенция, а шире, в “мировом масштабе”? Вы все бережете, вам всего жаль. Благодарите Бога за то, что еще все так вышло, могло быть гораздо хуже и только по какому-то необъяснимому попустительству судьбы не стало хуже. Не мешайте им, я забочусь не о них, а о вас, в особенности же не смейтесь над ними. Тяжкий млат дробит булат, вы брезгливо кривите губы от эстетической вульгарности, а в сущности, как Джиоконда в удивительных примечаниях Флоренского, от того, что раз все погибло, так отчего же не улыбнуться на всякий случай, не пококетничать с роком? Правда? Их богохульства – ничего, Бог не обидится. Не хуже, чем “Иисусе, Иисусе” прежних богаделок. Все ничего, потому что в верном направлении. Простите, это плоско, но не морщитесь, я пишу против себя самого, в редкую, редчайшую минуту зрячести самоустранения».
«Не надо говорить о смерти. Это заразительная, мелко-заразительная тема, она соблазняет в людях их слабость, она им по вкусу, как что-то сладковатое и снотворное… Начинается “умирание скопом”, не опасное, но довольно-таки мерзкое, в качестве зрелища. Вы думали, они ужаснутся, а они восхитились: “ах, как мило, ах, как увлекательно”».
«Конечно, стихи лучше печатать без картинок на обложке. Но мне все-таки хотелось бы одну обложку нарисовать.
Надо, чтобы сверху было много белого места, пустого, как небо. А внизу, неясно, как после землетрясения, но не совсем так, чуть-чуть иначе, страннее, одно на другом, огромная расползающаяся груда – камни, деревья, какая-нибудь невозможно-прекрасная южная пальма, дома, мосты, высокий гнутый электрический фонарь, как ночью, подъезжая к большой станции, книги, куклы, руки, чье-нибудь спокойное и мертвое лицо… и вдали, опустив голову, стоит человек и на все это смотрит.
Нарисовать бы я не мог, впрочем. Вышло бы, вероятно, глупо и безвкусно. Я вижу внутренне, но не вижу внешне».
«Не выношу Владимира Соловьева. Не выношу скорбно-шарлатанской наружности его, “с выражением на лице”, при взгляде на которое совестно становится за Соловьева, за эту смесь библейского апостола с фокусником; убрал бы я ему эту прядь со лба, подрезал бы одухотворенную бороду, спрыснул бы одеколоном, вот бы и посмотрели вы тогда на вашего всемирного пророка. Не выношу его гладких и возвышенных рассуждений, не выношу его холодно-трупных стихов, несмотря на Вячеслава Иванова – “за то, что оба Соловьевым таинственно мы крещены” – и безгрешного Блока… Послушайте, ведь можно в стихах о чем угодно болтать, можно каких угодно туда бездн и мраков набить, но это еще не значит, что стихи об этом! Здесь не “как” и “что”, а полное слияние. Ведь так пишутся трактаты о садоводстве, а потом совершенно так же о машиностроении, и действительно это вот о садоводстве, а это о машиностроении. Но стихи, литература другое дело, и поминай он Мадонну сколько хочет, он говорит только о каких-то поверхностных мелочах! И этот-то элегантный безумец осмелился еще третировать Некрасова, свысока, “обманул глупцов”, “расчетливый обман”, “шумящий балаган”, подумаешь! Некрасов, правда, ничего не понимал, кроме народушка и картишек (кстати, Кони как-то на самой старости лет в “Доме литераторов” рассказывал, озираясь пугливо по сторонам, чтобы не подслушала “история”, любопытнейшие штучки о Некрасове, и кое-что в другом роде о других, еще знаменитее). Но Некрасов промычал, не находя слов, о великих, действительно мировых трагедиях, как глухонемой, и за сердце хватаешься, читая его, от высоты и ужаса полета, от отсутствия воздуха. В черновике и в проекции Некрасов величайший русский поэт. А этот сочинял свои мистические мадригалы и думал, что это поэзия.
Еще – шуточки. Уж тут и вы согласитесь. Вообще-то шуточки противны, везде и всегда, но соловьевские, когда он с другими своими бородатыми конфрерами переписывается в стихах, и все его пародии, это уж свыше сил. Помните, “Христос никогда не смеялся”?».
26 (VII)
Есть древняя легенда, которую все знают. Но, зная, будто сложили на полочку, где лежат прочие «ценности» – для обозрения по воскресеньям и праздничным дням.
Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир «вырвался» к бытию против его воли, из его полноты, рискнул пожить за свой страх, на авось, на будь что будет. И вот выясняется, что ровно ничего не «будет». Смерть непобедима, несчастья и страдания неустранимы, их будет все больше и больше на «пути прогресса», потому что пути нет, прогресса нет, и всякое «вперед» есть только дальнейший прыжок в пустоту, без малейшей надежды на что-либо опереться, чего-либо достичь… Конечно, это удивительное сказание с удивительными выводами, которые из него сами собой делаются, не для всех на «полочке ценностей». Оно многих помучило, но его следовало бы предложить на ежедневное размышление всем людям, как «пробный камень» внутреннего опыта, как духовное упражнение. Оно опровергается только изнутри, не умом, а каким-то согласием со всей жизнью, «солидарностью» с ней до тех ее слоев, которые невозможно заподозрить в своеволии. Но сомнение остается. А что, если все это обман, иллюзия, – это слияние с природой, эти летние полдни, когда все видимое, окружающее так спокойно и счастливо, и почти одушевленно приглашает и человека к покою и счастью, – если все это обман?
Закаты не обманывают, – куда они зовут? Поэзия не обманывает, – о чем она? Откуда она и куда?
Отчего в шестнадцать лет, «на пороге жизни», человеку всегда так безотчетно-тревожно, и так понятны ему закаты, так близка ему поэзия, как будто именно у порога, «оттуда», его в последний раз призывают оглянуться, возвратиться, одуматься? А потом человек становится инженером или поступает в банк, и уж до самой смерти ни на что не оглядывается… И вот в душу закрадывается соблазн, поистине «последний»: не надо ли «погасить мир», т. е. на это работать, потому что всякое подлинное «вперед» лежит лишь по направлению назад, а если упорствовать и заниматься «строительством» в любом стиле, в любом вкусе, то никогда ничего, кроме умножения бедствий, не получится. «Могий вместити, да вместит». Принципиальные и прирожденные оптимисты ничего не подозревают, вперед без страха и сомнения, и точка! Их опыт не имеет никакого значения ни в жизни, ни в искусстве, потому что они просто-напросто не знают, в чем дело, «не подозревают». Если им растолковать, они ответят: «Полноте, батенька, чепуха-с!». (Оттого этот человеческий стиль «батенька» и так далее, во всех его современнейших и утонченнейших разноязычных разновидностях, невыносим до дрожи, до тошноты, как кощунство… И рядом так хороша «задумчивость».) Но тот, кто услышал «голос оттуда» и справился с ним, действительно достоин быть учителем человечества. Если даже все остается гадательным, как в пари Паскаля, лучше наугад решить «да», чем наугад сказать «нет», – а здесь, в этом случае, не только лучше, но мужественнее, прекраснее, милосерднее, труднее, не знаю, как сказать еще…
В сущности, в этом все таинственное обаяние Гёте. Другие или плохо слышали, или – как русская литература, – не окончательно справились.
27 (VIII)
Кажется, тайна писательства заключается в ощущении веса слова. Не только в составлении фразы, где тяжесть имеет огромное значение и, при одаренности пишущего, интонационно приходится там, где требует поддержки смысл. Не только в умении согласовать это распределение веса с видимо-естественным течением речи.
Но еще и в том, больше всего в том, что слово падает на точно-предчувствуемом (нельзя сказать – отмеренном) расстоянии, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишком близко – оно безжизненно, слишком далеко – оно пусто, и оттого, пожалуй, настоящие писатели так редко бывают многоречивы, что напрасное разбрасывание слов им претит. Безошибочность же первоначального «толчка», если и не всегда требует вдохновения, есть все же результат напряжения всего существа – ума, сердца, воли. «Набить руку» тут нельзя.
Сейчас почти никому не даются стихи. Два-три имени, и конец. Найдется ли и два-три? Если продолжить ту же метафору, похоже, что потеряна из виду линия, на которой слово должно падать. Она стерта, затоптана, и ни талант, ни техника не помогают – слова падают то далеко, то близко. «Пишите прозу, господа», – сказал когда-то Брюсов. «Пишите прозу, господа», – говорит сейчас поэтам само время. Дайте стихам «отдохнуть», как дают отдохнуть земле.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?