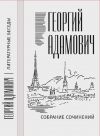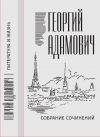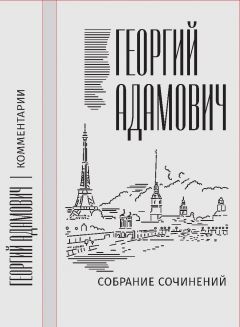
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Комментарии <IV>
28
Проблема критики. – О критике много говорят. Научная, импрессионистическая, формальная, какой метод, какая цель. Все это бывает любопытно. Но пожив, подумав, понаблюдав, и нисколько не повторяя Экклезиаста, видишь, что подлинная проблема критики, реальная, на самом деле, – совсем другая. Теории рушатся: Буало, Лессинг, Тэн, прах… Учитель гимназии в роговых очках пренебрежительно роняет: «Taine, qui ne comprenait absolument rien…», и он спокоен, ему нельзя сейчас ничего возразить. Критика поумнела, она не боится печально-неизбежного родства с рецензией, не уклоняется от оценки, пристрастной и спорной, не играет больше в научность, не «притворяется». Есть, с одной стороны, писатель, человек, сочинитель, быть может, не Бог весть какой, но для которого его писания – все, вся жизнь. Он обливается слезами над вымыслом. Он не знает, что написал, он знает только то, что хотел написать. Он спасается в литературу от небытия, он ощущает осуждение, и даже не полное одобрение, как стремление его в это небытие столкнуть, – будто с мчащегося поезда. На другой стороне – читатели, – пятьдесят тысяч человек, скажем. Для них, конечно, приятнее и полезнее, чтобы им не втирали очки и не старались их уверить, что плохое – хорошо, бездарное – талантливо. Но пользы и приятности каждому в отдельности из них достается мало. Им, в сущности, почти безразлично, что говорит критика.
И вот, возникает вопрос: что же, нужно говорить правду, думая о пятидесяти тысячах мелких мимолетных удовольствий, которые на противоположной стороне складываются в тяжелый удар, настолько иногда тяжелый, что читатели о длительной его «горестности» и понятия не имеют; или не говорить, не договаривать правды, ценой пятидесяти тысяч обманчиков, раздраженьиц и недоуменьиц покупая одно удовлетворение – пусть даже одно спокойствие. Кто решит? Рокфеллер до сих пор думает, что лучше: раздать по доллару полмиллиону человек или осчастливить одного только человека, но зато осчастливить вполне. И Пушкин сказал, – отвечая на вопрос, зачем хвалит он Дельвига, кажется: «литература исчезнет, дружба останется».
В плоскости литературной вопроса нет: надо говорить правду. Но в литературу врывается жизнь со своими убедительными, страстными и серьезными доводами, – и, пожалуй, жизнь одерживает верх.
Все-таки надо было бы когда-нибудь – для литературы – написать статью, начав ее приблизительно так: «ну, поговорим откровенно… такой-то, такой-то, такой-то». Кстати, выяснилось бы, пожалуй, что много есть у нас и действительно хорошего, не различимого теперь в устоявшемся, однотонном тумане устоявшихся, однотонных похвал.
29
Попытка доказательства бессмертия души. – Человек сидит, смотрит в потолок, бездельничает, думает. Вот я пишу сейчас эти слова. Кто-то их будет потом читать. Если в миллиарды миллиардов веков мое сознание обречено жить только срок человеческой жизни – т. е. мгновение, – то какое же вероятие, что вот сейчас, как раз сейчас, настал черед этой неизмеримо-малой доли неизмеримо огромного времени, – как будто угадана цифра из бесконечного ряда их? Для меня, пишущего, для вас, это читающего. Не естественно ли предположить, что если я себя сознаю сейчас, то я не мог не быть всегда прежде и не могу не быть всегда впоследствии, ибо – еще раз, – как же допустить, что в промежутке между вечностью за мной и вечностью передо мной именно сейчас длится-мелькает мгновение моего существования? Не cogito ergo sum, а ergo был и буду всегда. Нельзя найти песчинку в Сахаре, не перебрав всего ее песка. Это иногда поражает, как ясновидение.
30
«Обратите внимание, евреи в оркестрах всегда играют на скрипке или на виолончели… Что им тромбоны, например? Им надо, чтобы скрипка пела, изнывала, изнемогала, им выплакаться хочется».
Эти слова я слышал от одного знаменитого музыканта, редко-умного человека. Потом, вспомнив по какому-то поводу о рожке пастуха над умирающим Тристаном, он искренно и просто сказал:
– Нет, я теперь слушать это больше не могу.
Его вкус, его взгляды были мне давно известны. Они не могли меня удивить. Но удивило их спокойно-стойкое, какое-то «непоколебимое», не подлежащее пересмотру подтверждение. Помимо музыки, – о которой кто же решится с ним спорить, – в чем дело? И почему содрогается он, рассказывая о евреях с плачущей скрипкой в руке? Подумав, я вспомнил: он верит в Бога, он не сомневается ни в чем, – в сущности, он даже не верит, – не то слово, – он знает, что Бог есть, что церковь во всем права, это тоже для него «не подлежит пересмотру»… И сразу все стало ясно. Ну конечно, о чем же тогда плакать, и не кощунственно <ли> в безнадежности своей звучит тристановский рожок, если главное известно – и решено положительно, – если отпадает единственная и вечная причина всей человеческой тоски, и в будущем не тьма, а одни только желаннейшие соединения, слияния, одна только полнота. Не от теперешних же, не от здешних несчастий плачет человек, не от какой-нибудь житейской неудачи изнывает скрипка в руках бывшего гомельского аптекаря, а бессознательно от тамошней неизвестности, от предчувствия лопуха на могиле, от «стенки смерти», которую ничем не пробить. «И в ночь идет, и плачет уходя». О непробиваемой ничем, никак, никогда, стенке вспоминает тристановский рожок, обещая и обманывая, утешая и безжалостно рассеивая иллюзии… И, конечно, для счастливых «божьих детей» это звуки ненужные, чуждые, греховные.
У них иной строй, иной тон, – иной мир даже. Только как же решаются они со своей недоступной, надменной высоты осуждать бедных гомельских и житомирских скрипачей, и всех вообще, обойденных, не виновных в своей отверженности, в неумении верить и знать? Плачущие скрипки по-своему это неумение искупают.
31
Когда человек слышит: «а есть а», он почти всегда, невольно, не отдавая себе отчета, хочет сказать: «нет, а есть б…». Так возникают разговоры, и, думается, «дух противоречия» есть одно из неискоренимых человеческих свойств.
Дело, по-видимому, в том, что «а» никогда не бывает вполне «а», что во всяком нашем отвлеченном суждении есть приблизительность, есть – по Тютчеву – ложь. Слыша и чувствуя это, человек стремится исправить ошибку и, сам того не видя, делает ошибку еще большую. Но согласиться с предложенным суждением он действительно почти никогда не может.
32
Ницшевское замечание о «писании кровью» – как оно ни опошлено, – сохраняет все-таки всю свою глубину и всю силу.
Даже больше, – это непреложный закон всякого творчества; и если Владимир Соловьев со всем своим умом и талантом так померк для нас теперь, то именно поэтому: нет крови, одни только чернила. Нельзя за это упрекать, но нельзя этого и исправить. Ум ведь не отделим в подлинно-живом существе от сердца или воли, и совершенно так же в подлинном живом литературном творчестве мысль связывается с интонацией и внутренним ходом каждой фразы: «Книга написана прекрасным, образным (или еще лучше: “сочным”) языком» – есть великий абсурд, если речь идет о настоящей литературе. И когда привыкнешь читать писанное кровью – Толстого, Розанова или Блока – то становится невозможно чтение «просто статьи», «просто стихов», как бы они блестящи ни были. Ничему в них не веришь. Написано чернилом – обращено только к рассудку: все остальное в человеке недоумевает.
Много хуже, впрочем, писания «под кровь», бесчестные и бесстыдные подделки.
Комментарии <V>
33
История литературы – летопись легкомыслия и непостоянства. Нет, кажется, ни одного течения, ни одной теории, которая через двадцать пять – тридцать лет не показалась бы вздорной и плоской.
Сейчас новые беллетристы пишут большей частью «под Пруста»; стараются, по крайней мере… Крайне вероятно, что через двадцать пять лет будут ужасаться тому, что нам сейчас нравится. Опять будут восстановлены в правах вещи и внешний мир. Опять будет считаться признаком изящного тона – писать короткими фразами. Найдены будут умные, язвительные, временно-неотразимые доводы против психологизма. Одним словом, мы останемся в дураках… Не через двадцать пять лет, так через пятьдесят, не в том виде произойдет переворот, так в другом. Но произойдет наверно.
Единственный вывод из всего этого: надо слушать голос книги, то, что за словами, после слов и что переоценке не подлежит. Не имеет никакого значения, каковы приемы автора. Конечно, писатель, делающий подлинно-творческое усилие, почти всегда бывает и формально нов, т. е. бывает в согласии с временем: это дважды два четыре, не стоит объяснять… Но все-таки важно только то, что остается в памяти, когда остов книги забыт, когда тускнеет фабула и облик героев: если не остается ничего, значит ничего в книге и не было, как бы «блестяща» она ни казалась. Все можно подделать, кроме этого arrière-gout, безошибочно определяющего ценность творчества, отражающего то, без чего литература есть всего лишь праздная пошлость (Метерлинк в ранней молодости очень верно сказал: «развлечение для дикарей»).
34
Толстой, в «Анне Карениной».
Анна, перед самоубийством, едет в коляске по московским улицам, и растерянно-сомнамбулически смотрит по сторонам. «Тютькин куаффер. Je me fais coiffer par Тютькин». Этот Тютькин в свое время многих поразил.
Но теперь он поражает по-другому: зачем это понадобилось Толстому, в конце великого и грозного его романа, когда в последний раз склоняется он над своей жертвой, когда тема отмщения звучит как какой-то средневековый орган, на этих предельных для человеческого искусства страницах, – зачем понадобился ему этот верный, и пусть даже в свое время смелый, но все-таки дешевый, непрочный эффект. Ну да, конечно: подмечено и найдено безошибочно. Но с тех пор ведь все научились так подмечать, и неужели Толстой не должен был пренебречь тем, что всякому стало так легко доступно? Для чего это щегольство деталями, – раз уже и без них все беспощадно-ясно, и никакой Тютькин к сути дела ничего добавить не может, а, наоборот, только рассеивает внимание.
Когда-то я об этом говорил Бунину. Он сразу, с живостью согласился: «да, да, конечно» – и переменил разговор, будто не желая разглядывать пятен на солнце.
Нас во многом упрекнет будущее. Но кое-что мы все-таки нашли такое, от чего не откажемся никогда, как никогда никто нас не убедит, что не были мы правы: сознание тщеты и суетности всего, что не окончательно неустранимо в литературе, желание покончить раз навсегда со всеми маленькими «красотами», которые заслоняют главную, единственную красоту, недоверие к образной яркости, к образам вообще. «Я лютеран люблю богослуженье». Говорят, лютеранство убило религию; может быть, это убивает литературу, ограничивает ее область, во всяком случае, – и чем дальше вдумываешься, тем круг все теснее. Но все-таки «я лютеран люблю богослуженье», чистую, позднюю, трагическую простоту его.
35 (XI)
Как можно не видеть, что христианство уходит из мира!
Доказательств нет. Но ведь не все же надо доказывать. Достаточно вглядеться повнимательнее: позднее утро сейчас, солнце взошло уже высоко, – и все слишком ясно для общих восторгов, испугов и надежд. «Тайна» осталась на самых низах культуры, иногда на самых верхах, но в воздухе ее нет, и нельзя уже миру ее навязать… Будет трезвый, грустный и умный день.
Мережковский кричит: «кем же надо быть, чтобы оставить Его в эти дни!» Увы, увы, это лишь полемический прием, один из тех, без которых в таких делах лучше было бы обойтись. Ответ несомненен: кем надо быть? – подлецом. Возражающий посрамлен – и умолкает. Но дело не в оставлении «Его», не в личном предательстве, о нет: можно быть верным, не надо быть слепым, можно ужаснуться грядущей пустоте в душах, бессмысленно все-таки ее отрицать… И честнее, мужественнее подумать: чем же пустоту заполнить? «Что делать нам и как помочь?» Мережковский брезгливо упирается, опасливо прячет голову в подушку, как ни в чем не бывало сочиняет новые догматы: старых ему, очевидно, мало… От уверенности, что обладает истиной, он-то, может быть, и предает ее: в темных углах, по забытым душевным убежищам еще прячется она, отступая, бросая все за собой, и не до догматов ей! Страшно сейчас христианину в мире, страшнее, чем было на аренах со львами, – тогда все рвалось вперед, а сейчас впереди ничего. «Осанна сыну Давидову»: последние пальмы, последние слабеющие руки тянутся вслед Ему, и уж какие тут догматические увещания и споры, будто на вселенских соборах, если исчезает дух, тема, образ.
«Мы свой, мы новый мир построим». Лично – отказываюсь (не о себе; «я» предполагаемое). Остаюсь на той стороне. Но не могу не сознавать, что остаюсь в пустоте, и тем, другим, ни в чем не хочу мешать. Хочу только помочь… Удивительно, что Мережковский не захотел понять «потустороннего» риска христианства и, пристыдив воображаемого собеседника-подлеца насчет
«оставления Его», не заметил, что даже и в религиозном плане, с допущением проникновения во всякую мистику и метафизику, ставка христианства может быть проиграна. Ибо в конечном счете «подлец» говорит: «не люди, – Бог против Него; не может быть, чтобы сотворивший мир хотел испепелить его, не может быть, что этот вызов всему всемирному здоровью или благоразумию был в согласии со всемирной жизненной волей…» И так далее. И тут же страшные евангельские цитаты: блаженны нищие, – отчего именно нищие? блаженны плачущие, – отчего только плачущие? Отчего неудачники блаженны вообще? И непонятный, навсегда непонятный рассказ о блудном сыне, окончательно, если вдуматься, взрывающий все «вверх дном»! И богатый юноша, который не напрасно же «отошел с печалью». И, наконец, последнее: «кто не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни, тот не может быть Моим учеником»! «Ужасное» одиночество Христа тогда и обнаруживается вполне. Не только, кажется, люди оставляют Его: природа мира отказывается подчиниться Ему. Последний, предсмертный крик на кресте: «Боже мой, Боже мой…» еще не потерял значения, и уж если быть Ему верным, то «il ne faut pas dormir pendant ce temps-là», как дрожащей от волнения и любви рукой писал Паскаль. Надо согласиться на все: даже и умереть с Умершим.
Еще гораздо страннее (если бы не была так давно знакома) – добродетельная новоградско-утвержденская модернистическая кашка из приторного нестеровского православия и социалистических «достижений», вся эта вообще революция на лампадном масле. Доказать и тут ничего нельзя. Но вся фальшь, которая есть в Достоевском, – в «Дневнике писателя» больше всего, хотя и в письмах, и даже в «Карамазовых», – и во всей этой государственно-православной литературной линии, с отклонениями то к Соловьеву, то к Леонтьеву, здесь сгущена до нестерпимой отчетливости. Народ наш – Богом отмечен, ризой пречистой одет, царя и церковь святую чтит, однако «ружей бы нам побольше» (увы, Достоевский). Главное: они хотят «строить», реально, во времени и истории, на земле, – и не чувствуют неумолимого «или-или», разделяющего христианство и будущее. Если иногда и чувствуют, то конфеток новейшего производства у них припасено достаточно, чтобы внезапную эту горечь заглушить.
36 (XIа)
Не опровергнуто христианство, конечно. Но «испустило дух», выдохлось, изошло за два тысячелетия всеми своими силами и всей страстью. Сейчас мы смотрим вслед ему – смотрим и не можем оторвать глаз. «О, свет вечерний»! Единственный свет, никогда не было такого, надо бы на колени стать, провожая его.
Но слепота ничему не поможет. Уже и подумать нелепо, чтобы можно было опять вдохнуть его в кровь человечества и поднять, например, какие-нибудь новые крестовые походы. Кровь по-другому кипит теперь, о другом кипит. Сейчас люди это лишь до-любливают, до-верывают, до-думывают, и если в некоторых душах христианство действительно будет (или должно бы) жить вечно, то лишь в разбитых и растерянных душах, таких, которых жизнь хорошенько потреплет перед тем… В выбывших из строя, одним словом. Тогда они вспомнят: «блаженны нищие» – и поймут. Удивительна в Евангелии именно эта победа над безнадежностью: нет положения, из которого не было бы выхода, по Христу, нет «дна» вообще. В этом смысле – нет смерти.
Кстати, у Мережковского приведено незаписанное, отвергнутое церковью изречение, – в дополнение к тому, известному, что «если двое соберутся во имя мое…»:
– Где и один человек, Я с ним.
Будто торопливая, запоздалая поправка, в предельно-ясновидящем и милосердном понимании того, что иногда нужно человеку… Церковь должна была ее отвергнуть. Но все очарование христианства в этих словах. Нечего больше сказать.
37 (XII)
Веяние подлинности. – Наука ничего о Христе не знает. «Il est insaisissable», – заметил недавно осторожный Рейнак.
Но избыток осторожности умерщвляет самую возможность знания… Случается, что перечитывая Евангелие, останавливаешься и, пораженный, чувствуешь: этого не могло не быть. Есть изредка, кое-где, у всех евангелистов такие «проблески», в особенности у Марка. Читаешь в сотый раз, почти ничего уже не видя, – и вдруг каждое слово становится по-новому ясно.
Рассказ о Крестной смерти.
– В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, элои, ламма савахфани?», что значит «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?». Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «вот, Илию зовет». То же повторено у Матфея.
Невероятно! Как мог я столько лет читать и знать это, ничего не замечая. Ведь если этого не было на самом деле, в простейшей и реальнейшей действительности, то кому же надо было сочинять эту подробность относительно «некоторых», может быть, тугих на ухо, которые не расслышали и сказали: «вот зовет Илию». Можно ли у простодушного Марка предположить такой профессиональный писательский опыт и эстетическую изощренность, чтобы выдумать этот «штрих», ни для чего абсолютно не нужный, кроме как для беллетристической живости, которую он не мог же ценить! Ведь это впору умелому теперешнему бытовику – так сочинять, Тригорину какому-нибудь… Значит – было. Марк не заботится о картинности. Марк только записал то, что знал: эпизод, почти анекдот, не имеющий никакого значения, – как собирал и другое. Значит, было все: по одному слову убеждаешься в целом.
38 (XIII)
Он говорил с людьми решительно обо всем. Но он ни разу не сказал им, что надо быть честными… Нагорная проповедь, заповеди блаженства. Представьте себе: «Блаженны честные». Невозможно! Сразу будто барабан какой-то вторгается в райские скрипки: все тут же меркнет, все проваливается и умолкает. Невозможно.
Но Рим и здесь одержал победу над ним. От всяческих римских Муциев Фабрициусов, которые вместе с конем и, конечно, в полном вооружении бросались со скалы, если были «обесчещены», идет прямая соединительная нить к какому-нибудь нашему седоусому, грозноокому орлу-полковнику, который, «не моргнув», подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер:
– Иди, застрелись. Это твой последний долг.
И потом гордо и страдальчески, с облегченной совестью смотрит «прямо в глаза» обществу, которое почтительно восхищено… Это Рим в чистейшем виде, в самом высоком виде его. От Христа здесь не осталось ничего, и хотя полковник, вероятно, ходит по праздникам к обедне и лобызает золотой крест, выносимый его приятелем-батюшкой, все-таки он душой всецело с теми, кого ужаснуло когда-то христианство как позор и мерзость. Если бы ему сказали это, он удивился бы, потому что привык чтить все установленное веками… Как ему враждовать с Христом? Жестокий, длительный, кропотливый реванш Рима произошел негласно, тут же «под самым носом» церкви, при тайном ее согласии, или непонимании того, что делается, или, в редчайших случаях, под ее беспомощные, грустные вздохи… Надо было вновь укрепить и скрепить расшатавшийся мир, нельзя было допустить, чтобы над идеалом общественно-нужным вознесен был иной идеал, общественно-неясный и опасный. «Долг выше всего, честь выше всего». Человек нашего времени повторяет это спокойно и уверенно; даже если не в силах этим твердым принципам следовать, он в них не позволяет себе усомниться, и в безмятежном неведении своем опять толкает забытого, мнимо-чтимого Учителя на «второе пропятие».
По Христу, все это несущественно. Он не «против» и не «за»: ему некогда о таких вещах думать. «Воздадите кесарево…» Только наверно не выше всего. Это просто «закон».
39 (XIV)
Письма А:
Тема Пушкина не дает мне покоя. Тема «Пушкин», вернее… Тема искусства. Бывает, что мне хочется погрозить ему кулаком, «ужо тебе!», как Евгений Петру в «Медном Всаднике». А потом я принимаюсь читать – и мало-помалу все забываю, «сдаюсь».
Чудный и грешный поэт, «несчастный, как сама Россия», по чьему-то верному – не помню, кто сказал – слову. Непонятно, когда это успели накурить перед ним столько благонамеренного фимиама, что за дымом ничего уже и не видно. К фимиаму большинство и льнет: удобно, спокойно. «Поклонник Пушкина, но человек неглупый…» – эту фразу написал я как-то само собой, не сразу заметив ее парадоксальность.
Иногда представляешь его себе, – схематически, так сказать: страшный оскал негритянских, сияющих зубов, не то в усмешке, не то в предсмертном изнеможении, – и безвоздушное, черное-черное пространство вокруг, без всяких Богов и утешений. О, как тяжело ему жилось!
40 (XV)
Кто-то вполголоса, рассеянно запел в соседней комнате:
Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была…
Вот услышал я эти строчки и, простите, друг мой, если сантиментально, едва не заплакал, застигнутый врасплох, не успев вовремя душевно «защититься»… Не могу без слез этого читать и слушать. Есть вообще в последних главах «Онегина» такая предельно-пронзительная для меня, улетающая и грустная прелесть, что не могу ее выдержать. «Пушкин, Пушкин, золотой сон мой». Но послушайте, вот, – это слишком хорошо, и поэтому жизнь уже не вмещается в это. Оттого и грусть. Не уверен, что правильно здесь сказать «поэтому»… Но жизнь рвется мимо, мутным, тепло-рвотным, грязно-животворящим потоком, и я все-таки хочу быть с ней, несмотря ни на что, превозмогая иногда отвращение, и знаю, что обратно ее в былую стройную прелесть вогнать уже нельзя: уже другие элементы вошли в игру, уже явственно звучит другая музыка, и я хочу быть с ней! Поймите, мне иногда мечтается новый «Онегин». Для разума моего он еще невозможен, не могу себе представить его, но сердцем жду: опять все пронизать такой же гармонией, найти всему имя и место, упорядочить данные мира, одно к одному, – и не так, как теперь, реакционно-музейно, жмурясь от одинокого наслаждения, вдыхать аромат редкого, полуувядшего цветка, а всем своим существом чувствовать влагу, еще идущую от земли.
Отсюда переход. Не удивляйтесь резкости скачка, но я всегда об этом, почти только об этом и думаю. Вернее – сразу думаешь обо всем вместе с поэзией. Ну вот, скажу прямо, банальнее банального: «вперед без страха и сомнения». Или со страхом и сомнением, но все-таки вперед. И не то что «да здравствует Москва», нет, о нет, – но да будет то, что будет, то, что должно быть. Не от пассивно-мечтательного безволия моего говорю это, но от морального – насколько оно мне доступно – ощущения времени и бытия… В прошлом было благолепие. Были ли вы когда-нибудь в Версале зимой, в сумерках, бродили ли по пустым аллеям его: это – как «Онегин», потому что здесь жизнь тоже достигла какого-то острия своего, какой-то окончательно-завершенной формы, – и исчезла… Но я от благолепия отказываюсь, отрываю от сердца любовь к нему, потому что сколько ни вглядываюсь, не вижу других оснований для него – кроме тьмы. Благолепие держалось на тьме: на выбрасывании всяких шестерок и двоек из колоды, на беспощадном, ювелирном выборе и просеивании матерьяла. Защитники «стиля», эстеты истории это хорошо знают, – и если революцию они ненавидят, то не столько за казни и за «грабеж награбленного», сколько за прорыв плотины. Но, друг мой: да будет то, что будет.
…У Константина Леонтьева: «какое же великое человеческое дело не было замешано на крови!» Отвратительно! – потому что не просто «констатирование факта», а и скрытая попытка оправдать его, со смакованием даже, как бегают полюбоваться на пожар. Однако достойно все-таки внимания, что эта мысль встречала живейшее сочувствие и поддакивание у людей того же склада, которые теперь революцией так возмущены, – пока «неизбежная» во всех великих человеческих делах «кровь» относилась к убийствам с молебнами. Исчезли молебны: совесть сразу стала необычайно чуткой… Кстати, о Леонтьеве. Ум, каких немного в нашей литературе (Чаадаев? Герцен?). Блистательный талант: меня всегда поражало его преклонение перед Соловьевым, который куда же бледнее и беднее его. При всем том, ничего не сделал, ничего не оставил после себя, кроме двух-трех удивительных по остроте эстетического суждения критических статей, в частности о Толстом. Кажется, разгадка в глубочайшей исторической «безнравственности» его духа, в предпочтении законченности творчеству. Несерьезно, в конце концов. Увлекательное чтение, любопытнейший психический случай, – но и только.
41 (XVI)
Когда-то Александр III заметил, что кухаркиных детей не следовало бы пускать в университет.
По всей вероятности, с его стороны это было лишь брезгливое брюзжание: полвека спустя еще видишь всю сцену, хорошо знакомую по общей российской атмосфере; еще слышишь скрип тяжелого высочайшего пера, накладывающего «резолюцию»… Но инстинкт самосохранения сказался здесь в полной мере, заменив зоркость ума.
Безошибочный неумолимый расчет: увеличение знания, распространение его в ширину должно было неминуемо привести к «потрясению основ». Не только блекнул ореол царского помазанничества, священного уже только для некоторых искренних чудаков и для толпы бессовестных публицистов (вспомните «Новое время» в 1917 году), но и вдалеке, за всяческими свободами, вставал призрак социального переворота… Всем все разделить поровну: едва только человек поймет, что он имеет на этот дележ право, – а не понять этого он рано или поздно не может, – как будет его требовать и к нему идти. Нельзя поровну разделить, так хоть владеть сообща: иначе всем по справедливости разместиться на земле невозможно… Усилия власти, которая этого страшилась, должны были быть направлены к тому, чтобы те, нежелательные, кухаркины дети, подольше ничего не понимали, – и потому-то русская монархия и была давно обречена, что у нее не было силы противостоять общей тяге века и эпохи к образованию. Резолюция Александра III вызвала ведь везде осуждение, даже у самых «благонамеренных» людей, которые представляли себе «светлое будущее» в таком виде, что повсюду откроются школы, мужички будут по вечерам при электрических лампочках читать газеты и благодарить доброго царя. Монархия сидела на двух стульях – и провалилась. Тысячу доводов найдут вам в ответ, чтобы сбить с толку: не обольщайтесь, это именно так, в грубой простоте своей. Просвещение работает на левизну, неотвратимо.
Вообще, свет, идущий от человека, – левый. Божий… ну, это не по моей части, на это есть специалисты, считающие себя главноуполномоченными Бога на земле. Ничего бы я против них не имел, если бы только поменьше они шулерничали.
42 (XVII)
О советской России.
Множество недоумений. Много вопросов хотелось бы задать, – но кому? Первое, насчет того, что нам отсюда кажется притворством и бесстыдством: насчет полного исчезновения «фрондирования», заведомого доверия к новым авторитетам и всяческого вообще удовлетворения в полном согласии всех со всеми.
Притворщиков и бесстыдников – без конца, не стоит о них говорить. Но нет ли за ними естественного и здорового ощущения, которое сомнительно для нас только по нашей непривычке к нему? Ирония разъедает сознание, как ржавчина: мы заподазриваем все, и, конечно, не всегда напрасно. Кроме того, российская история приучила к недовольству, и оно вошло в «плоть и кровь». Нас возмущает не только угодничество перед властью, но и отсутствие предвзято-протестующего начала в отношениях личности к обществу. Признаемся: нас раздражает «товарищество». А какая, должно быть, отрада, какое облегчение: поверить, довериться, протянуть руку; примириться, сказать «давайте жить вместе», прекратить поиски тайных мыслей у других… Не знаю, есть ли это в России. Но, может быть, есть – и хорошо, если бы было.
Затем, о огрублении и опрощении, особенно ясном в литературе. Какой-то немец написал им недавно: «ваша литература отстала от европейской на пятьдесят лет» – и по-своему был бесспорно прав. Но одна ли только прямая, «столбовая» дорога у людей? Не правильнее ли предположить, что существуют рядом тропинки, никуда не приводящие, и что заблудившиеся в них и возвращающиеся назад, хотя бы и на «пятьдесят лет», могут оказаться все-таки впереди тех, которые безмятежно продолжают идти к тупику? Все дело в этом. Не политически, но морально: реакция ли та потеря тонкости и сложности, которая произошла в духовном мире России, – или исцеление? Можно ли жить, т. е. вынести жизнь и идею развития, сохраняя в душе все то, что знает (слышит, как обертона) культурный, «на уровне века», теперешний европейский человек? Не требует ли природа и история какой-то жертвы, – как не раз уже бывало? Или никаких тупиков нет, и надо продолжать, все продолжать, только продолжать, – как молотом в стену, пока в трещину, с противоположной стороны, не блеснет свет?
Наконец, последнее, самое важное. Сталин об этом, вероятно, не думает, не думал и Ленин… хотя, сидя в Кремле, ну, когда-нибудь ночью, после докладов и совещаний, чувствуя все-таки ответственность за все, что было сделано, и что будет сделано, неужели мог он ни разу не побеспокоиться, ну ни на одну минуту, ни на одну секунду об этом? Неужели ни разу не спросил он себя: а что же дальше? Отлично, водворится коммунизм, бесклассовое общество, придет полное разрешение социальных проблем. А дальше? В планетарном, так сказать, масштабе? Что будет с человеком, что будет с миром? А если Бог все-таки есть? А если страдание неустранимо, и не стоило, говоря попросту, огород городить? И, как говорил Толстой, «после глупой жизни придет глупая смерть», тоже в планетарном масштабе. Была пятилетка. Но есть ли тысячелетка? В смутных, смутнейших чертах существует ли истинный «план», возможен ли он, – или игра ведется вслепую?
Пишу и ловлю себя на мысли: в сущности, какое мне дело? «Смерть и время царят на земле». Умру, ничего не буду знать, значит – все равно, пей, голубчик, и веселись, пока можно. Но нет, мне не все равно, не буду же я сам себя обманывать. Вероятно, правда: жизнь одна везде.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?