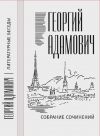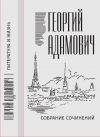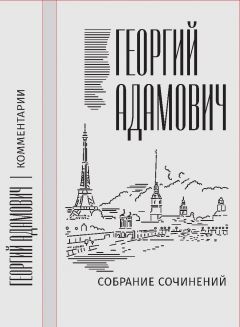
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Думаю, что «нота» все-таки звучала – и прозвучала не совсем напрасно. Случайности в ее чертах было меньше всего, и то, что ее особенности оказались во внутреннем, скрытом от посторонних глаз согласии с историческими условиями, это подтверждает. Надо было все «самое важное» из прошлого как бы собрать в комок и бросить в будущее, отказавшись от лишнего груза. Нельзя было – и в те редкие минуты, когда Аполлон оказывался действительно требовательным, – привычными пустяками заниматься. Память подсказывает мне, что были и другие побуждения, другие толчки изнутри, вызвавшие тягу к поэзии, которая «просияла и погасла» бы. А Некрасов, по-новому прочитанный, противоядие от брезгливо-эстетической щепетильности? А неотвязное понятие творческой честности не в каком-либо шестидесятническом смысле, а как постоянная самопроверка, как антибальмонтовщина, с отвращением ко всякой сказочности и всякой экзотике, с вопросом: кто поверит словам, которым не совсем верю я сам? – и прямой дорогой от него к пустой, белой странице?.. Но обо всем не скажешь и не расскажешь.
Невозможность поэзии
Самое трудное – начать: как начать, с чего? Случается иногда завидовать людям «одной мысли», тем, которым это затруднение неведомо, да еще тем, кого не смущают слова стереотипно-газетные, стертые, одно с другим склеившиеся в готовые фразы, тем, кто берет перо и пишет:
«В настоящей работе я поставил себе задачей…» – и дальше, без помарок, в час или два, с этой «задачей» справляется: статья готова, хоть отдавай ее в печать. Так писал, например, Бердяев. Отчасти это ему помогло стать «Бердяевым», то есть фигурой, авторитетом, знаменитостью, – потому что иначе, при большей словесной взыскательности, он не мог бы написать и половины своих книг. Есть, однако, что-то тягостное в книгах Бердяева. У него были мысли, много мыслей, щедрых, грубовато-добротных, чуть-чуть элементарных, – по сравнению, хотя бы, с мыслями Федотова, зато более прочных, чем у Федотова, – но у него не было сомнений, и стилистически это особенно ощутительно. Бердяев был однодумом: не в течение всей жизни однодум, не однодум en grand, как, например, Толстой, а однодумом в каждую отдельную минуту. Он видел идею, но не видел бесчисленных контр-идеек, брызгами возникающих тут же, будто от брошенного в воду камня (ценнейшее свойство в политике, пожалуй, даже во всякой деятельности, но не в литературе, которая ссыхается и скудеет, приближаясь к деятельности, – кроме самых вершин, где все сплавлено).
К названию – «Невозможность поэзии» – нужен бы подзаголовок. Что-нибудь незамысловатое, вроде «из дневника» или «из писем к Иксу», хотя всякому ясно, что никакого Икса на свете не было и нет. Хорошо было бы добавить «Для немногих», как у Жуковского, если бы в иных, чем у Жуковского, условиях это не было претенциозно. В самом деле – «для немногих»: я и немногие, я сам, изволите ли видеть, из немногих! «Мы с вами одни понимаем», «мы – избранные, посвященные, особенные», «nous autres, les безумцы», как, смеясь, сказал однажды Поплавский, редкий, незабываемый умница. Нет, «Для немногих» не годится, и суть-то, пожалуй, ведь и не в том, что написанное обращено к ним. Суть в другом. У Анненского, в одной из его «Книг отражений», есть несколько строк о человеке, который давно стоит в хвосте у кассы, мало-помалу продвигается вперед и уже близок к заветному окошечку. Билеты в кассе выдаются специальные, не для входа в мир, а для выхода из него, то есть такие, которые вернуть Богу, по карамазовскому примеру, невозможно, как бы этого ни хотелось… У Анненского это очень убедительно изображено, с особой его вкрадчиво-ядовитой настойчивостью, и подошло бы к размышлениям о поэзии как нельзя лучше.
Подошло бы потому, что человеку, который, в сущности, только то и делал, что писал или думал о поэзии, хочется наконец «подвести итоги». Договорить, договориться. Одно было сказано впустую, другое – настолько мимо, для красного словца, что стыдно перечитывать, тут я поторопился, напутал, там по легкомыслию повторил без проверки то, что слышал от Ходасевича или от Зинаиды Гиппиус, – и так далее. «Итог», что же обольщаться, скуден, а окошечко-то ведь недалеко, и впереди, над плечами стоящих в очереди, уже мелькает склоненное лицо кассирши, видно, как один за другим, улыбаясь или хмурясь, отрывает она билетики. «Пора, мой друг, пора». Поговорим же о поэзии всерьез, может быть, в первый и, как знать, пожалуй, в последний раз в жизни.
Не размахнуться бы, однако, Хлестаковым, по гоголевскому признанию о самом себе: контр-соображеньице, разумеется, тут как тут! Да и где бы оказалось оно уместнее?
________
Человек создан по образу и подобию Божьему. Кому принадлежат эти слова? Имени мы не знаем.
Но это, конечно, одна из глубочайших мыслей, которые когда-либо были высказаны, одна из самых благородных и важных, одна из тех, от которых нельзя отречься, пока не стали мы для самих себя предателями. Доиграетесь! – хочется сказать туда, в Россию, где под предлогом борьбы с предрассудками и невежеством насаждается тупая беззаботность по части всего, что отличает людей от машин и животных.
Человек создан по образу и подобию Божьему. Никто теперь не истолкует этих слов физически, материально, и не решит, что если у нас есть руки и ноги, то, значит, должны они быть и у Бога. Но именно потому, что это истолкование навсегда оставлено, смысл слов, очищенный, углубленный, открывается во всем своем значении. В сущности, это кантовский «нравственный закон внутри нас», великое, второе, рядом со «звездным небом над нами», мировое чудо, – хотя едва ли в одной нравственности тут дело. Или понятие нравственности должно быть расширено до включения в него чувства эстетического? Очень возможно, что так, и, вероятно, именно этим и объясняется, что всякие демонизмы, чародейства и соблазны рано или поздно отталкивают как пустые постылые выдумки. Ложь ведь повсюду – ложь, во всех областях, и должна где-нибудь существовать ложь единая, объединительная, Ложь с большой буквы, как существует же где-нибудь – где? – единая Истина. И в нас это отражено.
Все, что человек в себе угадывает, все, что находит в себе верного, непреложного, несговорчивого, окончательного, неустранимого, после того как перестал он играть с собой в прятки, все, что мы называем совестью, во всех смыслах, даже и в эстетическом, и что в нас большей частью дремлет, – а если, случается, и очнется, то, наглотавшись разнообразных житейских наркотиков, тут же засыпает снова, – все это и есть «образ и подобие». Для верующих объяснение сравнительно просто: «то, чего я хочу, – но именно по-настоящему хочу, всем сердцем хочу, и никак не для самого себя, не эгоистически хочу, того хочет Бог. Это Он вложил в меня подобную себе душу, Он наделил каждого из людей частицей своих стремлений, своих оценок. У меня с Ним одинаковая сущность, и разница лишь в масштабах, да еще в том, что Он, вероятно, знает, почему назвал добро добром, а зло злом, я же бреду на ощупь, как слепой, не видя ни направления, ни конечных целей». Так скажут верующие. Ну а у других, у тех, кто в сотрудничестве своем с Провидением не вполне уверен, остается чувство, что коренные их побуждения чему-то все-таки отвечают во вне и с чем-то во вне согласованы. Даже если и не стекаются эти побуждения по радиусам бесчисленных отдельных сознаний в единый центр, то радиусы не совсем разнородны, и это исключает случайность.
Я знаю, конечно, что, едва начав говорить об этом, отваживаюсь в метафизические дебри, вдоль и поперек исхоженные, многими мудрецами исследованные, хотя и без желанного результата. Да и при чем тут поэзия? – пожалуй, скажут мне.
Ответить хотелось бы, что не только «при чем-то», а «при всем». От «образа и подобия» – даже если это не догмат, а только предположение, рабочая гипотеза – к поэзии прямая нить. Но не к тому, конечно, что большей частью за поэзию выдается и ею считается, а скорей к платоническому представлению и мечте о ней. Вот тут-то и запятая, если еще раз вспомнить Карамазова: тут-то и обнаруживается невозможность ее! Надо, однако, немедленно добавить, пояснить: не невозможность писания хороших, прекрасных, замечательных стихотворений, – что в редких случаях некоторым людям еще удается, – а невозможность продолжения, невозможность метода, школы и развития.
Поэзия есть лучшее, что человек может дать, лучшее, что он может сказать. Иначе, действительно, как утверждают иные почтенные и по-своему вовсе не глупые люди, смешно было бы выстукивать размеры и, покусывая карандаш, искать, с чем можно было бы срифмовать, например, нежность, кроме непристойно истрепавшейся, готовой к любым услугам безнадежности. Самая условность и ограниченность поэтических средств обязывает к тому, чтобы лег на целое отблеск безграничности и безусловности.
«Лучшие слова в лучшем порядке». Кольриджевскому определению поэзии у нас повезло, с легкой руки Гумилева, которому формула эта чрезвычайно нравилась. Не помню, не знаю, скажу откровенно, какой смысл вложил в нее сам Кольридж, но едва ли тот, который вкладывал Гумилев, а за ним и другие молодые авторы: едва ли смысл чисто формальный, в духе Буало, советовавшего, как известно, «полировать» стих без устали. К лучшему «порядку» это, пожалуй, и могло бы отнестись, – но что значит «лучшие слова»? Что могут они значить, кроме того, что в поэзии недопустимы: обман, притворство, поза, кокетство, фокусничанье, комедиантство, самолюбование, развязность, баловство, ходули… о, список того, что насмерть враждебно поэзии, мог бы занять несколько страниц! Недопустимо то, что наверно не от «образа и подобия» и за что «образ и подобие» не может принять ответственности. Наедине с собой человеку не трудно в себя всмотреться, и, конечно, поэт всегда знает, нашел ли он действительно «лучшие слова» – то есть лучшие для него, в данном его состоянии, вовсе не безотносительно «хорошие», «красивые», «поэтические», – или увлекся соображениями посторонними, вплоть до предвкушения читательского восторга от какого-нибудь идиотски-новаторского литературного выверта.
Но необходимо предостережение: может показаться, что требование «лучших слов» есть нечто вроде совета писать стихи по вячеславу-ивановскому образцу, то есть стихи торжественные, велеречивые, парящие в заоблачных высях. Ни в коем случае! И не думаю, чтобы Пушкин, когда указывал на «служение, алтарь и жертвоприношение» как на сущность творчества, имел что-либо подобное в виду. Нет, вся его поэзия этому противоречит. Однако о жертве упомянул он все-таки не напрасно, и образ этот, понятый как нужно, точен и верен: в поэзии человек возвращает на «алтарь» лучшее, что он получил, приносит некий дар, может быть и бедный, но чистый, полностью свой. В поэзии нельзя мошенничать, как нельзя – ибо слишком уж бессмысленно! – бросив в церковный ящик пятачок, поставить перед иконой свечу в рубль… Вот ведь в чем дело. По Вячеславу Иванову, только рублевые свечи и допустимы, но он забыл, что у людей в кармане всего только медяки. Да и те наперечет.
«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Да, может быть. Но это как-то слишком расплывчато сказано, и «лучшие слова в лучшем порядке» в самой сухости своей предпочтительнее. А кроме того, – замечу мимоходом, – для меня лично эти «святые мечты» навсегда отравлены воспоминанием о статейке, которую благодушно-благочестивый автор, прелестный, хотя и несколько анемичный поэт, счел возможным написать о смертной казни: мерзость в нашей классической литературе беспримерная.
________
Движение, развитие, а тем более «новаторство» в поэзии сопряжено с некоторой долей суетности и с отклонением от всего того, что можно бы назвать поэтической идеей в платоновском смысле.
Движение – как это на первый взгляд ни удивительно – рассеивает мысли, разжижает чувство, притом сразу, с первых же шагов, и в конце концов приводит к отступничеству.
Что же поэту делать? Топтаться на месте? Удовольствоваться стилизацией под классиков? Двенадцать гладеньких строк, четырехстопный ямб, любовь и кровь? Нет, это не решение, не выход. Выход найти трудно. В прошлом движение было, иначе нам теперь не на чем было бы и «топтаться». Исторически понятие движения, развития неопровержимо и законность его как будто – вне сомнений. Но, очевидно, не все времена в этом отношении одинаковы, и сейчас приходится перефразировать знаменитое леонтьевское изречение: «надо поэзию подморозить, чтобы она не сгнила».
Это, пожалуй, наше открытие, и обязаны мы им не особой нашей прозорливости, а только тому, что оказались волею судеб в особом, небывалом положении, да еще в эпоху, когда новизна во что бы то ни стало сделалась чуть ли не лозунгом иных влиятельнейших художников. Нашим историческим уделом было созерцание в чистейшем, беспримесном виде, поскольку для деятельности, при не очень-то большой природной склонности к ней, не было поля, не было арены, – и, оцепенев, остановившись исторически и общественно, мы кое-что разглядели такое, что от других ускользает. Гордиться этим было бы глупо. Радоваться тоже нет оснований. А меньше всего было бы оснований возводить в какой-то общеобязательный и постоянный принцип то, что открылось в порядке исключительном, как бы с глазу на глаз с судьбой, «на духу», не для разгласки. «Да здравствует победное шествие искусства к новым светлым горизонтам, да здравствует всяческое “вперед”!» – склонны воскликнуть люди в положении исторически нормальном, пусть и находят они для своих стремлений выражения более изысканные, чем те, которые в насмешку привел я. Ну что же, согласимся: да здравствует! Почему бы, в самом деле, искусству и не здравствовать? В наши дни восхваляется непрерывное обновление, непрерывное изменение манеры, и освящено это еще Бодлером, призывавшим «нырять в глубь неизвестности в поисках нового»: плохой, внутренне плоский стих великого поэта. Итак, да здравствует! Но найдется пять-шесть человек, которые наверно скажут: этого своего неожиданного открытия не променяем мы ни на что и никто никакими доводами, никакими ссылками ни на какие авторитеты не убедит нас, что оно – досадное следствие «эмигрантщины», результат утраты живых связей с действительностью или попросту бессильно-снобическое брюзжание. Да, невольная историческая остановка, факт выхода из затянувшегося пребывания на сцене, откуда убрано было все бутафорское, роль свою сыграли. Но стоило, стоило, стоило растерять все, что удерживается в обычной исторической обстановке, чтобы в образовавшейся пустоте, будто в далекой узкой щели, блеснул свет… Ибо утверждение неосуществимости поэзии есть в конце концов великое ее прославление, поклон до земли, объяснение в вечной любви, пусть и в любви к призраку. Но призрак так хорош, что, уловив его черты, ни на что другое не захочешь смотреть. «Он имел одно видение»…
Запад и западная поэзия, несомненно, против нас, и весь западный поэтический опыт нас в этом смысле опровергает. Ни о какой «невозможности» на Западе речи нет, и, в частности, Франция, по утверждению некоторых ценителей, переживает сейчас такой поэтический расцвет, какого никогда и не знала.
Возразить на это, особенно с русской точки зрения, следовало бы многое – хотя бы, например, то, что в поэзии Запад нам не указ, что по глубокой нашей взаимной разнородности нам на Западе почти не у кого учиться, что у нас был Пушкин в те годы, когда во Франции блистал, сверкал и царил Виктор Гюго, а кто из них варвар, кто поэтический младенец, об этом и спорить смешно. Но, даже оставаясь в границах местных, нам чуждых, можно было бы заметить, что теперешний «расцвет» вызван, вероятно, во Франции не столько буйством творческих сил, сколько упразднением всего, что еще недавно составляло формальную основу и ткань поэзии. Сейчас во французской поэзии «все позволено», и где начинается творчество, где кончается болтовня, не знает твердо никто. Недавний инцидент-западня, инцидент-ловушка с десятилетней девочкой-поэтом Мину Друэ в этом смысле достаточно показателен.
Конечно, по-настоящему человек в силах и даже вправе судить только о стихах, написанных на его родном языке, в котором улавливает он и тона, и обертона. Конечно, иностранец должен быть осторожен в своих приговорах, особенно когда речь идет о таком сложном, многовековом явлении, как французская поэзия. Потому лишь в виде догадки, в виде предположения скажу, что, по-моему, Рене Шар – подлинный и значительный поэт, а, например, Сен-Жон Перс, окруженный узким, тесным, но почти благоговейным культом, скорей мечтатель-декламатор, хоть и необыкновенно изощренный. Но об отдельных французских поэтах – только мимоходом, иначе не хватило бы и сотни страниц. К русской моей теме о «невозможности» они отношение имеют только возразительное, хотя у Шара кое-что родственное глухо и скрыто слышится, вопреки изобилию роскошных «images», которыми восхищаются его поклонники-французы. Слышится «невозможность» и у Малларме, чем, вероятно, и должно быть объяснено, что линия его оборвалась, несмотря на усилия Поля Валери. Да к тому же Клодель (вместе с Гюго – самый анти-русский поэт, какие были на Западе) со своим безудержным словесным разливом создал иллюзию, будто всякое самоограничение, всякий отказ, а тем более тупик могут быть внушены только бессилием.
У англичан есть Дилан Томас, в которого подлинно влюблена молодежь: поэт очень одаренный, духовно-расточительный, с отблеском Рембо, прельстивший даже Игоря Стравинского, который откликнулся на его раннюю смерть – «In memoriam Dylan Thomas».
Но и пример Дилана Томаса неубедителен, он тоже – «мимо», «не о том».
Если поэзия вместе с жизнью, и как составная часть жизни, более или менее благополучно движется в общем потоке, если назначение ее в том, чтобы доставлять более или менее пряные, острые, неизведанные ощущения, отвлекать, радовать, утешать, торжествовать над повседневной скукой, если удачный, смелый образ, «имаж» оправдывает ее существование, то, разумеется, правы западные поэты – как по-своему, в огрубленном, безмятежно-дубовом своем состоянии правы и многие поэты советские, – а не правы мы.
Но, вероятно, дает себя знать русский максимализм: все или ничего. Если «всего» достичь нельзя, не хочу никаких промежуточных инстанций, выбираю «ничего» или почти «ничего» – потому, что какие-то крохи спасти все-таки удается… Но в нищете своей не завидую псевдо-Крезам, даже дилан-томасовского обаятельного типа, и отказываюсь от совместных с ним игр.
________
Нет никаких возражений против новаторства, которое ограничилось бы изысканиями формальными, и беда исключительно в том, что в поэзии – и нагляднее всего в русской поэзии, где несомненная столичность соседствует с неискоренимым миргородским захолустьем, – беда только в том, что в поэзии нововведения формальные обычно сочетаются с особой литературной позой, с вызовом, «заскоком». Теоретически это сочетание вовсе не обязательно, но на практике оно обнаруживается сразу, и наша матушка-Россия не упускает тут случая покрасоваться, блеснуть всем, что есть в ней смешного и жалкого (о чем с такой горечью писал в «Дыме» Тургенев).
В музыке искания к «заскоку» не ведут, во всяком случае не всегда ведут, – вероятно, потому, что музыка по самой природе своей есть искусство абстрактное, а ее безнадежные стремления к программности если в чем и выражаются, то преимущественно в названиях. Не берусь судить, по музыкальному дилетантизму своему, о внутренних достоинствах того, что было сделано, например, Шёнбергом и его последователями, но если основываться на всем, что об этой группе известно – в частности об Антоне Веберне, по-видимому, самом значительном в ней человеке и художнике, – она полностью заслуживает внимания и уважения. Сейчас никто еще не знает, останется ли от нее долгий след в искусстве. Но бесспорно, это были люди творчески-взрослые, творчески-честные, требовательные, не дикари и не дети.
Переход к поэтам, в особенности к поэтам русским, довольно тягостен.
Мне наплевать
на бронзы многопудие,
Мне наплевать
на мраморную слизь…
Это – из Маяковского, из самого прославленного его стихотворения «Во весь голос». Во вступительной статье к лежащему передо мной собранию его сочинений восторженно и подобострастно указывается, что Маяковский «бесстрашно ломал установившиеся каноны», а дальше следует лепет, столь знакомый, настолько примелькавшийся, что он даже не удивляет. Надо сделать усилие, чтобы очнуться и, очнувшись, спросить себя: что это такое, что это такое? Что это за вздор? Куда все идет?
Маяковский был чрезвычайно талантливым человеком и мог бы стать очень большим поэтом. Не думаю, чтобы после Некрасова у кого-либо в русских стихах явственнее звучали ноты трагические. В голосе Маяковского была медь, был закал, и хотя ранние его фиоритуры не совсем обходились без Несчастливцева и ближе были к футуристической мелодраме, нежели к футуристическому Эсхилу, в дальнейшем, казалось, он должен был от сгущения красок освободиться. «Облако в штанах» было редким поэтическим обещанием. Но самое название поэмы, то есть характер этого названия, внутренний склад его, мог вызвать опасения, и опасения оказались оправданы.
Оставим, забудем «кроме как в Моссельпроме», поскольку сам Маяковский эти упражнения поэзией не считал. Но и то, что он считал поэзией, удручает: развязность, зычное похохатывание, отсутствие «словечка в простоте», хотя бы только одного словечка, непоколебимая уверенность, что в этом-то и сказывается прогресс искусства и ломка канонов, что эта ломка нужна, благотворна, что с ней поэзия триумфально идет вперед… Руки опускаются, а если пришлось бы возражать, убеждать, спорить, начать надо было бы с самых азов: дважды два четыре.
Маяковский был прав в основном своем убеждении, что сто лет после смерти Пушкина нельзя писать стихи так же, как писал Пушкин. Но вместе с формальным выводом из положения бесспорного он наспех, кое-как, сделал вывод эмоциональный, учитывая мгновенный глупый отклик, шум и успех, и не то что погубил себя, а дал в себе вырасти какому-то поэтико-демагогическому чудищу. Маяковский довел русскую поэзию до обрыва, почти до пропасти, хотя неизменно оставался блестяще находчив в словосочетаниях и всяких словесных ухищрениях. Отталкивают у него не средства, а цели. Почему бронзы «многопудие»? О, это «многопудие»! Отталкивает ведь не самый неологизм, а величаво-хамски-небрежная эмоциональная ее окраска, в сущности которой окончательно рассеивает сомнения дальнейшая «мраморная слизь». Эх, что вы там, вот мы, душа нараспашку, парень-рубаха, знай наших!
Иностранец «не поймет и не заметит», конечно, что за этим кроется. Иностранцу, даже взыскательному, это может понравиться. Надо быть русским, чтобы с содроганием сказать себе: это она, наша родимая матушка, наша «Русь державная, родина православная», как чуть ли не в слезах говорит у Бунина купец-патриот (и, конечно, потенциальный погромщик) Ростовцев, – это она, оставшись в советском своем обличии до странного верной прежним рассейским чертам, это она в недрах своих породила и взлелеяла все это! Пусть же простит она, если для этого ее облика у иных ее сыновей не находится других слов, кроме запомнившейся мне розановской фразы: «расстаюсь вечным расставанием»[9]9
Мне привелось один только раз довольно долго говорить с Маяковским: в «Привале комедиантов», в ночь, когда распространился слух об убийстве Распутина. Все были взволнованы, обычные перегородки между литературными группами и группками на несколько часов исчезли. С Распутина разговор, конечно, перешел на поэзию. Маяковский был непривычно сдержан и умен, бесконечно умнее своей раз навсегда принятой позы.
[Закрыть].
________
С Мариной Цветаевой дело проще. Довольно часто мне приходится слышать упреки, что я ее недооцениваю и не понимаю. Недооценка возможна. Но не понимать в Цветаевой нечего.
Она, конечно, была настоящим поэтом, и, конечно, у нее попадаются отдельные блестящие строфы, мелодические и меланхолические, женственные, как ни у кого. Задумчивость, полусонно-певучие интонации, тихий, сомнамбулический ход некоторых ее стихов к Блоку или ранних стихотворений о Москве неотразимы. Но творческие претензии Цветаевой мало-помалу оказались в разладе с ее силами: утверждаю это как очевидную истину, хотя и знаю, что остаюсь в одиночестве. Юрий Иваск, например, один из ее верных, стойких поклонников, вспомнил даже Державина, говоря о ней: высокий поэтический склад, высокий душевный строй, пафос, роскошь, пышность. Это – портрет, это – характеристика, но это не довод, и расходимся мы лишь в догадках, на чтении основанных, было ли у Цветаевой достаточно «горючего» для непрерывного пламенения, или пламенела она большей частью призрачно, механически, по инерции, как во многом ей родственный Бальмонт. Об этом можно спорить. Но о том, что в ее скороговорке, в ее причитаниях и восклицаниях, в ее ритмической судороге нет творческой новизны – то есть данных для развития, – по-моему, и спорить нельзя. Цветаева принадлежит к тем, с кем кончается эпоха, и только дух противоречия, которым она была одержима, дух творческого «наперекор», помешал ей в этом сознаться. Даже самой себе.
Гораздо значительнее – формально и внутренне – Пастернак, хотя у него и нет цветаевского «шарма». Но ищет ли он его, хочет ли, склонен ли был им прельститься? Едва ли, как Пушкин едва ли прельстился бы тем, что иногда подкупает у Фета.
Пастернак – вместе с Хлебниковым – единственный наш поэт «новаторского» типа, который свои лабораторные опыты не считает нужным соединять с противопоставлением себя всему остальному человечеству, с самоупоением и гениальничаньем. Одно это должно бы внушить к нему доверие, не будь даже в его поэтическом облике других черт, редких и замечательных. Однако самый опыт его не только не колеблет сомнений в дальнейшей «возможности поэзии», но неожиданно подводит под них новые основания, поддерживает их своим примером, всей своей импровизационной произвольностью.
У Пастернака слово сошло с ума, впервые в русской поэзии: слово перестало быть единицей логической, связанной в движениях логическим смыслом и не поддающейся обращению, в котором смысловые сцепления понятий были бы заменены какими-либо другими. Пастернак делает со словом все, что ему вздумается, и заставляет его изменять значение там, где ему это угодно. Для Пастернака существенно не то, что небо есть небо, а дерево есть дерево, для Пастернака важны, в качестве целостного замысла, лишь данная строка или строфа, и «небо» может утратить в ней все свои небесные признаки, признававшиеся до сих пор постоянными. Освобождение, шаг вперед? На первый взгляд как будто бы так: «ломка канонов». Но если это и освобождение, то вместе с тем и оскудение, убыль действенности, – потому что и прежде, у поэтов истинных, слово никогда ни в коем случае не бывало исключительно логическим знаком. В слове было то, что возвеличивает в нем Пастернак, плюс логический смысл, – и есть глубокое, пусть и почти метафизическое, обоснование уверенности, что логическое содержание должно бы остаться важнейшей, первейшей сущностью слова. «В начале бе слово…» Отстаивание логики было едва ли не главным устремлением Ходасевича, а раньше – Гумилева, который, помнится, особенно настаивал на необходимости зрительной проверки метафор. У Пастернака метафоры нередко бывают вполне безумны, и отчасти это позволяет ему взметать словесные вихри, в которых он – царь и бог, никем, ничем не ограниченный. Вихри, что и говорить, вдохновенны. Но вдохновение – личная черта, личный дар поэта, который он никому передать не может, а передавая метод и стиль, он внушает отказ от прозы, боязнь ее вместо ее преодоления. Именно в этом-то ведь корень всего, всех надежд, мечтаний, всех «невозможностей», всех творческих тупиков и драм: проза должна быть в поэзии претворена, должна в нее войти и в ней раствориться. Поэзия должна возникнуть над прозой, после нее, а не в сторонке, как малодушное бегство от встречи, без согласия на риск. Линия Пастернака есть линия наименьшего сопротивления, при всей внешней, чисто синтаксической или стилистической его сложности: формальный замысел его поэзии таит в себе предчувствие «невозможности» (хотелось бы сказать: пред-знание), но вместо того, чтобы разбить себе голову о стену, – или хотя бы рискнуть этим! – Пастернак ищет обходных тропиночек, да еще со скамейками для отдыха. Все это может показаться нарочитым, предвзятым искажением пастернаковской позиции: подумайте, он, труднейший из трудных, – и наименьшее сопротивление! В оправдание Пастернака напрашиваются разнообразные выводы: во-первых, он делает со словом то, что давно уже делают иные поэты на Западе, и значит, идет вровень с передовой западной культурой, не в пример большинству соотечественников, во-вторых – наш эвклидовски-рационализированный мир рухнул под ударами науки, и как знать, не точнее ли отвечает пастернаковский мнимый хаос истинной реальности, чем поэзия трехмерная? Не в лобачевски-римановском ли восприятии реальности обнаруживается острая, интуитивная современность Пастернака? Этот второй довод я уже как-то слышал, и уверен, на удочку эту можно с успехом поймать людей, принципиально падких до модернизма. Но это довод лживый. Догадки, пусть и научно бесспорные, о том, что наше мышление подчинено законам, которые вовсе не обязательны для вселенной, с земли нас не уводят, в устройстве нашего мозга ничего не изменяют, и никакая относительность, досадно нам это или не досадно, поэзии не задевает, – если только поэзия – не приятное времяпрепровождение с новейшими чудо-игрушками. Игра у Пастернака неизменно чувствуется – в противоположность творчеству наименее склонного к ней из новых русских поэтов, Блока. Но странно: привкус пастернаковской поэзии при этом горек. Освобождение не привело никуда, привело в «никуда»: Пастернак остался в пустоте и видит вокруг себя только миражи.
«Невозможность» он укрепляет, впрочем, и по-другому: читаешь Пастернака – и с первой же строки знаешь, чувствуешь, что тебе предлагают нечто художественное, поэтическое, да еще новое. А мало что расхолаживает сильнее, чем художественность назойливая или, правильнее сказать, наглядность художественных намерений. Ледяной душ! У Пастернака, правда, эти претензии – хорошего качества, не такие, как у иного беллетриста, который пишет, например: «Серебряная скатерть моря была расшита вздрагивающими жемчужинами…» – и в допотопной наивности своей думает, что пишет «художественно», а если бы написал, что в море отражалась луна, то это было бы не «художественно»! Нет, Пастернак, конечно, на другом уровне, но намерения его, то есть, в сущности, швы, все же видны. Пастернак дает поэзию, «поэзию» в кавычках. А когда голодному дают пирожное, он склонен сказать: дайте кусок хлеба. Поэтического голода кремом не утолить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?