Текст книги "Сибирь"
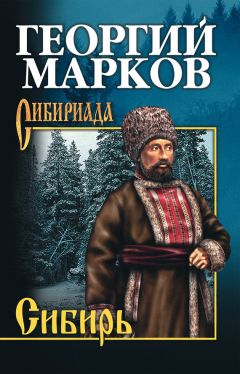
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Вот он, твой пролетариат! Сегодня с тупым надрывом песни поет, завтра с таким же надрывом будет плакать, а послезавтра, забыв и то и другое, начнет убивать себе подобных, даже не спросив себя, во имя чего он это делает…
– Но наступит час, когда это отчаяние и эта покорность переплавятся в иное – в потребность изменить мир, изменить себя. Это обязательно произойдет. Более того, это уже происходит. Для тысяч и тысяч людей уже и сейчас ясно: в этой войне надо делать только то, что принесет России поражение. Царизм без поражения не свалится. Это зверь живучий.
Лихачев вскочил, закинул крупные руки за спину.
– Поражение! Это слово бьет по моим перепонкам, как снаряд. Я русский и не хочу, чтоб мое отечество лежало распластанным у ног немецкого кайзера.
– Поймите, Венедикт Петрович, только поражение царизма принесет очистительную революцию.
– Униженная и разбитая отчизна подобна трупу. Ее не спасут и революции.
– Не народ, а царизм потерпит поражение.
– Нет, нет! Ради отечества я готов на все! И я не потерплю, Иван, твоих разговоров. Забудь это слово – поражение! Мы должны победить врага. Только гордой и сильной стране революция может принести избавление от нужды и страданий.
Ваня попытался доказать ученому, в чем его заблуждения, но тот не захотел слушать. Разгневанно шаркая ногами о паркет, он удалился в другую комнату, плотно прикрыв за собой тяжелую дубовую дверь.
Ваня проводил ученого взглядом, осуждая себя за излишнюю прямолинейность в суждениях. «Ну ничего, то, что я не смог доказать вам, господин профессор, то вам докажет сама жизнь», – утешал себя Ваня, не зная еще, как поступить дальше: сидеть ли в ожидании, когда гнев ученого уляжется, или покинуть его дом до каких-то лучших минут.
Ваня не успел еще решить этого, как дубовая дверь открылась и Лихачев вернулся с какой-то виноватой улыбкой, так не подходившей к его суровому лицу.
– А ну ее к черту, Ваня, твою политику! Я ее недолюбливал в молодости, а в старости она мне и вовсе не нужна. Давай пить чай с брусничным вареньем, – глуховатым голосом сказал Лихачев.
– Что ж, чай пить – не дрова рубить, говаривали в старину, – усмехнулся Ваня, – однако истины ради замечу, Венедикт Петрович, что, возможно, политику вы недолюбливали, но других поощряли заниматься оной.
– Что за намеки? – снова сердясь, спросил Лихачев.
– Никаких намеков, одни факты. Мне вспомнились ваши постоянные конфликты с реакционной профессурой.
– Да разве это политика, друг мой ситцевый?! Просто-напросто сердце мое не терпит несправедливости. Наука требует свободы духа…
– Вот, вот, – поощряя откровенность ученого, затряс головой Ваня.
– Опять ты меня, искуситель негодный, вовлекаешь в антиправительственные рассуждения. Да ты что, подослан тайным управлением жандармерии?! – замахал кулаками Лихачев, надвигаясь на племянника, поблескивавшего из угла своими темными глазами.
– Успокойтесь, дядя! – вскинув руки, сказал Ваня. – Я не подослан, а послан, дядя, к вам. Послан студентами-большевиками. Позвольте воспользоваться вашей гостиной и провести тут завтра вечером небольшую беседу. Мы в крайнем затруднении. Мы существуем нелегально, нам тяжело, а момент ответственный, он требует ясности и действий.
Лихачев опустил кулаки, попятился, упал в кресло, словно его кинули туда. Жалобно скрипнули под ним прочные, скрытые кожаной обивкой пружины.
– Ах, искуситель, ах, лиходей! Собирал бы своих оболдуев без спросу, так нет, разрешения спрашивает, блюститель добропорядка!
– Вы завтра до которого часу в отсутствии? – не упустил удобного момента Ваня.
– Поеду на именины. Вернусь за полночь. И думаю, что вернусь в изрядном подпитии. Восьмидесятилетний именинник умеет и угостить, и сам выпить.
– Раздолье! – прищелкнув языком, воскликнул Ваня.
– Окна шторами прикрыть надобно. По улице немало всякой сволочи шляется.
– Уж это не извольте беспокоиться, – со смехом дурашливо изогнулся в лакейском поклоне Ваня.
– Не паясничай, племянник! Садись за стол, чай будем пить! Неонила Терентьевна! – крикнул он в приоткрытую дверь служанке. – Самоварчик нам с Ваней, брусничное варенье и коржики!
– Ня-су, барин, ня-су! – послышался из глубины квартиры напевный голос.
5
На другой день в квартире профессора Лихачева состоялось собрание большевиков.
Венедикт Петрович приехал в полночь. Разговоры были еще в самом разгаре. Кое-кто, увидев профессора, смущенно встал. Неужели пора уходить? Хозяин кабинета остановился на пороге. Все уставились на Ваню.
– Позвольте, дядюшка, завершить беседу. А вы, может быть, пройдете в спальню на отдых? – не то спросил, не то посоветовал Ваня.
– Вы что же, боитесь, что я выдам ваши секреты?
– Нет, почему же? Вы, вероятно, устали, вам пора спать. – Ваня готов был подхватить профессора под руку и почтительно провести его в соседнюю комнату.
– Дай-ка мне стул. Я посижу, послушаю, о чем вы тут разговор ведете.
Не ожидая приглашения, профессор сел рядом с Ваней.
В накуренной комнате воцарилось молчание.
– Будем, товарищи, продолжать. Венедикт Петрович знает, что здесь происходит нелегальное собрание большевиков, – сказал Ваня с отчаянием в голосе.
Профессор слушал вначале рассеянно и каждого выступающего встречал улыбкой недоверия. «Горе-спасители России! Младенческий лепет! Плавание по поверхности с помощью надувных пузырей!» – мелькало у него в уме.
Но, по мере того как разговор принимал все более напряженный характер, таяло, словно вешний снег на солнцепеке, и недоверие Лихачева к студентам. «Младенцы, но упрямые. Царизм, конечно, не свергнут, а царя попугать могут», – смягчал свои размышления Лихачев.
Суть острой дискуссии профессор не очень улавливал. Его сознание задержалось лишь на отдельных фразах.
– Массы! Завоевание масс! Вот коренной вопрос будущей революции, – гудел басок одного из студентов.
Остальное Лихачев не слушал. «Птенцы вы желторотые! Массы! Да известно ли вам, что российские массы неграмотны, забиты, они лежат, подобно валуну, на дороге общественного развития. Чтобы валун сдвинуть с места, нужен, по крайней мере, прочный рычаг. Уж не вы ли, сосунки, рискнете уподобиться этому рычагу?!» – полемизировал про себя профессор с высказываниями студентов.
– Революционное созревание масс пойдет стремительно. Война уже коснулась непосредственным образом миллионов людей. И самое главное в том, что рабочий и крестьянин оказались рядом, в одном окопе. Уж такова жизнь: крайние катаклизмы современной жизни сближают для совместных усилий решающие фигуры будущей социальной борьбы…
Это звенел приятный голосок племянника. «Ох ты какой стратег! И глядят все на него с уважением, видно, не такой уж Ванька тумак, как я порой про него думаю», – проносилось в голове профессора.
Но голова его в эту ночь все-таки была во хмелю. Французский коньяк, выпитый на именинах, делал свое дело. В глазах дрожали тени от кудлатых голов студентов, подпрыгивала люстра с медной цепью, поколыхивались стены в темно-розовых обоях.
– Ну, талдычьте здесь хоть до утра, а я пойду отдыхать. Дверь, Иван, не забудь запереть. Неонила Терентьевна спят-с!.. – пробурчал профессор и вышел из комнаты.
А через несколько дней произошло то, что рано или поздно должно было произойти: Ваньку Акимова, милого племянника и тайную надежду ученого, арестовали. Арестовали его прямо в лаборатории.
В тот же день профессора Лихачева посетил студент, оказавшийся обладателем того самого баска, который на сходке в памятную ночь так увлекательно рассуждал на тему завоевания масс. Студент был изрядно сконфужен, взволнован и даже растерян. Он попросил у профессора разрешения войти в столовую и опрокинуть стол. Там, в тайнике, устроенном прямо под столешницей, хранились какие-то очень-очень, как сказал студент, важные революционные документы.
– С Иваном есть возможность снестись. У нас в предварилке свои люди, – сказал студент, сдерживая свой рокочущий бас.
Лихачев вспылил:
– Передай Ваньке, что он мерзавец! Такому лбу надо на войне быть, а не проедать казенные харчи в тюрьме. – И он вышел, хлопнув дверью.
Через минуту профессор вернулся и подобревшим голосом сказал:
– Возьмите эти деньги. Тут сто рублей… Передайте, когда можно будет, этому негодяю Акимову и скажите ему, чтоб в тюрьме не распускал нюни, а если окажется в ссылке, то пусть наукой занимается – лучшее средство от скуки и спанья.
– Все в точности передам, – пообещал студент. Запрятав бумаги в потайной карман студенческой куртки, бас отвесил профессору глубокий поклон и удалился. Лихачев представил на миг жизнь без встреч с Иваном, и сердце его стиснула тоска. «В экспедицию пора. Двинусь в низовья Оби. Попробую обследовать побережье океана в сторону Енисея… От Мангазеи наши предки ходили и к северо-западу и к северо-востоку. Надо посмотреть на все своими глазами», – размышлял Лихачев. Но это была мечта, чистая мечта, без малейших примесей реальности.
Дело в том, что охотники тратить деньги на экспедиции, да к тому же такие далекие и дорогие, окончательно перевелись. Правительство и прежде не очень щедро отпускало средства на науку, теперь оно, занятое военными заботами, и помышлять об этом не хотело. Найти частного воротилу, пожелавшего бы взять на себя огромные расходы, тоже было не просто. Могли, конечно, с великой охотой влезть в это предприятие англо-французские компании, аппетит которых к российским сокровищам разгорался с каждым годом все больше и больше, но одна мысль о служении чужеземным интересам приводила Лихачева в негодование.
«Не ерепенься-ка, Венедикт Петрович, никуда ты в такое время не уедешь. Садись-ка за стол, раскладывай материалы своих сибирских экспедиций и попробуй сообразить, что из них вытекает. Дело тоже нужное, никто за тебя этого не сделает», – утешал себя Лихачев.
И он действительно приступил к такой работе, разворошив большой, окованный жестью сундук с архивами сибирских экспедиций.
В один из поздних вечеров, в самом начале этой работы, к Лихачеву снова нагрянул обладатель баса.
– Иван переслал вам письмецо, Венедикт Петрович, – сказал студент, извлекая откуда-то из-под полы скрученный в трубочку листок бумаги.
– Не забывает, значит, дядюшку! – с ноткой удовольствия в голосе воскликнул Лихачев.
– Помнит и заботится, – угрюмо хмыкнув, прогудел бас.
Лихачев водрузил на нос очки, бережно развернул бумажную трубочку, зашевелил губами.
«Милый дядюшка! О себе не пишу. Все мысли мои о Вас. Над Вами заходит гроза. Провалы наши оказались серьезнее, чем можно было предполагать поначалу. Ваше сочувствие к нам; Ваша помощь нам известны. Запрошены также материалы из Сибири о Вашем участии в студенческих антиправительственных манифестациях. Все это ничего хорошего не предвещает. Не поспешить ли Вам с отъездом в Стокгольм? Помнится мне, что Вас зазывали туда для прочтения лекций. Время для этого вполне подоспело. Спешите, спешите, пожалуйста! Обнимаю и остаюсь Вашим верным другом и учеником!
Иван».
Лихачев прочитал письмо племянника молча, отошел к окну, закинул руки за спину, смотрел куда-то в небо.
– Ответа не будет? Есть возможность передать не позже завтрашнего утра, – сказал бас.
– Прошу подождать. – Лихачев присел к столу, размашисто написал:
«Ваня! Укладываюсь для немедленного отъезда. Забираю самую необходимую часть сибирского архива. Если твое отсутствие будет менее продолжительным, чем мне думается, не забудь понаблюдать за моей квартирой, чтоб не растеклось нажитое без отца и матери добро по чужим рукам. Будь здоров!
Дядюшка».
Лихачев перечитал записку, достал из стола хрустящий, с черной подкладкой конверт, осторожно вложил в него исписанный листок.
– Извините, профессор, конверт излишен. Письмо ваше будет запечено в булку, – чуть усмехнулся бас.
– Ну, в случае чего, сами выбросите! Старая привычка чтить адресата, – пояснил Лихачев и, прихлопнув конверт тяжелым пресс-папье, подал его студенту.
6
А вскоре Лихачев уехал в Стокгольм. Пока он не вошел по трапу на пароход шведской компании, он не был уверен, что уедет.
Где бы он ни появлялся в эти предотъездные дни, он всюду обнаруживал признаки усиленной слежки за собой. Сыщики не оставляли его без внимания даже дома. Они нагло прохаживались под его окнами, останавливали служанку Неонилу Терентьевну, расспрашивали ее, чем занят профессор.
Лихачев побаивался: вдруг арестуют. Но тут он опасность преувеличивал. Задерживать его никто не собирался. Наоборот, опасались, чтоб не раздумал с отъездом.
Власти полагали так: пусть себе убирается куда-нибудь подальше от России, а то еще окрутят его революционеры, вовлекут в свои дела. Бороться с такими не просто, уж очень он на виду у всего Петрограда…
Лихачев был начеку до самой последней минуты. Опасаясь, что могут быть похищены материалы, без которых его отъезд в Стокгольм потерял бы всякую целесообразность, он все чемоданы погрузил к себе в каюту и всю дорогу неустанно следил за ними.
В Стокгольме Лихачева встретили достойно его высокого звания. Худой морщинистый старик с пожелтевшими волосами на клинообразной голове, прямой, как сухая жердь, назвавшийся членом Шведской академии наук и профессором древнего университета города Упсалы, произнес краткую речь:
– Я счастлив приветствовать от лица моих коллег столь выдающегося представителя российской науки. Ваш приезд в Швецию будет способствовать добрососедскому духу наших наук, процветающих под эгидой русского императора и короля Швеции.
«Ну, насчет эгиды, батенька мой, ты подзагнул от излишнего подобострастия перед царствующими особами», – подумал Лихачев, пожимая костистую руку шведского профессора.
Жизнь в Стокгольме оказалась на редкость скучной. Один раз в неделю Лихачев поднимался на кафедру и прочитывал очередную лекцию. В остальные дни недели он был предоставлен самому себе. Вначале ему казалось, что так уединенно живет лишь он. Родина его находится в состоянии войны, которая неизвестно еще как и чем завершится, и шведы, люди осторожные, не спешат проявлять к нему, иностранцу, особо подчеркнутый интерес. Но вскоре Лихачев понял, что так же уединенно жили здесь все профессора. Они как бы чуждались друг друга, их общение не переходило за рамки служебных обязанностей. «Скукота, Ваня! Если тут от тоски не сопьешься и не рехнешься разумом, то и здоровым не вернешься», – мысленно разговаривал с племянником Лихачев.
Первое время Лихачев проводил целые дни в путешествиях по городу. Он исходил его вдоль и поперек. Город чем-то напоминал Петроград, хотя не обладал многолюдьем российской столицы и замирал буквально с наступлением сумерек. Но через две-три недели осматривать Лихачеву в Стокгольме стало нечего. Наскучил ему и порт, вызывавший приступы острой тоски. Иногда тут мелькали суда с русскими названиями. Особенно становилось горько на душе, когда они, развевая по небесному простору клочки дыма, удалялись к горизонту, за которым жила, страдала, боролась его родная Россия.
«Плюну на все предосторожности и поеду домой. Дальше Нарыма меня не сошлют, а там я не пропаду. Доделаю то, что не успел сделать в экспедициях», – рассуждал Лихачев в минуты отчаяния.
Но возвращаться все-таки было рискованно. «По крайней мере, надо дождаться какой-нибудь весточки от Ваньки», – успокаивал себя Лихачев. И такая весточка наконец поступила. Писал, правда, не Ванька Акимов, а, по-видимому, все тот же бас, прозывавшийся, оказывается, Александром Петровичем Ксенофонтовым. Сообщая Лихачеву, что его квартира находится в прежнем порядке, а служанка Неонила Терентьевна пребывает в полном здравии, Ксенофонтов как-то между строк, чтобы не вызвать излишних подозрений военной цензуры, написал о самом главном: Иван отбыл в Нарым на четыре года. О нем, о Лихачеве, все дома стосковались, но ничего не попишешь, скоро его не ждут, знают, что у него там, на чужбине, дела неотложные и их когда попало не бросишь. Из этого намека Лихачев понял, что время его возвращения в Россию еще не наступило.
Ксенофонтов в конце письма сообщал Лихачеву свой адрес, по которому просил направлять письма, и обещал впредь быть более аккуратным в переписке. Именно после получения письма Ксенофонтова, окончательно разрушившего надежды на скорое возвращение Лихачева в Петроград, ученый распаковал свой сибирский архив и, обложившись бумагами, приступил к делу.
Условия для напряженной кабинетной работы были в Стокгольме отличные. Лихачев жил в удобной университетской квартире поблизости от Королевской библиотеки, книгохранилища которой содержали обширную справочную литературу на самых разнообразных языках мира. Нашлись в библиотеке и кое-какие уникальные материалы из ее рукописных фондов, касавшиеся приокеанских районов Сибири. Но, помимо всего этого, было еще одно важнейшее условие для успешности научной работы в Стокгольме – одиночество, полное одиночество.
Лихачев ценил одиночество, когда, насытившись материалами по самое горло, он ощущал, что наступило время извлекать из него выводы, формулировать истины. «В суете да в спешке даже самая светлая голова не в состоянии высечь ни одной искры из глубин разума. Думать, думать, без устали думать над тем, что увидел, узнал, почувствовал», – любил говорить Лихачев своим ученикам.
Теперь здесь, в Стокгольме, в тиши профессорского особняка, отгороженного от шумной улицы стосаженной стеной из огромных дубов и лип, можно было работать не спеша, без суеты, и думать столько, сколько мог выдержать мозг.
За долгие годы мыслительной работы Лихачев выработал собственную методику. Первое, что он требовал от себя, – полное, абсолютное знание материала. Какой бы гениальной ни была та или иная догадка, ученый не вправе считать ее истиной, пока он не овладел материалом, не прошел его насквозь (любимое словцо Лихачева!), не подтвердил взлет своей интуиции фактами.
Лихачев и прежде немало писал о Сибири. В его сочинениях, напечатанных в научных изданиях университетов, Географического общества, академии и просто хранящихся в архивах, были поставлены разнообразнейшие проблемы из области геологии, минералогии, климатологии, фауны, флоры. Но теперь он осуществлял самую значительную работу, главную, как он считал, работу своей жизни, капитальный труд о Западно-Сибирской низменности. Обширные пространства в два с половиной миллиона квадратных километров, равные по территории пяти Франциям, лежали перед его мысленным взором со всеми своими загадками, пока недоступными человеку. На множество сложнейших вопросов о происхождении, особенностях строения, тысячелетних геологических процессах, происходящих на этой необозримой равнине земного шара, должен был ответить Лихачев.
Несколько недель ученый разбирал свой архив, тщательно прочитывал каждую запись, всматриваясь в зарисовки образцов и чертежи рельефа и отложений, сделанные торопливо, наспех, сохранившие порой потеки от дождевых струй и сырых ветров севера. Эти следы далеких путешествий как-то по-особенному волновали Лихачева. «А все-таки был рысак-мужик», – думал он о себе.
Когда эта работа была закончена, архив был растасован по полкам шкафа в зависимости от важности материала, содержащегося в тетрадях и картах, Лихачев отправился в Королевскую библиотеку. Тут он сел за ящики каталогов, и библиотекари едва успевали извлекать из потаенных хранилищ, уставленных стеллажами, необходимые ему книги.
В юности Лихачев изучил французский язык. Живя в Германии, он в совершенстве овладел немецким. Кроме этих и родного русского языка, он прилично знал английский и итальянский. И шведский давался ему легко, просто, можно сказать, попутно.
Служащие Королевской библиотеки повидали на своем веку немало ученых. Кроме своих шведских, у них перебывали ученые из многих стран мира, включая и заокеанских, но впервые они встретили человека, которому требовалась литература по такому широкому кругу вопросов.
Работал Лихачев увлеченно и споро. Чтобы не доводить себя до изнеможения, он строго регламентировал день и выполнял это самопредписание неукоснительно. Вставал в семь утра. Завтракал быстро, но по-русски обильно и работал до четырех. Потом обедал, не торопясь просматривал газеты и журналы. В шесть часов дня он поднимался и, какая бы погода ни стояла на улице, отправлялся гулять по городу. Прогулка продолжалась не менее двух часов. После ужина он вновь садился за стол и работал до полуночи. Спал обычно крепко, но мало. Впрочем, несмотря на возраст, никогда не подбадривал себя дневным сном, считая, что это только расслабляет мышцы и надолго вносит тускловатость и натужность в работу мысли.
Но, как ни увлечен был Лихачев, как ни забывал он в своих занятиях о времени, тревога за Ивана, за его судьбу не покидала ученого. С нетерпением он ждал от племянника весточки, дважды напоминал Ксенофонтову о своих беспокойствах, но Иван молчал и молчал.
«Пожалуй, зря я волнуюсь. Везут Ваньку не на курьерском поезде. От Петрограда до Томска пройдет он через десятки пересыльных тюрем. На каждом этапе – остановка, проволочка, мытарство. А ведь еще от Томска надо добраться до Нарыма. Тут уж совсем затоскует парень. Повезут на открытой барже. Если угадает в теплую погоду – счастье, а вдруг выпадет холодное время? Издрожится мой Робеспьер, увидит, что у революции, кроме парадной стороны – афористичных звонких лозунгов, бурных манифестаций, зажигательных речей, есть тяжелые будни, изнуряющая изнанка, черный труд. Сколько их, этих храбрых юных говорунов, надломилось в непосильных поединках с царскими сатрапами или пало перед безмолвными стенами казематов! Уж вон декабристы какие были герои, а ведь некоторые не выдержали, запросили пардону!» – рассуждал сам с собой Лихачев.
В эти минуты раздумий ему жалко было Акимова. Хорошая, очень подходящая для науки голова была у Ваньки на плечах. «Растрясет свои недюжинные задатки в бесплодных политических спорах», – вздыхал Лихачев.
Лихачев вспоминал путешествие вместе с Ванькой по Кети до берегов Енисея. Три месяца провели они тогда вместе. Иван только что окончил первый курс. Он выглядел совсем еще цыпленком. Но уже тогда чувствовалось, что у этого парня будет цепкая рука.
Лихачев на всю жизнь запомнил, какие интересные мысли высказывал Акимов, когда они, завершив промеры прибрежных обнажений, принялись рассуждать об особенностях среднекетского рельефа. Иван тогда развил оригинальный взгляд на взаимосвязь приенисейских горных хребтов с кетской равниной. Лихачев спорил с ним, ввертывал задиристые вопросы, но Иван отстаивал свое представление, и с таким азартом, что у него даже голос осип. Вечером, на ночевке, заполняя полевой дневник, Лихачев изложил мысли Ивана и тут же в скобках пометил, что взгляд этот высказал И. И. Акимов. Что касается его, Лихачева, то он считает точку зрения Акимова вполне научной и сформулированной исчерпывающим образом.
Перечитывая теперь в поздние вечерние часы свои дневные наброски к будущим главам книги, Лихачев шептал: «Почитать бы Ваньке, вслух пообсуждать кое-что с ним, поспорить да дать ему, чтоб он глазами поелозил по моим страницам…» И хоть Лихачев работал временами до умопомрачения, все-таки одиночество грызло его, и чем дальше, тем сильнее. Грызло свирепо, упорно, как зверь грызет в неволе прутья своей клетки.
7
Но вдруг в лихачевском темном царстве вспыхнул луч света. Из Петрограда в Стокгольм прибыл некий Казимир Эмильевич Осиповский. В первый же день по прибытии Осиповский примчался к Лихачеву. Он передал ученому приветы от знакомых профессоров и учеников и, сообщив Лихачеву, что его квартира в полной сохранности, передал ему подарок от Неонилы Терентьевны – банку великолепного брусничного варенья, каковое профессор обожал до страсти.
Осиповский назвался доцентом, специалистом в области археологии и в известной мере учеником Лихачева, так как слушал его лекции, будучи студентом Казанского университета. Дело было давным-давно, и Лихачев, не очень-то запоминавший лица и фамилии тех, с кем он сталкивался в лекционных залах и лабораториях, не смог припомнить Осиповского.
Несколько часов подряд, отложив работу, Лихачев слушал рассказы Осиповского о жизни Петрограда и России, боясь пропустить хоть одно слово.
Казимир Эмильевич был говорун, краснобай. Слова струились из его уст легко, плавно, без малейших задержек. Каких только сторон российской жизни не коснулся Осиповский! Все он знал, во всех сферах был сведущ.
Заходила речь о положении рабочих в России – Осиповский строчил своей непередаваемой скороговоркой, кося юркими маленькими глазками на собственный увесистый горбатый нос:
– Положение рабочих, достопочтенный Венедикт Петрович, аховое. Заработки прежние, если не ниже, а дороговизна взвинтила все – не подступишься. Да и какие рабочие?! На заводах полно бабья и подростков. Мастеровой люд уцелел только там, где производится оружие, где уж не обойдешься без умелых рук.
Интересовался Лихачев жизнью крестьян. Осиповскии и об этом рассказывал обстоятельно, подробно, словно он только вчера приехал откуда-нибудь со Смоленщины или с Поволжья.
– Разорение! Полный упадок! Число безлошадных увеличивается катастрофически. Посевы сократились. Избы разваливаются. Холод и голод бродят по селам. Едят уже и лебеду, и сушеный мох. Сирот и вдов становится все больше и больше.
– Ну, а что же наше правительство, батюшка царь-государь? – спросил Лихачев.
– Вся надежда на Гришку Распутина, – хохотнул Осиповский и, не щадя Лихачева, который морщился и стонал от его рассказа о нравах, процветавших в высших сферах, передал все, о чем был сам наслышан в петроградских салонах и приемных.
– Что же, значит, один выход: революция? – не то спрашивая, не то утверждая, сказал Лихачев. – Ведь дальше падать некуда. Предел! Мракобес и авантюрист во главе такого государства! А? – вопросительно взглянул он на гостя.
Осиповскии взметнул подвижными, как крылья птицы, руками, воскликнул:
– Полагайте как угодно-с!
– Чего ж тут полагать? Ясно и без полаганий, – грубовато отозвался Лихачев.
– Царизм кончается, – опять взметнул руками Осиповский.
– Уж скорее бы подыхал! – рубанул кулаком Лихачев.
Скверно, невыразимо скверно было у Лихачева на душе. Проводив гостя, он долго шагал по комнате с завалами книг и бумаг по углам. «И что вы там, черти полосатые, медлите?! – мысленно обращаясь к Ивану, размышлял Лихачев. – Прохиндей и негодяй в качестве наставника царствующих особ?! А?! Ну, знаете, докатились! Хлопнули бы его, что ли? Нет, Ванечка, в прежние времена революционеры-то были посмелее вашего брата! Не ждали, когда очнется от спячки русский мужичок, сами не боялись замарать руки…»
Рассказы Осиповского о жизни России оставили такое гнетущее впечатление, что и на другой день Лихачев не мог работать. То лежал на диване, просматривая газеты с сообщениями о событиях на русско-германском фронте, то пил кофе, обжигаясь и чувствуя нытье под ложечкой, то подходил к столу и, рассматривая карту Обь-Енисейского канала, думал о том, как бы хорошо было ему, если бы где-нибудь вот тут, в Зимаревке, на берегу Кети, жил он как простой рыбак и охотник, не ведая, не зная обо всех этих раздирающих душу неустройствах его страдающего отечества… «Пойти в ресторан да надрюкаться, что ли?» – не зная, как подавить тоску, думал Лихачев.
Но Осиповский словно подслушивал его мысли. В полдень раздался звонок, и петроградский археолог впорхнул в дверь с легкостью весеннего мотылька.
– Ну как, достопочтенный Венедикт Петрович, самочувствие? Как спалось, как работалось, как отдыхалось? – застрочил пулеметной дробью Осиповский.
– Гнусно, отвратно, – пробурчал Лихачев, втайне радуясь, что Осиповскии все же как-то отвлечет его от тяжелых мыслей.
– Что такое? Нездоровится? – полюбопытствовал гость.
– Россия, – протяжно выдохнул Лихачев.
– А, бросьте вы страдать о России! Проживет. Коли своего ума нашим правителям не хватит, призаймут у иноземцев. Бывало!
– Бывало! Да больше не должно быть! – почти рявкнул Лихачев.
– Не спорить примчался, Венедикт Петрович, – миролюбиво сказал Осиповскии. – Приехал просить вас оказать вашему покорному слуге честь. Сегодня в ресторане «Континенталь» собираю своих знакомых. Хочется скорее войти в круг новых людей. Иначе здесь, в этой сытой, благополучной стране, можно повеситься от одиночества.
– К чему я, кажется, и приближаюсь, – мрачно пробубнил Лихачев и, глядя куда-то в сторону, подумал: «Пойду развеюсь».
А спустя три часа Лихачев сидел в ресторане за столом, накрытым на немецкий манер: посуды вдоволь, а закусь и выпивон подносят официанты. Положат кружок колбаски на тарелку, бережно нацедят сквозь хитрую пробку рюмочку зелья и уносят скорей подальше. «Эхма! За русским бы столом посидеть сейчас, чтоб все ломилось от еды-питья!» – тоскливо оглядывая гостей Осиповского, думал Лихачев.
Компания оказалась пестрой. Были какие-то две сухопарые англичанки, по-видимому, старые девы, без умолку говорившие о редкостных раскопках некоего господина Смита на одном из островов благословенной Эллады, шведский археолог, страшно унылый по внешности и молчаливый старик, лет этак, видимо, под девяносто, и молодой, по живости и темпераменту напоминавший самого Осиповского француз Гюстав Мопассан.
– По имени я счастливо соединяю двух французских классиков: Флобера, чье имя ношу, и Мопассана, – пристукивая каблучком, отрекомендовался француз.
Встреча прошла уныло. Англичанки и швед никак не могли оставить своей излюбленной темы о раскопках удачливого господина Смита, а француз и Осиповский строчили о своем: о чудных парижских ресторанах, о парижанках, которые, как никто в мире, знают толк в одежде, и в пище, и в удовольствиях…
Лихачев лениво жевал перепаренное мясо, и настроение его все больше и больше падало. «Не было у меня здесь друзей, но и эти балаболки не друзья», – думал он, поглядывая на дверь.
Этот вечер запомнился Лихачеву как никакой другой. Еще не доехав до своей квартиры, он почувствовал себя так худо, что искры посыпались из глаз. Было такое ощущение, что на грудь ему кто-то невидимый положил железную плиту, а в легкие со спины вонзил трубки и качает по ним кузнечными мехами горячий воздух. Смахивая с ресниц и бровей холодные капли пота, Лихачев, придерживаясь растопыренными пальцами за стены, вошел в свою квартиру и рухнул на пол.
Пока служанка вызывала врача, Лихачев чуть господу душу не отдал. В короткие мгновения, когда сознание возвращалось к нему, он переводил глаза на свой письменный стол, и сердце сжималось еще сильнее. «Все пропало… Дело жизни… На растопку печей увезут шведы бумаги… Ваньке отдать… Ему, по праву только ему».
Но смертный час Лихачева еще не пришел. Он отдышался. Однако шведские врачи не обрадовали его: лежать в постели месяц по меньшей мере, а может быть, и все два. Первый раз в жизни Лихачев заплакал безутешными слезами. «За что такое наказание?! Кто же за меня провернет такую уймищу работы?! А умереть, не сделав ее, значит, перечеркнуть семьдесят два года жизни».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































