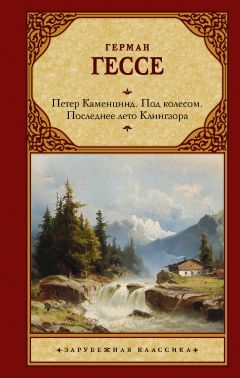
Автор книги: Герман Гессе
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В начале весны, когда я должен был бы отправиться в Ассизи, земля еще была скрыта метровыми сугробами. Лишь в апреле весна взялась за дело, и талые воды обрушились на нашу деревушку с такой яростью, какой здесь не видали уже много лет. День и ночь слышны были завывание фёна, отдаленный гул снежных лавин и злобный рев водопадов, которые швыряли на наши скудные, узенькие огороды и фруктовые сады огромные обломки скал и куски раздробленных на камнях деревьев. Альпийская лихорадка лишила меня сна; ночь за ночью, глубоко взволнованный, я со страхом внимал стенаниям ветра, грому лавин и рокоту разъяренного озера. В эту тревожно-лихорадочную пору ужасных весенних битв преодоленная мною болезнь любви еще раз дала о себе знать и причиняла мне такую боль, что ночью, не выдержав, я поднялся с постели, высунулся в окно и сквозь бурю отчаянно закричал Элизабет о своей любви. Никогда еще с той самой цюрихской ночи, когда я бесновался на вершине холма от любви к прекрасной иноземке-художнице, страсть не овладевала мною столь жестоко и неотвратимо. Часто мне казалось, будто Элизабет стоит прямо передо мной, улыбается мне и всякий раз, как только я делаю шаг ей навстречу, отступает назад. Мысли мои, куда бы они ни уносились, неизменно возвращались назад к этому образу; я уподобился больному, руки которого вопреки рассудку непрестанно тянутся к зудящему нарыву и расчесывают кожу до крови. Я сам себя стыдился, что было так же мучительно, как и бесполезно; я проклинал фён и все же тайком, одновременно со всеми своими муками, испытывал сокровенное, сладостное чувство блаженства, то самое, что в ранней юности накрывало меня темной, горячей волной всякий раз, когда я думал о хорошенькой Рози.
Я понял, что против этой болезни еще не придумано лекарства, и попытался хотя бы немного поработать. Я занялся композицией своего произведения, набросал несколько проектов и вскоре убедился, что время для этого было отнюдь не самым подходящим. А между тем отовсюду поступали недобрые вести о последствиях фёна, да и нашу деревню беда не обошла стороной: полуразрушенные дамбы, поврежденные дома, хлева и амбары; из соседней общины прибыли люди, оставшиеся без крова; всюду воцарились нужда и тревога, и негде было взять денег. И так случилось, к моему счастью, что староста пригласил меня в свою конторку и спросил, не желаю ли я стать членом комиссии по оказанию помощи пострадавшим. Люди, заявил он, доверяют мне представлять интересы общины в кантоне и прежде всего через прессу запросить участия и материальной помощи. Для меня это оказалось весьма кстати – именно теперь получить возможность забыть свои собственные бесполезные страдания за более серьезными и достойными заботами, и я отчаянно ухватился за эту возможность. Через переписку я быстро нашел в Базеле желающих организовать сбор пожертвований. У правительства кантона, как мы и предполагали, денег не было, и оно смогло лишь выделить несколько подручных рабочих. Тогда я обратился с воззваниями и репортажами в газеты; посыпались письма, денежные переводы, запросы, а кроме этой писанины, на меня возложена была обязанность улаживать споры и разногласия между советом общины и деревенскими тугодумами.
Несколько недель напряженной, неотлагательной работы подействовали на меня благотворно. Когда дело наконец приняло желаемый оборот и мое участие в нем перестало быть необходимостью, вокруг уже зеленели альпийские луга и чистое голубое око озера, казалось, весело подмигивало освободившимся от снега пологим склонам. Отец мой почувствовал себя лучше, и мои любовные терзания исчезли, испарились, словно грязные остатки снежной лавины. Прежде в эту пору отец всегда смолил нашу лодку; мать с огорода поглядывала в его сторону, а я, позабыв обо всем на свете, следил за его ловкими движениями, за облачками дыма из его трубки и за желтыми мотыльками. Этой весною смолить было нечего; матери давно уже не было в живых, а отец мрачно сидел в нашем старом, запущенном доме. О былых временах напоминал мне и дядюшка Конрад. Я частенько тайком от отца брал его в трактир, угощал вином, и он пускался в воспоминания о своих многочисленных проектах, рассказывая о них с добродушным смехом, однако не без гордости. Новых проектов он уже никому не предлагал, да и возраст уже наложил на него свою отчетливую печать, и все же в лице его, и особенно в его смехе, было что-то мальчишеское или юношеское, что согревало мне душу. Он не раз был мне утешением и развлечением, когда я, не выдержав дома, со стариком, брал дядюшку с собою в трактир. По дороге он изо всех сил старался приноровиться к моим шагам и суетливо ковылял рядом на своих тощих, кривых ногах.
– Поднимай парус, дядюшка Конрад! – подбадривал я его, и каждый раз упоминание злополучного паруса наводило разговор на наш старый челнок, от которого уже давно не осталось ни щепки и который дядюшка оплакивал, словно покойника. Так как старое суденышко и мне было дорого и памятно, мы пускались в подробнейшие воспоминания обо всем, что было с ним связано.
Озеро было таким же голубым, как в детстве, солнце – таким же теплым и празднично-ярким, и я, старый чудак, смотрел на желтых мотыльков и постепенно проникался чувством, будто с тех пор, в сущности, мало что изменилось и я мог бы вновь как ни в чем не бывало лечь в траву и поплыть по волнам мальчишеских грез. О том, что это заблуждение и что добрая часть жизни пронеслась в прошлое и уже никогда не вернется, мне каждое утро говорило мое собственное носатое лицо с горестно поджатым ртом, в упор глядя на меня сквозь блестящую рябь воды из ржавой умывальной миски. Еще более отрезвляюще действовал на меня Каменцинд-старший, живое напоминание о свершившихся переменах, а если мне нужно было совершенно отрешиться от прошлого и целиком перенестись в настоящее, достаточно было лишь выдвинуть ящик стола в моей комнате, в котором покоилось мое будущее произведение в виде стопки пожелтевших от времени записок и шести или семи набросков, написанных на бумаге в четвертку. Но я редко открывал ящик.
Кроме ухода за стариком много хлопот доставляло мне и наше захудалое хозяйство. В полу зияли черные дыры, печь и плита, давно требовавшие ремонта, отчаянно чадили, двери не закрывались, лестница на чердак, бывший некогда свидетелем суровых отцовских мер воспитания, стала опасной для жизни. Прежде чем что-нибудь сделать, нужно было наточить топор, починить пилу, одолжить молоток, наскрести гвоздей, а потом отобрать из остатков прежних полусгнивших запасов досок подходящий материал. С ремонтом инструмента и старого точильного круга мне немного помог дядюшка Конрад, но все же от слабого, сгорбившегося старика толку было мало. И вот я раздирал свои мягкие литераторские руки о непослушные доски, крутил шаткий точильный круг, карабкался вверх-вниз по вконец прохудившейся крыше, стучал, колотил, стругал и резал, а так как я уже успел изрядно раздобреть, то и пролил за всеми этими занятиями немало пота. Время от времени, особенно на этой ненавистной крыше, я вдруг неожиданно замирал с занесенным над шляпкой гвоздя молотком в руке, усаживался поудобнее, раскуривал погасшую сигару, устремлял взор в густую небесную синь и наслаждался своей ленью, в радостном сознании того, что отец уже не может подгонять и бранить меня. Если мимо шли соседи – женщины, старики или школьники, – я, чтобы как-то оправдать свое безделье, заводил с ними дружески-соседские разговоры и постепенно снискал себе славу человека, с которым приятно перемолвиться словом.
– Ну что, пригревает сегодня, Лизбет?
– И не говори, Петер. Что мастеришь?
– Крышу вот латаю.
– Тоже дело. Давно уж пора было.
– Твоя правда.
– Старик-то здоров? Ему уж небось давно семьдесят стукнуло?
– Восемьдесят, Лизбет, восемьдесят. Представляешь, и мы когда-нибудь доживем до таких лет, а? Старость не радость…
– Что верно, то верно, Петер. Ну я пойду, а то муж уже ждет свой обед. Счастливо оставаться!
– Будь здорова, Лизбет!
И она шла дальше со своей завернутой в платочек миской, а я мирно попыхивал сигарой, смотрел ей вслед и думал: отчего же это так происходит, что все люди как люди, трудятся не покладая рук, хлопочут, в то время как я уже второй день никак не управлюсь с одной планкой? Но в конце концов крыша все же была готова. Отец против обыкновения заинтересовался моими успехами, и, так как я не мог затащить его на крышу, мне пришлось все подробно описывать и отчитываться за каждую рейку, и, конечно же, трудно было удержаться, чтобы слегка не прихвастнуть.
– Хорошо, хорошо, – похвалил он. – Я-то думал, ты так скоро не управишься! И года не прошло…
Сейчас, когда я, оглядываясь назад, обозреваю и переосмысливаю свои странствия и жизненные опыты, мне и радостно, и досадно оттого, что я и на себе самом испытал старую истину: рыбе не жить без воды, а крестьянину без деревни, и никакие науки не сделают из нимиконского Каменцинда городского, светского человека. Я уже почти свыкся с этим и рад, что моя неловкая охота за счастьем против моей воли привела меня обратно, на маленький, зажатый между озером и горами клочок земли, где мое законное место и где мои добродетели и пороки – и прежде всего пороки – суть нечто обыденное и привычное. Там, на чужбине, я забыл свою родину и был близок к тому, чтобы самого себя считать чем-то вроде редкого, диковинного растения; теперь я вновь вижу, что это просто нимиконский дух бродил во мне, словно хмель, и не желал покориться чуждым обычаям. Здесь никогда никому не придет в голову назвать меня чудаком, а стоит мне посмотреть на своего папашу или дядюшку Конрада, и я кажусь себе вполне достойным сыном и племянником. Мои несколько зигзагообразных полетов в царство духа и так называемого образования очень напоминают знаменитую парусную одиссею дядюшки – разница состоит, пожалуй, лишь в том, что мне они стоили больших жертв: денег, усилий и прекрасных лет, которых уже не вернуть. А с тех пор как мой кузен Куони подстриг мне бороду и я вновь начал носить штаны с поясом и ходить в одной рубахе, я и внешне ничем не отличаюсь от своих земляков, и когда я превращусь в седого старца, то незаметно займу место отца и возьму на себя его роль в жизни деревни. Люди знают только то, что я много лет провел в чужих краях, и я остерегаюсь рассказывать им, что за жалкое ремесло у меня было и в скольких лужах мне довелось вываляться, иначе мне хватило бы насмешек и обидных прозвищ до конца дней моих. Всякий раз, рассказывая о Германии, Италии или Париже, я слегка важничаю и порой даже в самых искренних местах моего повествования вдруг сам начинаю сомневаться в своей правдивости.
И что же мне принесли все эти прожитые годы, все скитания? Женщина, которую я любил и которую все еще люблю, растит в Базеле двух своих прелестных детей. Другая, которая любила меня, вскоре утешилась и по сей день торгует овощами, семенами и фруктами. Отец, из-за которого я вернулся в родное гнездо, не умер и не выздоровел, а сидит себе напротив меня на своей лежанке, смотрит на меня и завидует моему обладанию ключом от погреба.
Однако это ведь еще не все. Кроме матери и утонувшего друга юности у меня есть еще два ангела на небе – белокурая Аги и бедный скрюченный Боппи. К тому же я в конце концов стал свидетелем того, как отремонтировали пострадавшие дома и починили обе дамбы. Если бы я захотел, я мог бы сейчас заседать в совете общины. Но там и без меня хватает Каменциндов.
А недавно передо мною открылась еще одна перспектива. Здоровье трактирщика Нидеггера, у которого и мой отец, и я выпили не один литр фельтлинского, валлисского или ваадтлендского, сильно пошатнулось, и дело уже не приносит ему прежней радости. На днях он поведал мне свои печали. Самое скверное заключается в том, что если хозяйство его не купит кто-нибудь из местных жителей, то это сделает какая-нибудь пивоварня, и у нас в Нимиконе уже не будет такого по-домашнему уютного трактира. Приедет чужой арендатор, которому, конечно, выгоднее торговать пивом, чем вином, и славный Нидеггеров винный погреб будет запущен и загублен. С тех пор как я это знаю, я лишился покоя: в Базеле у меня осталось еще немного денег в банке, и старый Нидеггер мог бы обрести в моем лице неплохого преемника. Загвоздка лишь в том, что мне не хотелось бы становиться хозяином трактира при жизни отца. Ибо тогда мне уже нелегко было бы удержать старика от вина, а кроме того, для него это было бы триумфом – что со всей своей латынью и прочими книжными премудростями я стал всего-навсего хозяином нимиконского трактира. Этого я допустить не могу и потому постепенно, против своей воли, начинаю как бы мысленно призывать кончину старика – не то чтобы с нетерпением, а просто для пользы общего дела.
Дядюшка Конрад с недавних пор вновь охвачен неуемной жаждой деятельности, после долгих лет тихой дремы, и это не нравится мне. Закусив указательный палец, с глубокомысленной складкой на лбу, он торопливо семенит взад-вперед по комнате и в ясную погоду то и дело поглядывает на озеро.
– Я уж давно говорю, он опять собрался строить свои кораблики, – сообщила старая тетушка Кенцине.
Он и в самом деле впервые за столько лет выглядит так бодро и отважно, а лицо его приняло лукаво-высокомерное выражение, мол, теперь-то я уж точно знаю, как это делается. Но я думаю, это все пустое; это просто усталая душа его требует крыльев, чтобы вернуться домой. Поднимай парус, старина Конрад! И если действительно час его пробил, то господа нимиконцы увидят нечто неслыханное. Ибо я решил на могиле его сразу же после священника произнести небольшую речь, чего здесь испокон веку не бывало. Я призову всех почтить память дядюшки как праведника и избранника Божия, а за этой назидательной частью моей речи последует обращение к возлюбленным скорбящим родственникам, приправленное доброй пригоршней соли и перца, которое они мне долго не смогут забыть и простить. Надеюсь, что и отец мой доживет до этого события.
А в ящике стола лежат начатки моей великой поэмы. Можно было бы сказать – «дело всей моей жизни». Но это звучит чересчур патетично, и потому я предпочитаю не говорить этого, ибо следует признать, что вероятность продолжения и завершения оного весьма невелика. Быть может, еще настанет время, и я вновь начну, продолжу и закончу свою поэму; если это случится, то, стало быть, моя юношеская тоска была не напрасна и я все же – поэт.
Пожалуй, это было бы для меня ценнее и совета общины, и всех дамб, вместе взятых. Но ушедших в прошлое и все же не потерянных лет моей жизни, со всеми дорогими и незабвенными образами – от стройной Рози Гиртаннер до бедного Боппи, – оно бы не перевесило.
Перевод Р. Эйвадиса
Под колесом
Глава 1
Господин Йозеф Гибенрат, комиссионер и торговый агент, ни достоинствами, ни особыми качествами среди сограждан не выделялся. Подобно им, он обладал широкой крепкой фигурой, имел известную коммерческую жилку, соединенную с искренним и глубоким почитанием денег, а также небольшой дом с садиком да семейный склеп на кладбище, был не чужд слегка либеральной и уже небесспорной религиозности, с подобающим респектом относился к Господу и к начальству и слепо соблюдал железные заповеди бюргерской добропорядочности. Он позволял себе кружечку-другую винца, однако никогда не пил допьяна. Иной раз совершал не вполне безупречные сделки, никогда, однако, не выходя за пределы формально допустимого. Людей победнее он бранил нищебродами, а тех, кто побогаче, – спесивцами. Был членом Союза горожан и каждую пятницу играл в «Орле» в кегли, а кроме того, участвовал во всяком пекарном дне, снимал пробы мясных рагу и супов из колбасы. За работой курил дешевые сигары, а после трапезы и по воскресеньям – сигары сортом получше.
Внутренний же его мир можно назвать обывательским. Коли и была в нем отзывчивость, так она давным-давно покрылась пылью и, по сути, сводилась к традиционным, скупым родственным чувствам, гордости родным сыном и случайным порывам одарить чем-нибудь бедняков. Умственные его способности не превышали врожденной, строго отмеренной хитрости и умения хорошо считать. В чтении он ограничивался газетами, а чтобы удовлетворить потребность в искусствах, ему вполне хватало ежегодного любительского спектакля Общества горожан и эпизодических посещений цирка.
Он мог бы поменяться именем и жилищем с любым соседом – ничего бы не изменилось. Ведь и глубинную основу своей души – неусыпное недоверие ко всякой превосходящей силе и личности и инстинктивную, замешенную на зависти враждебность ко всему незаурядному, более свободному, более тонкому, одухотворенному – он разделял со всеми прочими городскими отцами семейств.
Довольно о нем. Лишь глубоко ироничный человек сумел бы описать эту банальную жизнь и ее неосознанный трагизм. Но у Гибенрата был единственный сын, и вот о нем-то стоит поговорить.
Ханс Гибенрат, без сомнения, был мальчик одаренный, тонкий; это сразу бросалось в глаза, едва только увидишь его среди других детей: он с ними не смешивался. Захолустный шварцвальдский городок еще не рождал подобных созданий, никогда не выходил оттуда человек, проникавший своим взором и влиянием за пределы обывательской узости. Бог весть, откуда у этого мальчугана взялись серьезные глаза, умный лоб и изящество в походке. Может быть, от матери? Она умерла много лет назад, а при жизни в ней не замечали ничего необычного, она разве что вечно прихварывала да тревожилась. Об отце вовсе говорить не приходится. Стало быть, поистине в старинный городишко, который за свои восемь-девять веков дал так много усердных бюргеров, но дотоле никогда не рождал ни единого таланта или гения, слетела из горних высей таинственная искра.
Прошедший современную выучку наблюдатель, памятуя о болезненной матери и о внушительном возрасте отца семейства, вероятно, повел бы разговор о гипертрофии интеллекта как симптоме начинающегося вырождения. Однако, на счастье, людей этакого сорта в городе не проживало, и лишь те из чиновников и школьных учителей, кто помоложе да потолковее, почерпнули из журнальных статей смутное представление о существовании «современного человека». В этом захолустье ты пока мог жить и слыть образованным, понятия не имея о речах Заратустры[39]39
Намек на работу Фр. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883–1884).
[Закрыть]; браки здесь были прочными и нередко счастливыми, а жизнь в целом отличалась неискоренимой старомодностью. Благополучные, состоятельные бюргеры, иные из которых за последние два десятка лет вышли из ремесленников в фабриканты, хоть и снимали шляпу перед чиновниками и искали знакомства с ними, но меж собой называли их нищебродами и чернильными душонками. И все-таки странным образом их обуревало честолюбивое желание дать сыновьям образование, чтобы те, глядишь, заделались чиновниками. Увы, почти всегда это оставалось прекрасной, несбывшейся мечтой, ибо наследники их большей частью даже латинскую школу одолевали с большим скрипом, сидя чуть не в каждом классе по два года.
В способностях Ханса Гибенрата сомневаться не приходилось. Учителя, директор школы, соседи, городской пастор, одноклассники и все окружающие признавали, что этот мальчуган – светлая голова и вообще особенный. Тем самым будущность его была предрешена. Ведь одаренным отрокам, коли их родители небогаты, в швабских краях открыта лишь одна-единственная узкая стезя: через земельный экзамен – в семинарию, оттуда – в Тюбингенский монастырь, а из монастыря на кафедру – либо на церковную, либо на учительскую. Год за годом три-четыре десятка здешних сынов ступают на эту скромную, надежную стезю; недавние конфирманты, исхудалые и переутомленные, постигают за казенный счет различные области гуманитарных знаний и спустя восемь-девять лет начинают вторую, обыкновенно более продолжительную часть своего жизненного пути, на котором им должно возместить государству полученные благодеяния.
Всего через несколько недель вновь предстоял «земельный экзамен». Так именуется ежегодная гекатомба, в ходе которой «государство» отбирает духовный цвет земли, меж тем как из городков и деревень к столице, где проистекает экзамен, летят вздохи, молитвы и пожелания многочисленных семейств.
Ханс Гибенрат был единственным кандидатом, которого городок намеревался послать на нелегкое состязание. Большая честь, но досталась она ему отнюдь не даром. За уроками в школе, продолжавшимися ежедневно до четырех, следовал дополнительный урок греческого у директора, в шесть городской пастор любезно давал повторительный урок латыни и религии, а кроме того, дважды в неделю после ужина происходили часовые занятия с учителем математики. В греческом наряду с неправильными глаголами особое внимание уделялось разнообразию соединения предложений, выражаемому посредством частиц; в латыни требовались ясность и краткость стиля и точное знание многих просодических тонкостей; в математике упор делался прежде всего на сложные задачи по тройному правилу. Эти задачи, как постоянно подчеркивал учитель, на первый взгляд не имеют значения для дальнейшей учебы и жизни, однако ж только на первый взгляд. В действительности они очень важны, важнее даже иных главных предметов, ибо развивают логические способности и составляют основу ясного, трезвого и успешного мышления.
Впрочем, чтобы не случилось умственной перегрузки и чтобы за упражнениями ума не была забыта и не засохла душа, Хансу дозволялось каждое утро, за час до школы, посещать занятия для будущих конфирмантов, где из Бренцева катехизиса[40]40
Имеется в виду катехизис, составленный Йоханнесом Бренцем (1499–1570), одним из самых влиятельных теологов Южной Германии.
[Закрыть] и из увлекательного заучивания наизусть и декламирования вопросов и ответов в юные души проникало бодрящее дуновение религиозной жизни. К сожалению, он сам губил эти живительные уроки и лишал себя их благодати. Дело в том, что украдкой он вкладывал в катехизис исписанные листки, греческие и латинские вокабулы или упражнения и почти все время занимался этими мирскими науками. Однако совесть его не настолько притупилась, чтобы он беспрестанно не испытывал тягостной неуверенности и легкого страха. Когда декан подходил ближе к нему или выкликал его имя, он всякий раз испуганно вздрагивал, а когда должен был отвечать, вставал с потным лбом и сердцебиением. Но ответы были безупречно правильны, в том числе и касательно произношения, что декан весьма ценил.
Задания по письму или заучиванию наизусть, повторению и разбору, которые за день накапливались от урока к уроку, он затем поздно вечером делал дома при уютном свете лампы. Эта тихая, благостно обвеянная домашним умиротворением работа, по мнению классного наставника, оказывала особенно глубокое и стимулирующее воздействие и по вторникам и субботам продолжалась обычно лишь часов до десяти, в другие же дни – до одиннадцати, до двенадцати, порой даже и за полночь. Отец немного ворчал по поводу непомерного расхода керосина, однако смотрел на эти штудии все-таки с одобрительной гордостью. Возможные часы досуга и воскресные дни, составляющие ни много ни мало седьмую часть нашей жизни, настоятельно рекомендовалось посвятить чтению кой-каких, не входящих в школьную программу авторов и повторению грамматики:
– Разумеется, в меру, в меру! Одна-две прогулки в неделю необходимы и творят чудеса. В хорошую погоду можно ведь и книгу захватить с собой на природу – сам увидишь, как легко и радостно идет учение на свежем воздухе. И вообще не унывай!
И Ханс, по возможности стараясь не унывать, отныне и прогулки тоже использовал для учения и ходил молчаливый, робкий, бледный от недосыпа, с темными кругами под усталыми глазами.
– Как вы полагаете, Гибенрат выдержит экзамен? – спросил однажды у директора классный наставник.
– Конечно, конечно, выдержит! – радостно вскричал директор. – Мальчик очень умен; вы только посмотрите – вид у него поистине одухотворенный.
За последние восемь дней одухотворенность сделалась совершенно очевидной. На миловидном, нежном мальчишечьем лице тоскливым огнем горели глубоко запавшие, тревожные глаза, по красивому лбу рябью пробегали мелкие, выдающие ум морщинки, а руки, и без того тонкие, худые, висели с усталой грацией, напоминающей Боттичелли.
И вот настала пора. Завтра утром Ханс поедет с отцом в Штутгарт и там покажет на земельном экзамене, достоин ли войти в узкую монастырскую калитку семинарии. И только что он побывал с прощальным визитом у директора латинской школы.
– Сегодня вечером, – с необычной мягкостью сказал в заключение грозный властелин, – работать тебе больше нельзя. Обещай мне. Завтра в Штутгарте ты должен быть абсолютно свежим и бодрым. Ступай прогуляйся еще часок, а затем пораньше ложись спать. Молодым людям сон необходим.
Ханс удивился, что на него не обрушили устрашающую лавину советов, но встретили с таким благожелательством, и, облегченно вздохнув, покинул школьное здание. Пышные липы Кирхберга тускло поблескивали в горячих лучах предвечернего солнца, на Рыночной площади плескали, искрясь, два больших фонтана, совсем близко над зубчатой линией кровель возвышались иссиня-черные, поросшие елями горы. Мальчугану казалось, он очень давно не видел этой картины, и все представлялось ему необычайно красивым и заманчивым. Правда, голова болела, но ведь сегодня уже не надо садиться за учебники.
Он медленно прошагал через Рыночную площадь, мимо старинной ратуши, по Рыночному переулку и мимо ножовой мастерской к старому мосту. Там он некоторое время бродил туда-сюда и, в конце концов, сел на широкий парапет. Неделями и месяцами он по четыре раза в день проходил здесь, не замечая ни готической мостовой часовенки, ни реки, ни шлюза, ни запруды, ни мельницы, ни даже луга и окаймленных ивами берегов, где одна подле другой располагаются дубильни, а глубокая, зеленая река течет так медленно, что кажется озером, и гибкие, острые ветви ив свисают прямо в воду.
Теперь ему вспомнилось, сколько раз он проводил здесь время – до полудня, а то и до самого вечера, как часто плавал здесь, и нырял, и катался на лодке, и удил рыбу. Ах, рыбалка! Он почти разучился ловить рыбу и забыл, как это делается, а в прошлом году так горько плакал, когда ему запретили рыбачить, из-за экзамена. Рыбалка! Это же самое прекрасное за все долгие школьные годы. Стоишь в сквозистой тени ив, слышишь неподалеку плеск мельничных запруд, видишь глубокую, спокойную воду! А игра огоньков на реке, мягкое покачивание длинного удилища, волнение, когда рыба и клюет и тянет лесу, и совершенно особенная радость, когда держишь в руке прохладную, упругую, трепещущую рыбину!
Ведь ему доводилось вытаскивать и крепких карпов, и плотву, и чебаков, а еще нежных линей и мелких, ярких гольянов. Ханс долго смотрел на воду, и зрелище зеленого речного уголка навеяло на него задумчивость, печаль и ощущение, что чудесные, вольные, бесшабашные мальчишечьи радости остались далеко-далеко. Машинально он вытащил из кармана кусок хлеба и принялся катать из мякиша большие и маленькие шарики, бросая их в воду и глядя, как они тонут и как рыбы их заглатывают. Сначала приплыли маленькие золотистые ряпушки и уклейки, которые жадно хватали мелкие шарики, а крупные беспорядочно толкали перед собой голодными ртами. Потом медленно и осторожно приблизилась довольно крупная плотва, чья широкая темная спина едва заметно проступала на фоне дна, она не спеша скользнула вокруг хлебного шарика, а затем тот исчез во внезапно распахнувшейся круглой пасти. От вяло текущей воды шел теплый сырой запах, несколько светлых облачков смутно отражались в зеленой глади, на мельнице пыхтела циркульная пила, а плеск обеих запруд сливался в один ровный басовый тон. Мальчик думал о недавнем воскресенье, когда состоялась конфирмация и в разгар праздничного волнения он поймал себя на том, что повторяет про себя греческий глагол. Последнее время в мыслях у него вообще частенько царила путаница, и в школе он тоже думал не о лежащей перед ним работе, а о предыдущей или о следующей.
Вполне возможно, с экзаменом все будет хорошо!
Он рассеянно слез с парапета, не зная, куда бы пойти. И очень испугался, когда сильная рука схватила его за плечо и приветливый мужской голос произнес:
– Здравствуй, Ханс, не проводишь меня немножко?
Это оказался сапожник, мастер Флайг, к которому он раньше иной раз заходил вечером на часок, но у которого давно уже не бывал. Ханс шел рядом, вполуха слушая, о чем говорит набожный пиетист[41]41
Пиетист – приверженец пиетизма, движения в протестантизме, стремящегося к личному благочестию и деятельной любви к ближнему; в народе пиетистов нередко считали ханжами.
[Закрыть]. Флайг говорил об экзамене, желал удачи и ободрял, а в первую очередь убеждал, что подобный экзамен вообще лишь чисто показное и случайное. Срезаться – не позор, от такого и самый лучший не застрахован, и коли так произойдет, ему надобно помнить, что Господь для всякой души имеет особенные намерения и ведет ее своим путем.
Перед этим человеком совесть у Ханса была не вполне чиста. Он испытывал глубокое уважение к нему и его уверенному, внушительному нраву, однако же слыхал про пиетистов великое множество анекдотов и смеялся вместе со всеми, нередко кривя при этом душой, а вдобавок невольно стыдился собственной трусости, ведь с некоторых пор он едва ли не со страхом избегал сапожника из-за его настойчивых расспросов. С тех пор как он стал гордостью наставников и сам сделался несколько заносчив, мастер Флайг часто смотрел на него как-то странно и пытался призвать к кротости. Оттого-то благонамеренный попечитель мало-помалу упустил душу мальчугана, ведь Ханс находился в расцвете подросткового упрямства и тонко чувствовал любое неприятное посягательство на свое достоинство. Сейчас он шагал обок говорящего и знать не знал, с какой заботливостью и добротой тот сверху вниз глядит на него.
На Коронной улице им встретился городской пастор. Сапожник поздоровался, степенно и холодно, и немедля заспешил прочь, ведь городской пастор был из новомодных, ходили слухи, будто он даже в воскресение из мертвых не верит. Пастор увел мальчика с собой.
– Как дела? – спросил он. – Верно, радуешься, что пришло время.
– Да, пожалуй.
– Ну что ж, держись достойно! Знаешь ведь, мы все на тебя надеемся. В латыни я ожидаю от тебя особенного успеха.
– Но вдруг я провалюсь, – робко заметил Ханс.
– Провалишься?! – Священник в испуге остановился. – Провалиться просто невозможно. Невозможно, и все! Что за мысли!
– Я только хотел сказать, что и такое может…
– Не может, Ханс, не может; уж тут будь спокоен… Передай поклон своему папеньке и будь мужествен!
Ханс проводил его взглядом, а затем осмотрелся вокруг – не видно ли сапожника. Как он сказал? Латынь – не самое важное, главное, чтобы сердце у человека было доброе и чтобы он боялся Господа. Хорошо ему говорить. А тут еще и городской пастор! В случае провала лучше вообще ему на глаза не попадаться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































