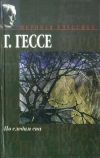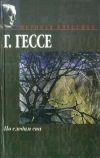Текст книги "Письма"

Автор книги: Герман Гессе
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Я уже вышел из своей каморки и ушел из дому через заднюю дверь в сад. Сады и луга были залиты ярким солнцем, над дорогой кружились бабочки-лимонницы. Все казалось теперь более скверным, чем утром. О, это мне было уже знакомо, и все-таки никогда, право, я не ощущал этого столь мучительно: город и колокольня, луга и дорога, цветы в траве и бабочки – все, глядя на меня, дышало естественностью и чистой совестью, все красивое и веселое, на что обычно глядишь с радостью, стало сейчас околдованным и чужим! Это мне было знакомо, я уже знал, каково это – шагать по привычным местам, когда тебя мучит совесть! Пролети сейчас над лугом и сядь у моих ног редчайшая бабочка, это ничего не значило бы, не обрадовало бы, не взволновало, не утешило. Протяни мне сейчас свою самую роскошную ветку прекраснейшее вишневое дерево, это не имело бы ни малейшей цены, счастья в этом не было бы. Сейчас существовало одно – бежать, бежать от отца, от наказания, от самого себя, от своей совести, бежать без передышки и до тех пор, пока все равно, неумолимо и неминуемо, не свершится то, что свершиться должно.
Я бежал без передышки, бежал в гору до самого леса, а с Дубовой горы вниз к Княжеской мельнице, затем через мостик и снова в гору и лесом. Здесь был наш последний индейский лагерь. Здесь в прошлом году, когда отец был в отъезде, мать праздновала с нами, детьми, Пасху и прятала для нас яйца во мху. Здесь я однажды в каникулы построил со своими двоюродными братьями крепость, она еще сохранилась наполовину. Везде остатки других дней, везде зеркала, из которых на меня глядел не тот, кем я был сегодня! Неужели это был я? Такой веселый, такой довольный, такой благодарный, такой общительный, такой нежный с матерью, такой свободный от страхов, такой непонятно счастливый? Я ли это был? И как мог я стать таким, как сейчас, настолько другим, совершенно другим, таким злым, таким испуганным, таким несчастным? Все было обычным: лес и река, папоротники и цветы, крепость и муравейник, – и, однако же, все было как бы отравлено и разорено. Неужели нет никакого пути назад, туда, где остались невинность и счастье? Неужели никогда больше не будет так, как было? Суждено ли мне когда-нибудь снова смеяться, как прежде, играть с сестрами, искать пасхальные яйца?
Я бежал и бежал, на лбу у меня выступил пот, а за мной бежала моя вина, бежала, преследуя меня, тень отца, огромная и чудовищная.
Мимо меня пробегали аллеи, спускались лесные опушки. На каком-то холме я остановился, в стороне от дороги, и бросился в траву с сильным сердцебиеньем – оно было вызвано, вероятно, тем, что я бежал в гору, и я полагал, что оно скоро пройдет. Внизу я видел город и реку, видел гимнастический зал, где сейчас кончался урок и мальчики разбегались, видел длинную крышу отцовского дома. Там была спальня отца, был ящик, откуда исчезли винные ягоды. Там была моя комнатка. Там, когда я вернусь, меня настигнет кара. А если я не вернусь?
Я знал, что вернусь. Всегда возвращаешься, каждый раз. Кончается всегда этим. Нельзя уйти, нельзя удрать в Африку или в Берлин. Ты мал, у тебя нет денег, тебе никто не поможет. Вот если бы все дети соединились и помогали друг другу! Их много, детей на свете больше, чем родителей. Но не все дети воры и преступники. Таких, как я, мало. Может быть, я единственный в своем роде. Но нет, я знал, такие вещи, как у меня, случаются часто – один мой дядя в детстве тоже что-то украл и натворил бед, это я как-то узнал, тайком, подслушав разговор родителей, тайком, как приходится узнавать все интересное. Но все это мне не поможет, и даже окажись здесь сам этот дядя, он тоже мне не помог бы! Он теперь давно уже большой и взрослый, он пастор, и он будет на стороне взрослых, а от меня отступится. Все они такие. Перед нами, детьми, они все в чем-то неискренни и лживы, играют какую-то роль, притворяются иными, чем они есть. Мать, может быть, нет или меньше.
А если бы я не вернулся домой? Ведь могло же что-нибудь случиться, я мог ведь сломать шею, или утонуть, или попасть под поезд. Тогда все выглядело бы иначе. Тогда меня доставили бы домой, и все бы испуганно притихли, и плакали бы, и жалели меня, и о винных ягодах не было бы и речи.
Я прекрасно знал, что можно самому лишить себя жизни. Я и думал, что когда-нибудь, наверно, сделаю это, позднее, если станет совсем уж скверно. Хорошо бы заболеть, но не каким-то там кашлем, а по-настоящему, смертельно, заболеть так, как тогда, когда у меня была скарлатина.
Тем временем урок гимнастики давно прошел и прошло время, когда меня дома ждали к кофе. Может быть, они сейчас звали и искали меня – в моей комнате, в саду, во дворе, на чердаке. Но если отец уже обнаружил пропажу, тогда меня не искали, тогда он знал, в чем дело.
Лежать дольше было невмоготу. Судьба не забывала меня, она гналась за мною. Я побежал опять. В парке я пробежал мимо скамейки, с которой тоже было связано некое воспоминание, еще одно, некогда прекрасное и дорогое, а сейчас обжегшее как огонь. Отец подарил мне перочинный нож, мы вместе, весело и дружно, гуляли, и он сел на эту скамью, а я пошел в орешник вырезать себе палку. И тут я в пылу радости загубил новый ножик, сломав лезвие у самого черенка; я в ужасе вернулся, собираясь скрыть это, но отец сразу же спросил меня, цел ли подарок. Я был очень несчастен, и из-за ножика, и потому, что ждал нагоняя. Но отец только улыбнулся, потрепал меня по плечу и сказал: «Бедняга, какая жалость!» До чего же я любил его тогда, сколько раз мысленно просил у него прощения! И сейчас, стоило мне только вспомнить тогдашнее лицо отца, его голос, его сочувствие… Какой же я был мерзавец, если столько раз огорчал и обманывал, а сегодня и обокрал такого отца!
Когда я снова вошел в город, у верхнего моста, недалеко от нашего дома, уже стало смеркаться. Из какой-то лавки, за стеклянной дверью которой уже горел свет, выбежал мальчик и, внезапно остановившись, окликнул меня по имени. Это был Оскар Вебер. Нельзя было появиться более некстати. Однако я узнал от него, что учитель не заметил моего отсутствия на уроке гимнастики. Но где же я был?
– Да нигде, – сказал я, – мне нездоровилось.
Я был молчалив и уклончив, и через некоторое время, показавшееся мне возмутительно долгим, Вебер заметил, что он мне в тягость. Тут он разозлился.
– Оставь меня в покое, – сказал я холодно, – я и один дойду.
– Вот как? – воскликнул он. – Я дойду один не хуже твоего, дурачина! Я тебе не шавка, имей в виду. Но прежде я хочу выяснить, как обстоит дело с нашей копилкой. Я внес десять пфеннигов, а ты ничего.
– Можешь получить назад свои десять пфеннигов хоть сегодня, если ты боишься за них. Только не мозоль мне глаза. Больно нужны мне твои подачки.
– А эту принял за милую душу, – сказал он с издевкой, но оставляя все же лазейку для примирения.
Я, однако, рассвирепел, вся моя растерянность, все накопившиеся во мне страхи разрядились дикой злостью. Вебер не смел мне указывать! Перед ним я был прав, перед ним совесть моя была чиста. А мне нужен был кто-то, перед кем я по праву мог высоко держать голову. Все, что мрачно бурлило во мне, хлынуло в эту отдушину. Я сделал то, чего всегда тщательно избегал: я напустил на себя вид барчука, давая понять, что для меня небольшая потеря – отказаться от дружбы с каким-то уличным мальчишкой. Я сказал, что больше ему не есть ягод в нашем саду и не играть моими игрушками. Я почувствовал, что вспыхиваю и оживаю: у меня появился враг, противник, кто-то, кто был виноват, кого можно было схватить за руку. Все мои порывы вылились в эту спасительную, желанную, освобождающую ярость, в жестокую радость оттого, что у меня нашелся враг, который на сей раз был не во мне самом, а стоял напротив и глядел на меня сперва испуганными, потом злыми глазами, враг, чей голос я слышал, на чьи упреки я мог наплевать, на чью брань мог ответить бранью похлеще.
Все задиристей переругиваясь, мы совсем рядом шагали вниз по темнеющей улице; кое-где люди смотрели нам вслед из подъездов. И вся моя злость на себя, все мое презрение к себе обратились против несчастного Вебера. Когда он стал грозить, что наябедничает учителю гимнастики, я испытал прямо-таки наслаждение: он оказался не прав, он вел себя подло, он сделал меня сильнее.
Когда близ улицы Мясников мы дали волю рукам, несколько прохожих сразу остановились и стали глядеть на наши действия. Мы наносили друг другу удары в живот и в лицо, упершись ботинком в ботинок другого. И на какие-то мгновенья все забылось, я был прав, я не был преступником, я упивался боем, и, хотя Вебер был сильнее меня, я был ловчей, умней, проворнее, горячее. Мы распалились и дрались яростно. Когда он в отчаянии порвал мне воротник рубашки, я остро почувствовал, как пробежала по моей разгоряченной коже струя холодного воздуха.
И, не переставая бить, рвать, бороться, душить, мы по-прежнему задирали, оскорбляли и уничтожали друг друга словами, которые становились все более горячими, все более глупыми и злыми, все более поэтичными и фантастичными. И в этом я тоже превосходил его, я был злее, поэтичнее, изобретательнее. Если он говорил «собака», я говорил «сука». Если он кричал «сволочь», я орал «сатана». Мы оба обливались кровью, не замечая этого, а наши слова нагромождали проклятье на проклятье, мы желали друг другу болтаться на виселице, сожалели, что у нас в руках нет ножей, чтобы всадить их друг другу в ребра и там повернуть, каждый поносил имя другого, его происхождение, его отца.
Первый и единственный раз я вел такой бой до конца в полном упоении, со всеми ударами, со всеми жестокостями, со всеми ругательствами. Зрителем я бывал часто и часто с наслажденьем и ужасом слушал эти грубые, первобытные проклятья и непристойности; а сейчас я выкрикивал их сам, словно привык к ним сызмала и имел тут большой опыт. У меня из глаз текли слезы, а по губам кровь. Но мир был великолепен, в нем был смысл, хорошо было жить, хорошо было драться, хорошо было проливать свою и чужую кровь.
Ни разу не удавалось мне восстановить в памяти конец этой драки. Когда-то она кончилась, когда-то я оказался один в тихой темноте, узнал углы улиц, дома, увидел себя вблизи от нашего дома. Хмель медленно проходил, свист крыльев и грохот медленно утихали, и действительность стала по частям пробиваться ко мне, сперва только через глаза. Вот колодец. Мост. Кровь у меня на руке, разорванная одежда, сползшие носки, боль в колене, болит глаз, нет шапки – все приходило мало-помалу, становилось действительностью и обращалось ко мне. Я вдруг донельзя устал и, почувствовав, как у меня дрожат колени и руки, ощупью поискал стену.
И тут возник наш дом. Слава богу! Я ничего не помнил, кроме того, что там – прибежище, мир, свет, безопасность. Со вздохом облегчения я толкнул высокую дверь.
Тут вместе с запахом камня и влажной прохлады на меня вдруг накатили воспоминания. О боже! Пахло строгостью, законом, ответственностью, отцом и Богом. Я украл. Я не был раненым героем, который возвращается домой с поля боя. Я не был бедным ребенком, который, вернувшись домой, находит у матери блаженное тепло и сочувствие. Я был вором, я был преступником. Там, наверху, меня ждали не прибежище, не постель и сон, не еда и уход, не утешение, не прощение. Меня ждали вина и суд.
Тогда, в темной вечерней прихожей и на долгой лестнице, по ступеням которой я с трудом поднимался, мне впервые в жизни довелось подышать холодным эфиром, одиночеством, судьбой. Я не видел выхода, у меня не было ни планов, ни страха, ничего, кроме холодного, сурового чувства: «Так надо». Цепляясь за перила, я поднялся. Перед стеклянной дверью мне захотелось еще на минутку присесть на лестницу, перевести дух, успокоиться. Я этого не сделал, это не имело смысла. Надо было войти. Когда я открывал дверь, мне подумалось: который теперь час?
Я вошел в столовую. Они сидели вокруг стола, только что кончив есть, блюдо с яблоками еще не убрали. Было около восьми часов. Никогда я без спросу так поздно не возвращался домой, никогда не отсутствовал за ужином.
– Слава богу, пришел! – с живостью воскликнула мать. Я понял – она беспокоилась обо мне. Она бросилась ко мне и в испуге застыла, увидев мое лицо и мою грязную, изодранную одежду. Я ничего не сказал и ни на кого не взглянул, но ясно почувствовал, что отец и мать выразительно переглянулись. Отец, сдерживая себя, молчал; я чувствовал, в каком он гневе. Мать занялась мною, мне вымыли лицо и руки, налепили пластырь, затем меня кормили. Сочувствие и забота окружали меня, я сидел молча, до глубины души пристыженный, ощущая тепло и наслаждаясь им с нечистой совестью. Затем меня отправили в постель. Я протянул руку отцу, не взглянув на него.
Когда я уже лежал в постели, ко мне пришла мать. Она сняла со стула мою одежду и приготовила мне другую, потому что на следующий день было воскресенье. Затем она стала осторожно расспрашивать меня, и мне пришлось рассказать о своей драке. Она хоть и нашла это скверным, но не стала меня бранить и, казалось, была немного удивлена тем, что я до такой степени испуган и подавлен случившимся. Потом она ушла.
И теперь, думал я, она убеждена, что все хорошо. Я решал спор кулаками и был избит до крови, но завтра это забудется. О другом, о сути дела она ничего не знает. Она огорчилась, но была естественна и ласкова. Отец тоже, значит, еще ничего, по-видимому, не знает.
И тут меня охватило ужасное чувство разочарования. Я понял теперь, что с той минуты, как я вошел в наш дом, мною целиком владело одно-единственное, страстное, всепоглощающее желание. Ни о чем другом я не думал, не томился, не тосковал, как о том, чтобы гроза разразилась, чтобы суд надо мной состоялся, чтобы все ужасное произошло наконец и прекратился этот нестерпимый страх перед ним. Я ждал всего, был готов ко всему. Пусть меня строго накажут, выпорют, арестуют! Пусть он заморит меня голодом! Пусть проклянет, выгонит из дому! Лишь бы кончился страх, кончилось ожидание!
Вместо этого я лежал в постели, обласканный и любовно ухоженный, меня пощадили, меня не призвали к ответу за мои безобразия, и мне оставалось снова ждать и бояться. Они простили мне порванную одежду, долгое отсутствие, пропущенный ужин, потому что я устал, и у меня шла кровь, и им было жаль меня, но прежде всего потому, что они не подозревали об остальном, знали только о моих проступках, но не о моем преступлении. Мне достанется вдвойне, когда все откроется! Может быть, меня отправят, как грозили однажды, в исправительную колонию, где заставляют есть черствый хлеб, а все свободное время пилить дрова и чистить башмаки, где есть, по слухам, лишь большие общие спальни с надзирателями, которые бьют палкой воспитанников и в четыре часа утра будят их холодной водой. Или меня передадут полиции?
Но как бы то ни было, что бы ни произошло, мне опять предстояло ожидание. Я и дальше должен был жить в страхе, наедине со своей тайной, дрожа от каждого взгляда, от каждого шага в доме и не смея никому посмотреть в глаза.
Или может все-таки оказаться, что моего воровства вообще не заметят? Что все останется как было? Что я напрасно терплю все эти страхи и муки?.. О, если бы так оказалось, если бы это немыслимое чудо было возможно, я начал бы совершенно новую жизнь, я возблагодарил бы Бога, я показал бы, что способен жить беспорочно, без единого пятнышка! То, что я уже раньше пробовал делать, но безуспешно, теперь удастся, теперь у меня хватит воли и твердости, теперь, после таких мук, после такого ада! Все мое естество прониклось этим желанием, впилось в эту мысль. Утешение пришло с неба, как дождь. Будущее открылось лучезарной голубизной. С этими виденьями я уснул и сладко проспал всю ночь.
Наутро было воскресенье, и еще в постели я ощутил, как ощущают вкус плода, тот ни на что не похожий, странно сложный, но в целом восхитительный вкус воскресенья, который был знаком мне с тех пор, как я стал школьником. Воскресное утро – славная вещь: можно выспаться, не надо идти в школу, в перспективе – хороший обед, не пахнет учителями и чернилами, бездна свободного времени. Это главное. Слабее звучали другие, более чуждые, более скучные ноты: церковь или воскресная школа, семейная прогулка, забота о парадной одежде. Из-за таких вещей этот чистый, славный вкус, этот восхитительный аромат немного искажался и портился – так бывало, когда два блюда, подававшиеся вместе, например, пудинг и подливка к нему, не совсем подходили друг к другу, или когда конфеты и печенье, которые тебе дарили в лавчонках, фатально отдавали сыром или керосином. Ты ел их, и они были хороши, но не было в их вкусе полноты, не было блеска, с этим приходилось мириться. Примерно таким чаще всего бывало и воскресенье, особенно когда приходилось идти в церковь или в воскресную школу, что, к счастью, требовалось не всегда. Свободный день приобретал из-за этого привкус обязанности и скуки. Да и во время семейных прогулок, даже если они часто и удавались, обычно всегда что-нибудь случалось, то ты ссорился с сестрами, то шагал слишком быстро или слишком медленно, то пачкал одежду смолой; без загвоздки дело, как правило, не обходилось.
Что ж, пускай. Мне было хорошо. Со вчерашнего дня прошла масса времени. Я не забыл своего гнусного поступка, я утром же вспомнил о нем, но то было так давно, страхи далеко отодвинулись и стали нереальными. Вчера я искупил свою вину, хотя бы лишь муками совести, пережив скверный, злосчастный день. Сейчас я снова был склонен к бодрости и прекраснодушию и не очень обременял себя мыслями. Полной, правда, беспечности еще не было, еще оставалось какое-то ощущение угрозы и неприятности, похожее на все эти мелкие обязанности и тяготы, омрачающие прекрасное воскресенье.
За завтраком мы все были веселы. Мне предоставили выбор между церковью и воскресной школой. Я, как всегда, предпочел церковь. Там тебя по крайней мере оставляли в покое и можно было предаваться своим мыслям; да и эти высокие, торжественные стены с цветными окнами бывали часто красивы и величавы, и если ты, сощурившись, глядел через длинный, сумрачный неф на орган, перед тобой возникали порой удивительные картины, выступавшие из мрака органные трубы казались сияющим городом со множеством башен. К тому же мне часто удавалось, если церковь не была набита битком, часок почитать без помех какую-нибудь занимательную историю.
Сегодня я не взял с собой книжки и не собирался улизнуть из церкви, что тоже со мной случалось. Мне еще так живо помнился вчерашний вечер, что я был полон самых добрых намерений и честно хотел жить в ладу с Богом, родителями и миром. Моя злость на Вебера тоже совсем прошла. Если бы он пришел, я принял бы его самым приветливым образом.
Служба началась, я тоже пел строфы хорала, это была песня «Пастырь неустанный», которую мы и в школе выучили наизусть. Тут я снова заметил, как при пенье, а при замедленно-тягучем церковном пенье и подавно, строфа приобретает совершенно другой вид, чем при чтении глазами или наизусть. При чтении строфа была чем-то целым, имела смысл, состояла из фраз. А при пении она состояла из одних слов, фраз не получалось. Смысла не было, но зато слова, отдельные, растянутые напевом слова обретали какую-то странно могучую, независимую жизнь, часто даже отдельные слоги, сами по себе совершенно бессмысленные, обретали при пенье какую-то самостоятельность и законченность. В строфе, например, «Пастырь неустанный, сторож недреманный не смыкает глаз» при пенье в церкви не было ни связи, ни смысла, ни о каком пастыре, ни о каких овцах ты не думал, ты не думал вообще ни о чем. Но это вовсе не было скучно. Отдельные слова, особенно «недреманный», получали какую-то странную, прекрасную полноту, как-то убаюкивали, а «глаз» звучало таинственно и тяжело, напоминало «лаз» и какие-то темные, потаенные, полузнакомые вещи. Да еще орган!
А потом настала очередь городского священника и проповеди, которая всегда была непонятно длинной, и слушал я ее как-то особенно, то подолгу улавливая лишь звон говорящего голоса, похожий на колокольный, то вдруг очень отчетливо воспринимая отдельные слова вместе с их смыслом и стараясь подольше не упустить нить рассуждения. Если бы только мне сидеть у алтаря, а не на хорах, в толпе мужчин. У алтаря, где мне уже доводилось сидеть на церковных концертах, ты мог устроиться в тяжелых, отдельных креслах, каждое из которых походило на маленькую крепость, а над тобой был на редкость прелестный ребристо-сетчатый свод, а высоко на стене была в мягких тонах изображена Нагорная проповедь, и радостной нежностью наполнял тебя вид синих и красных одежд Спасителя на фоне голубого неба.
Порою поскрипывали церковные скамьи, к которым я испытывал глубокое отвращение, потому что они были окрашены желтой, скучной эмалевой краской, всегда чуть-чуть прилипавшей к одежде. Порой муха с жужжаньем билась об одно из окон, стрельчатые арки которых были расписаны красными цветами и зелеными звездами. Но вот неожиданно проповедь кончилась, и я потянулся вперед, чтобы увидеть, как исчезает священник в узком и темном рукаве лестницы. Снова все пели, с облегчением и очень громко, затем встали и потекли к выходу; бросив принесенный пятак в кружку для пожертвований, жестяное звяканье которой нарушало торжественность, я с людским потоком устремился к порталу и на улицу.
Теперь наступало самое лучшее время воскресного дня, два часа между церковью и обедом. Ты исполнил свой долг, после долгого сидения тебе хотелось подвигаться, поиграть или погулять, а то и почитать, и ты был совершенно свободен до обеда, а на обед обычно подавали что-нибудь вкусное. Довольный, я направился домой в самом радужном расположении духа. Мир был в порядке, жить можно было. Я преспокойно пробежал через прихожую и по лестнице наверх.
В моей комнатке светило солнце. Я проверил свои коробки с гусеницами – вчера мне было не до них, – нашел несколько новых куколок, полил растения.
Тут отворилась дверь.
Я не сразу это заметил. Через минуту тишина показалась мне странной; я обернулся. Передо мной стоял отец. Он был бледен и казался измученным. Приветствие застряло у меня в горле. Я увидел: он знает! Он пришел. Суд начался. Ничего не было ни улажено, ни искуплено, ни забыто! Солнце померкло, и воскресное утро сникло.
Ошарашенно глядел я на отца. Я ненавидел его: отчего не пришел он вчера? Сейчас я ни к чему не был готов, сейчас у меня ничего не было наготове – даже раскаянья, даже чувства вины… И зачем понадобилось ему держать у себя наверху в комоде винные ягоды?
Он подошел к моему книжному шкафу, запустил руку за книги и извлек несколько инжирин. Больше почти и не было. Он посмотрел на меня с немым, мучительным вопросом. Я не мог произнести ни слова. Боль и упрямство душили меня.
– Что такое? – вымолвил я наконец.
– Откуда у тебя эти винные ягоды? – спросил он спокойным, тихим голосом, которого я терпеть не мог.
Я сразу же начал говорить. Врать. Я сказал, что купил эти винные ягоды у кондитера, их была целая связка. Откуда взялись у меня деньги? Деньги взялись из копилки, которую я завел сообща с приятелем. Мы оба клали туда всю мелочь, какую от случая к случаю получали. Кстати – вот эта копилка. Я достал коробку с прорезью. Там было всего десять пфеннигов, как раз потому, что мы вчера купили инжиру.
Отец слушал с невозмутимо спокойным лицом, которому я не верил.
– Сколько же стоил этот инжир? – спросил он тихим голосом.
– Одну марку шестьдесят.
– Где ж ты его купил?
– У кондитера.
– У какого?
– У Хаагера.
Наступила пауза. Я по-прежнему держал свою копилку зябнущими пальцами. Все у меня остыло и зябло.
И тут он спросил, с угрозой в голосе:
– Это правда?
Я снова быстро заговорил. Да, конечно, это правда, и в лавке был мой друг Вебер, я его только сопровождал. Деньги принадлежали, собственно, ему, Веберу, моя доля была невелика.
– Надень шапку, – сказал отец, – пойдем вместе к кондитеру Хаагеру. Он-то должен знать, правда ли это.
Я попытался улыбнуться. Теперь холод пробрал меня до самого нутра. Я пошел первым и надел в коридоре свою синюю шапочку. Отец отворил стеклянную дверь, он тоже надел шляпу.
– Одну минуту! – сказал я. – Мне нужно быстренько отлучиться.
Он кивнул. Я пошел в уборную, заперся, был один, был еще на миг в безопасности. О если бы мне сейчас умереть!
Я прождал минуту, прождал две. Бесполезно. Смерть не наступала. Надо было держаться. Я отпер дверь и вышел. Мы спустились по лестнице.
Когда мы выходили из подъезда, меня осенила хорошая мысль, и я поспешил сказать:
– Но сегодня же воскресенье, у Хаагера закрыто.
Появилась надежда, на две секунды. Отец сказал:
– Ну так мы сходим к нему домой. Пошли.
Мы отправились в путь. Поправив шапку, засунув одну руку в карман, я пытался идти рядом с отцом так, словно ничего особенного не случилось. Прекрасно зная, что любой поймет по моему виду, что я арестант, я все-таки пытался скрыть это множеством ухищрений. Я старался дышать как ни в чем не бывало: никто не должен был видеть, как сжимало мне грудь. Я тщился придать лицу невинное выражение. Изобразить непринужденность и уверенность. Я подтягивал носок, хотя в этом не было надобности, и улыбался, зная, что эта улыбка выглядит страшно глупо и неестественно. Во мне, в горле и во внутренностях, сидел бес и душил меня.
Мы проходили мимо гостиницы, мимо дома подковщика, мимо дома извозчика, мимо железнодорожного моста. Там, на той стороне, я вчера вечером дрался с Вебером. Разве не ныла еще царапина возле глаза? Боже мой! Боже мой!
Я безвольно шел дальше, судорожно стараясь держаться прямо. Мимо адлеровского амбара, по Вокзальной улице. Как добра, как безобидна была эта улица еще вчера! Не думать! Дальше! Дальше!
Мы почти дошли до дома Хаагера. За эти несколько минут я уже сотни раз представлял себе сцену, которая ждала меня там. И все сейчас так и будет.
Но выдержать это оказалось невозможно. Я остановился.
– Что такое? В чем дело? – спросил отец.
– Я туда не пойду, – сказал я тихо.
Он посмотрел на меня свысока. Он ведь все знал с самого начала. Зачем я ломал перед ним комедию, зачем усердствовал? Это же было бессмысленно.
– Разве ты не покупал инжир у Хаагера? – спросил он.
Я покачал головой.
– Ах вот как, – сказал он внешне спокойно. – В таком случае можно вернуться домой.
Он вел себя деликатно, он щадил меня на улице, на людях. Людей на нашем пути было много, то и дело с отцом кто-нибудь здоровался. Какая комедия! Какое глупое, бессмысленное мученье! Я не был благодарен ему за эту бережность.
Он ведь все знал! И заставил меня попрыгать, заставил побарахтаться, как заставляют попрыгать пойманного мышонка, прежде чем его утопить. Да лучше бы он сразу, без всяких вопросов и допросов, стукнул меня палкой по башке, мне было бы это, право, милее, чем то спокойствие, та правота, с какими он тыкал меня носом в мое глупое вранье и медленно удушал. Вообще, пожалуй, лучше было иметь грубого отца, чем такого благородного и справедливого. Если отец, как это описывалось в брошюрках, со зла ли, пьяный ли, избивал своих детей, значит, он был не прав, и, терпя боль от побоев, можно было все же пожимать плечами и его презирать. С моим отцом так не выходило, он был слишком благороден, слишком безукоризнен, он никогда не бывал не прав. Перед ним ты всегда оказывался маленьким и жалким.
Сжав зубы, я прошагал впереди него к дому и в свою комнату. Он все еще был спокоен, вернее, напускал на себя такой вид, ведь на самом деле, я хорошо чувствовал это, он был очень зол. И вот он заговорил в своей обычной манере:
– Мне хочется только знать – к чему эта комедия? Ты не можешь сказать мне? Я же сразу понял, что вся твоя распрекрасная история – ложь. Так зачем валять дурака? Ты же всерьез не считаешь меня настолько глупым, чтобы тебе поверить?
Я, не разжимая зубов, сделал глотательное движение. Перестал бы он лучше! Как будто я знал, почему сочинил эту историю! Как будто я знал, почему не смог признаться ему в своем преступлении и попросить прощения! Как будто я знал хотя бы, зачем украл этот несчастный инжир! Разве я хотел этого, разве сделал это обдуманно, умышленно, по каким-то причинам? Разве я не сожалел об этом? Не страдал от этого больше, чем он?
Он ждал с напряженным лицом, показывавшим, как трудно ему сохранять терпение. На миг мне самому вся эта ситуация стала в душе совершенно ясна, однако я не смог бы тогда, как могу сегодня, выразить это словами. Было вот как: я украл потому, что пришел за утешением в отцовскую комнату и застал ее, к своему разочарованию, пустой. Я не хотел красть. Я хотел только, раз уж отца не оказалось на месте, пошпионить, порыться в его вещах, подслушать его секреты, узнать о нем что-нибудь. Вот как было. Потом попались винные ягоды, и я украл. И тут же раскаялся в этом, и весь вчерашний день мучился и отчаивался, хотел умереть, осуждал себя, проникался новыми, благими намерениями. А сегодня – да, сегодня все было иначе. Это раскаянье и все прочее я уже испил до дна, я был сейчас трезвее, я чувствовал в себе необъяснимое, но огромное сопротивление отцу и всему, чего он ждал от меня и добивался.
Если бы я мог сказать ему это, он бы понял меня. Но и дети, как ни превосходят они взрослых умом, одиноки и беспомощны перед судьбой.
Окаменев от упрямства и затаенной боли, я продолжал молчать, я не прерывал его умных речей, с болью, но и со странным злорадством видя, как все идет кувырком, становится хуже и еще хуже, как он страдает, как разочарован, как напрасно взывает ко всему, что есть во мне лучшего.
Когда он спросил: «Значит, ты украл винные ягоды?» – я смог только кивнуть головой. Лишь слабо кивнуть удалось мне и тогда, когда он пожелал узнать, жаль ли мне, что так вышло… Как мог он, большой, умный человек, задавать такие дурацкие вопросы! Неужели мне могло быть не жаль! Неужели ему не видно было, какую мне все это причиняет боль, как надрывает сердце! Неужели я мог еще радоваться своему поступку и этому несчастному инжиру!
Наверно, впервые за свою детскую жизнь я почувствовал, я почти отчетливо осознал, как ужасно могут не понимать, мучить, терзать друг друга два родных, полных взаимной доброжелательности человека и как тогда любые речи, любое умничанье, любые разумные доводы лишь подливают яду, приводят лишь к новым мукам, новым уколам, новым промахам. Как это так получалось? Но так получалось, так выходило. Это было нелепо, это было безумно, хоть смейся, хоть плачь – но было именно так.
Хватит об этой истории! Кончилось тем, что на всю вторую половину дня меня заперли в комнате на чердаке. Какую-то долю своей жестокости это суровое наказание утратило благодаря обстоятельствам, которые были, правда, моей тайной. В темной, пустовавшей мансарде стоял сильно запылившийся ящик, наполовину заполненный старыми книгами, иные из которых отнюдь не были предназначены для детей. Читал я при свете, проникавшем сквозь крышу, после того как я отвалил одну черепичину.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!