Текст книги "Запад на Восток"
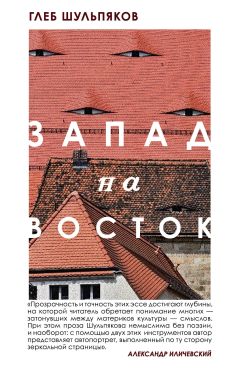
Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Хранитель древностей
Утром 2 января 1812 года на углу Большой Садовой улицы и Невского проспекта, напротив Гостиного Двора, было заметно оживление публики. В новую библиотеку ждали с визитом Александра I. Еще в конце декабря министр народного просвещения оповестил императора, что книгохранилище готово принять посетителей. Александр решил самолично инспектировать «храм просвещения».
День, который и сегодня отмечается как библиотечный, «сохранился» на гравюре Ухтомского. Она сделана с рисунка Ивана Иванова, художника-графика и почетного библиотекаря (того самого, который сопровождал Бороздина в поездке по старым городам за русскими древностями). В библиотеке Иванов занимался разбором эстампов, а также по оформительской части. Виньетки для первой книги Батюшкова, например, сделает именно этот художник.
На гравюре император запечатлен в Круглой зале внимающим невысокому, едва ли не вдвое меньше его, человеку. Этим человеком («сокращенной», по словам Вигеля, фигуры) был Алексей Оленин. Он был новым директором Публичной библиотеки. Этот пост Алексей Николаевич занял после недавно умершего графа Строганова, богатейшего коллекционера и филантропа екатерининской эпохи, президента Академии художеств и отца-основателя библиотеки. Еще в должности заместителя директора и потом во все годы Оленин укомплектовывал ее людьми из числа «своих», среди которых в разное время были художники Иванов и Ермилов, поэты Крылов, Гнедич, Батюшков и Дельвиг, романист Загоскин и филолог Востоков.
Идея создать в Петербурге «храм просвещения» была с длинной историей и восходила к самому началу правления Екатерины II. Еще в 1766 году граф Александр Строганов с коллекционерами-единомышленниками представил императрице проект городского книжного собрания. Предполагалось устроить его на общественных, а не государственных началах – на попечении круга богатых собирателей книги, связанных общими интересами и денежными взносами. Однако увольнение от дел и высылка в Москву одного из них, составителя «прожекта» Бориса Салтыкова, привели к тому, что предложение попало «под сукно». Лишь тридцать лет спустя, на излете царствования Екатерины, Строганов вновь вернется к идее публичного книжного собрания в Санкт-Петербурге.
Это был бы красивый жест в духе века Просвещения – завершить царствование учреждением императорской библиотеки «для общественной пользы», то есть для всех людей «свободного состояния». Утвержден был и архитектор. У Фельтена Егор Соколов служил помощником на постройке здания Академии художеств, именно его авторству и принадлежит первый из построенных корпусов «публички». Похожий на волну, фасад выходит на стрелку, как бы скругляя ее тупой угол. Сейчас здесь читальный зал и собрание отдела рукописей. А вытянутый вдоль площади Островского (Александринской) корпус пристраивал уже Карл Росси.
Однако главной и буквальной причиной возникновения библиотеки были не Строганов, не Екатерина и не век Просвещения, а восстание поляков, возглавленное Костюшко (1794 года). Разгромленные тогда же Суворовым поляки были обложены унизительными контрибуциями; земельные владения и дворцы аристократов подлежали конфискации, то же и городские государственные ценности, как символические, так и реальные. Среди вывезенных в Россию сокровищ оказалась национальная библиотека варшавских аристократов и собирателей братьев Анджея и Юзефа Залуских. Около четверти миллиона единиц хранения – она считалась одной из лучших в Европе и уже давно, еще до взятия Варшавы, приглянулась Екатерине. Эта библиотека дополнила бы книжные собрания Дидро и Вольтера, выкупленные императрицей еще в те блаженные времена, когда Екатерина желала править в образе просвещенной монархини.
«Граф Александр Васильевич, – писала она Суворову в Варшаву, – исчисленная вами сумма тридцать тысяч рублев на отправление сюда из Варшавы польских архив и других дел с библиотекою Залуского при сем к вам серебряною монетою посылается. Пребываем вам благосклонны, Екатерина».
О том, как упаковывали и транспортировали лучшее книжное собрание Европы, а ныне царский «трофей», невозможно читать без отчаяния. Книги сваливались казаками в ящики, как картошка: без описи, независимо от формата и языка, лишь бы забить и завалить объем полностью. Фолианты с миниатюрами XIII–XV веков утаптывали ногами, а те, что не влезали, попросту разрубались надвое. «При разборе сей библиотеки, – докладывали Строганову, – найдены многие книги от небрежной укладки сотлевшими в пути еще, а многие сочинения, долженствующие состоять из 20 и 40 томов, явились неполные».
Из денег, отпущенных Екатериной на транспортировку 203 ящиков, по восьмидесяти копеек за ящик ушло купцу Савве Дьяконову, чей галиот «Св. Николай», «прочный строением и снастью», перевез коллекцию в Петербург. На увязку и укладку, на аренду и таможню и команде ушло остальное. Вскоре собрание братьев Залуских оказалось составленным в зале дворца покойного князя Потемкина. Подобающее коллекции здание только предстояло построить. Когда библиотека открылась, ее по инерции долго еще называли Варшавской.
Другую часть библиотечного собрания составило Депо манускриптов (отдел рукописей). Во время январского визита Александр задержался в этом отделе особенно долго, и было отчего – здесь хранились древние рукописные книги, Евангелия и восточные миниатюры. Коллекция эта образовалась не менее замысловатым образом. Она принадлежала Петру Петровичу Дубровскому. Киевлянин из небогатого дворянского рода, за годы службы при посольстве в Париже он сумел скупить и скопить сотни и сотни европейских, восточных и славянских рукописей, а также уникальных автографов. Большую часть коллекции Дубровского составили манускрипты из парижских аббатств, разграбленных и разоренных в дни Французской революции, прежде всего Сен-Жерменского. Любой коллекционер мог только мечтать о таком подарке судьбы. Говорили, Дубровский просто подбирал пачки архивных бумаг, вываленные из ящиков во рву Бастилии. По описанию парижского библиотекаря Мармье, видевшего коллекцию в Петербурге, было в ней «…120 томов in folio писем наших королей и принцев, 150 томов разных знаменитых людей, один том писем Морица к Генриху IV и множество писем разных министров и французских посланников» – и даже детские диктанты Людовика XVI («Почтение должно оказываться королям, они делают то, что им нравится»).
В Англии, через которую Дубровский вывозил коллекцию, ему предлагали за нее 7 тысяч гиней. Однако Дубровский отказался, и в 1800 году библиотека прибыла в Петербург. Какое-то время она хранилась у него дома, однако вскоре встал неизбежный для коллекционера вопрос о будущем. За тридцать лет на службе в Европе Дубровский так и не обзавелся семьей и не имел наследников. Единственной его страстью оставалось коллекционирование. Но как жить одинокому немолодому человеку с таким сокровищем? И уже в 1805 году – при содействии графа Строганова, словно тенью обозначенного за всеми событиями, – собрание Дубровского выкупает Александр I. Он распоряжается создать в библиотеке Депо рукописей и поместить туда коллекцию, а самого Дубровского назначает хранителем этого Депо с уплатой 3000 рублей пожизненной пенсии в качестве процентов с капитала, обозначенного к выкупу (с рукописей то есть), а также с выплатой жалованья и предоставлением казенной квартиры – как, впрочем, и Крылову, и Гнедичу, и всем сотрудникам.
Однако работа его в библиотеке не была слишком долгой; весной 1812 года Оленин неожиданно уволил Дубровского и в короткий срок выселил из квартиры. Истинные мотивы конфликта остались неизвестны, однако по обмолвкам и намекам можно предположить, что Дубровский, будучи уже в должности хранителя, не отказался от своей страсти и продолжал коллекционерские «операции» с рукописями – как если бы они оставались в его собственности. Проверить «движение» единиц хранения не представлялось возможным – собрание было настолько большим и запутанным, что один Дубровский знал только, где и что находится, и пользовался этим, пока не был уволен. Двадцать четвертого апреля 1812 года место хранителя занял его бывший помощник, художник архитектуры и «домочадец» Оленина Александр Ермолаев.
В истории с коллекцией Дубровского будет еще и литературное продолжение, и коснется оно Державина. Любое частное собрание всегда порождает слухи и домыслы, и коллекция Дубровского не исключение. Говорили, что из Франции он вывез не только переписку королей и автографы просветителей, но и древнерусские рунические книги, якобы выкупленные им в аббатстве Сен-Венсан. Речь идет о библиотеке королевы Анны Русской, дочери Ярослава Мудрого – жене короля Франции Генриха I. Вывезенная из Киева, помимо христианских книг, библиотека Анны якобы содержала дохристианские рукописи: описания истории и языческих обрядов Древней Руси (на дощечках). В Депо эти рукописи не попали, но всплыли у Александра Сулакадзева, потомка имеретинских дворян и такого же, как Дубровский, маниакального коллекционера. У него-то Державин якобы и видел и пытался читать эти «Велесовы книги», и даже воодушевился, чтобы сочинить «Новогородского волхва Злогора» – языческую балладу. Однако доказательств существования «дощечек», и в особенности их подлинности, до сих пор обнаружено не было; современные исследователи склонны считать их подделкой, а Сулакадзева – первым в истории российского собирательства фальсификатором и фантазером.
Дом Балабина, в котором жили сотрудники библиотеки, примыкал к соколовскому корпусу библиотеки по Садовой улице. Из-за канцелярской путаницы он не принадлежал библиотеке, хотя давно и должен был. Вывести участок из ведения Императорского Кабинета (из царской собственности) – для нужд библиотеки – просил императора перед смертью еще Строганов и получил согласие, которое, однако, оформлено по недосмотру не было. По бумагам участок остался в ведении Кабинета, откуда и был вскоре пожалован генералу Кологривову, перепродавшему его генерал-лейтенанту Балабину. Это мелкое недоразумение привело к довольно серьезным последствиям, демонстрирующим в том числе отношение в России того времени к частной собственности. Не имея возможности «обойти» частное владение – захватить или «отжать», как это сделали бы сегодня, например, – Карл Иванович Росси был вынужден изменить весь план застройки и развивать парадный фасад со стороны Александринской (Аничковой) площади – а не по Садовой, как планировалось.
Компания библиотекарей разношерстна и весьма колоритна и представляет собой особую «секту». Николай Гнедич (28 лет) вот уже год служит помощником библиотекаря по греческим рукописям и занимается составлением каталога. Он служит еще и в Департаменте просвещения, что с пожизненной пенсией «на Гомера» составляет неплохой годовой доход. Теперь он может позволить себе и модные платья, и дорогую утварь. Он тяготится только дневными дежурствами и вынужден в жару проводить время во дворе на воздухе, измеряя его шагами и погруженный в мысли. На вопрос случайного приятеля, заставшего однажды в таком состоянии Гнедича: «Не дежурный ли ты сегодня, Гнедич?» – тот указывает на красную повязку и горестно произносит: «Ведь ты видишь».
Друг и сосед его, сорокатрехлетний баснописец Иван Крылов возглавляет отдел русской книги. Этот отдел пока очень мал, но именно его расширение планирует Публичка. Ради русской книги она и создана. Отныне издатели обязаны предоставлять в библиотеку по два экземпляра каждой книги; их-то и принимает, и каталогизирует Крылов. Архивные карточки, которые читатель и сегодня получает вместе с книгой, придумал вкладывать именно Иван Андреевич; стоит вспоминать об этом, когда берешь книгу. Но Крылов сибарит и неряха и не слишком усерден в работе; основной труд в отделе выполняет за него помощник Василий Сопиков (47 лет). Прежде из купеческого сословия, а ныне коллежский регистратор, Сопиков переведен в дворянское звание хлопотами Оленина «в возмездие за долговременные и полезные его труды». В прошлом Сопиков был книготорговец и полжизни просидел в книжных лавках, а в Петербурге даже держал собственную. Он был библиофил-энтузиаст и прекрасно знал книгу, особенно русскую, и даже сделал первый опыт библиографии русских изданий; говорили, что в свое время именно у Сопикова Мусин-Пушкин купил «Слово о полку Игореве». Когда Сопиков умер, на его место Оленин взял двадцатилетнего Антона Дельвига, человека не менее Крылова несобранного. И теперь, как написал Плетнев, «нередко приходилось и Крылову озабочиваться». Само собой, два сибарита в одном отделе не очень-то уживались вместе, и вскоре Дельвиг был уволен. Формальным поводом было долгое отсутствие в должности, однако не стоит забывать, что вся эта история произойдет накануне декабристского восстания. Возможно, Оленин просто перестраховывался, ибо знал о круге знакомств Дельвига.
Крылов жил на казенной квартире этажом ниже Гнедича. Летом он держал окна открытыми, отчего от Гостиного Двора к нему в квартиру слетались голуби и сидели на книжных полках, подоконниках и вазах, как в гнездах. По квартире летали пух и перья, а пыль не вытиралась годами. На полу валялись обертки от конфет и салфетки. Картину в тяжелой раме, что висела у Крылова над головой «на честном слове», потом вспомнит в Тable-Talk Пушкин; якобы когда Крылову заметили, что она может сорваться на голову, тот ответил, что «угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову». Это соседство феерической бытовой неряшливости, обжорства и математической точности ума в Крылове тогда поражало многих.
В обязанности библиотекарей входило составление «росписи», куда «помещены должны быть по разным языкам самое краткое заглавие или название рукописей с означением имени автора и времени, буде оные известные, дабы посредством сей описи посетители хранилища манускриптов могли удобнее отыскивать требуемые имени рукописи». Кроме работы в архиве, были дежурства по залу в помощь посетителям, которых в первые годы насчитывалось от 500 до 600 человек за год, и дежурства ночные, чтобы уберечь коллекцию от пожара. Казалось бы, работа необременительная; можно только мечтать о такой литератору. Однако вот что скажет в 1817 году Гнедич, когда попытается отговорить юного Вильгельма Кюхельбекера искать в библиотеке должности. «Мне кажется, – напишет он, – что молодому, образованному человеку, с живыми способностями ума, с душою, свежею для трудов, начать путь своей службы в месте, где нет пищи для деятельности, ни надежд для видов, – мне кажется, все равно что идти в монастырь… Но и это сравнение ложное, – добавляет он. – Анахорет изменяется в митрополита, а библиотекарь вечно неизменен». Иными словами, хочет сказать Гнедич, похоронить себя меж полок и стеллажей может лишь тот, у кого за душой есть собственный труд (как переводы у Гнедича или славянская филология у Востокова). Тому, у кого есть призвание (тут Гнедич в себе нисколько не сомневается), уже не важны нужды гражданской жизни, то есть чины и деньги. И это именно то, чего будет лишен Кюхельбекер – продвижения по службе, – поскольку выше начальника отдела в библиотеке не поднимешься: некуда. «Державин лучшие свои произведения писал под бременем дел государственных», – наставляет Гнедич юношу, и посыл его ясен: если ты думаешь, что тихое библиотечное место понравится твоей музе, ты ошибаешься. В библиотеку она заглядывает еще реже, чем куда бы то ни было.
Две войны генерала Раевского
В записной книжке Батюшкова («Чужое – мое сокровище») есть большой фрагмент, посвященный генералу Н. Н. Раевскому. Воспоминание рисует Раевского весной заграничного похода 1814 года, когда «с лишком одиннадцать месяцев я был при нем неотлучен». «Раевский славный воин, – пишет Батюшков, – и иногда хороший человек – иногда очень странный». «Я его знаю совершенно».
Точный по бытовым деталям, очерк словно перечеркивается эпитетом «странный». В чем именно, почему? Воспоминание, которым делится Батюшков, относится ко времени после победы под Лейпцигом, когда части союзной армии перешли через Рейн и вступили в Эльзас; война подходила к победному концу. «Войско было тогда в совершенном бездействии, – пишет он, – и время, как свинец, лежало у генерала на сердце». В один из таких вечеров и произошел диалог, который три года спустя записал в книжку Константин Николаевич.
Диалог этот – едва ли не единственное прямое свидетельство против мифа о «подвиге Раевских», который сложился два года назад, в ходе отступления русской армии к Москве. Тогда в бою под Салтановкой (в поддержку скорейшего соединения русских армий в Смоленске) Раевский держал многочасовую оборону, и когда увидел, что егеря и пехота его под ударами Даву дрогнули, сам возглавил колонну, пошел под пули на плотину и опрокинул противника. В армии при Раевском находились его сыновья, и молва тут же сопроводила его подвиг их участием. Старшему Александру на тот момент исполнилось шестнадцать, второй же – Николай – был ребенком (10 лет). Как это «произошло», – хорошо видно на эпическом полотне художника-баталиста Николая Самокиша, изобразившего официальную версию событий к юбилейному 1912 году. Репродукция этой картины воспроизводилась миллионы раз в учебниках и альбомах и уступала в популярности разве что «подвигу 28 панфиловцев». Однако, как и с «панфиловцами», в реальности все обстояло совершенно иначе.
Батюшков состоял при Раевском чем-то вроде внештатного адъютанта. Он попал к нему при своих, что называется, обстоятельствах: «под самыми худыми предзнаменованиями» (об этом пишет в письме Блудову Дашков). Генерал Бахметев, при котором планировал служить Константин Николаевич, потерял на Бородинском поле ногу и был комиссован. Его рекомендательные письма отсылали Батюшкова наудачу к разным генералам; и первым, кого он обнаружил на главной квартире, был казачий атаман Матвей Платов. «…он начал с него, – продолжает рассказывать Дашков, – и – horribile dictu! – нашел его за пуншем tête-à-tête с Шишковым, который приводил его в восхищение, читая какие-то проповеди». «Вы легко поверите, – добавляет тот, – что первое старание милого нашего Поэта было… убежать сломя голову!»
Неизвестно, какие проповеди читал Платову Шишков – можно лишь предположить, что отважный, но малообразованный и сильно пьющий атаман оказался восторженным слушателем цветистых шишковских словес. К тому же Шишков занимал при царе высокую должность официального пропагандиста, а Платов как раз побывал в опале и через Шишкова мог улучшить свое положение.
К 1814 году «подвиг Раевских» под Салтановкой был восславлен и Глинкой, и Жуковским, и Державиным, и Батюшков не мог не знать об этом. Раевский был женат на внучке Ломоносова – имя, священное для стихотворца. Так или иначе, «худое предзнаменование» едва ли не впервые в жизни обернулось для Батюшкова подарком судьбы. Не «русский народный» Платов, едва знавший грамматику, а желчный, мнительный, честолюбивый – словом, человек рефлексирующий – Раевский стал его генералом.
Служба при нем открывала Батюшкову глаза на происходящее. Никогда не воевавший столь близко к начальству, он стал свидетелем как бы двух войн. Одной, которая ведется на бумаге в парадных реляциях и представлениях, а также интригами, доносами и ложью, и другой – с реальными и часто недооцененными рисками и подвигами. Раевский прекрасно отдавал себе отчет, как это происходит; в его судьбе обе войны пересеклись самым драматическим образом, и дело под Салтановкой было тому подтверждением.
Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин:
Себя и юных двух сынов —
Приносишь все царю и Богу:
Дела твои сильней всех слов.
Ведя на бой российских львов,
Вещал: «Сынов не пожалеем,
Готов я с ними вместе лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!..
Мы россы!.. умирать умеем!»
Искренний патриот Сергей Глинка написал это стихотворение, что называется, «с колес» – через месяц с небольшим после Салтановки. Его голос будет одним из многих в хоре патриотических восхвалений «подвига Раевских», в котором отец изображался, подобно азиатскому ассасину или римскому полководцу, готовым слепо принести в жертву царю и Отечеству себя и собственных детей. Однако Лев Толстой скажет о «казусе» Раевского с большим сомнением: «Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его, – думал Ростов, – остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что́ им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом от того, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И, стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей?»
Истину, скорее всего, надо искать посередине. О деле под Салтановкой сам Раевский впервые расскажет в письме к жене от 15 июля 1812 года – всего через несколько дней после события. «Я сам с Васильчиковым, сыном и адъютантом шел в первом ряду в штыки, – говорит он, – все нам уступили. Венедиктов, находившийся позади меня, был ужасно ранен. Маслов упал замертво слева от меня. Александр сделался известен всей армии, он получит повышение». Александр – старший сын; со слов генерала мы видим, что в момент атаки он рядом; а вот как Раевский скажет о младшем, тоже, согласно легенде, шедшем под пули: «Николай, находившийся в самом сильном огне, лишь шутил. Его штанишки прострелены пулей. Я отправляю его к вам. Этот мальчик не будет заурядностью».
В этой фразе понятно все – и ничего не понятно. Шутил? Под огнем? Штанишки? Или Раевский просто щадит чувства матери? И что случилось в реальности? Ведь сам генерал говорит о детях в единственном числе («Я сам с Васильчиковым, сыном и адъютантом…»)? Год спустя в приватном разговоре с Батюшковым генерал расставит точки. Стремительность описания и краткая точность реплик напоминают будущую пушкинскую прозу и словно переносят нас на двести лет, оживляя прошлое. «Мало-помалу все разошлись, и я остался один, – пишет Батюшков. – “Садись!” Сел. “Хочешь курить?” – “Очень благодарен”. Я – из гордости – не позволял себе никакой вольности при его Высокопревосходительстве. “Ну так давай говорить!” – “Извольте”. Слово за слово – разговор сделался любопытен».
Речь зашла о кампании 1812 года.
«Но помилуйте, ваше Высокопревосходительство! – восклицает Батюшков. – Не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: “Вперед, ребята. Я и дети мои откроем вам путь ко славе – или что-то тому подобное”. Раевский засмеялся. “Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля ему прострелила панталоны: Вот и все тут”».
«Весь анекдот сочинен в Петербурге, – добавляет Раевский. – Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я – пожалован Римлянином».
Невзрослые дети военачальников часто находились в действующей армии – ради выслуги и славы, и Раевский со своими сыновьями не стал тут исключением. «Обоих отец не удалял от опасностей, – вспоминает Филипп Вигель, – зато придирался ко всему, чтобы выпрашивать им чины и кресты». Сказано зло, но, видимо, верно. В делах малолетние дети не принимали участия, оставаясь в обозе под укрытием перелеска или холма; что, впрочем, не исключало риска быть задетыми шальной пулей на излете (что и произошло с младшим Николаем). Однако где один сын, там для молвы и другой. Свидетельство же Батюшкова станет известным лишь годы спустя после смерти Раевского, когда в бумагах Жуковского отыщется та самая записная книжка. Показательно, что для Батюшкова Раевскому зачем-то понадобилось «убрать» с плотины даже старшего сына.
Близкие генералу люди, и прежде всего дочь его Мария Волконская, будут настаивать на официальной версии событий под Салтановкой, и это понятно: никому из семейства Николая Николаевича не придет в голову дезавуировать подвиг отца и тем самым отказываться от всероссийской славы. Однако, например, зять Раевского – Михаил Орлов – в «Некрологии» на смерть генерала предпочтет не сказать о знаменитом подвиге вообще. На это красноречивое молчание тут же откликнется Пушкин, попенявший Орлову, что тот «…не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812 году!». Пушкин был прекрасно знаком с младшими Раевскими. Вряд ли центральное событие их жизни не обсуждалось в дружеском кругу. Но даже Пушкин предпочел сказать уклончиво: «поля сражений».
Все это будут деликатные детали частной жизни по сравнению с механизмом легенды. Государству требовались образцы высокого генеральского самоотречения, и Раевский стал жертвой этого запроса. Как быстро этот запрос формировался, хорошо видно по программе, опубликованной уже в 1813 году Академией художеств. Живописцам, ищущим звания, Совет Академии предлагал «представить героический подвиг российского генерала Раевского, когда он, взяв двух малолетних своих сыновей и дав одному из них нести знамя, идет с ними вперед пред войсками и сам своим примером возбуждает в сердцах воинов то мужество, с которым они отразили гораздо превосходнейшие силы французов под Смоленском».
Личный героизм генерала Раевского перекрывал любую двусмысленность под Салтановкой, и те, кто окружал его на поле брани, включая Батюшкова, прекрасно знали об этом как очевидцы – достаточно прочитать воспоминание Батюшкова там, где речь идет о Битве народов. Оба сына Раевского были повышены после Салтановки в звании, однако сам Раевский считал себя обойденным. «Два дела мои под Салтановкой и Смоленском, – пожалуется он своему дяде Самойлову, – коими я век мой гордиться буду, не представлены в настоящем виде, ибо начальникам нашим главным не хотелось признаться в больших своих ошибках». И дальше: «…мы служим, так сказать, для главнокомандующих наших, и когда все наше усердие ошибками их делается бесполезным, признаюсь, что оное уменьшиться должно, и я теперь совсем не то чувствую в душе моей, что чувствовал при начале кампании».
Ошибки, о которых идет речь, произошли в ходе неумелого исполнения операции по соединению армий, и солдаты Раевского под Салтановкой вынуждены были ложиться костьми, чтобы Багратион успел к Смоленску. Еще более жестко о генералах Раевский скажет в письме к жене от 10 декабря 1812 года: «Кутузов, князь Смоленский, – пишет он, – грубо солгал о наших последних делах. Он приписал их себе и получил Георгиевскую ленту, Тормасов – Св. Андрея, Милорадович – Св. Георгия 2-й степени и высшую степень Владимира, а я, который больше всех, если не сказать один, трудился, должен дожидаться хоть какой-нибудь награды!»
Надо сказать, что недовольство подобного рода переполняло большинство генералов 1812 года. Не было того, кто бы не считал свои подвиги обойденными, а себя незаслуженно неотмеченным. И тут Раевский был ничем других не лучше и не хуже. Однако завышенное честолюбие этого человека – родовитого дворянина и профессионального военного, – не находя удовлетворения, делало его вечно всем недовольным мизантропом. «Он молчалив, – пишет Батюшков, – скромен отчасти. Скрыт. Недоверчив: знает людей; не уважаем ими. Он, одним словом, во всем контраст Милорадовичу и, кажется, находит удовольствие не походить на него ни в чем». «У него есть большие слабости, – добавляет Батюшков, – и великие военные качества».
Генерал Михаил Милорадович, ровесник Раевского; он был сербского происхождения и далеко не столь знатен, как Николай Николаевич. Однако храбрость, часто доходившая до безрассудства, и страсть к внешним эффектам делали его яркой фигурой в среде генералитета. Милорадович любил пышные военные облачения и всегда шел в бой при параде. За эту страсть его часто сравнивали с другим военным «франтом» – наполеоновским генералом Мюратом, чей блеск орденов и огромный плюмаж, издалека видный, служил врагу прекрасной мишенью. А Раевский считал подобного рода поведение на войне неуместным. Еще в отрочестве приученный двоюродным дедом своим Григорием Потемкиным к простой казацкой службе, Раевский, видно, был не способен к такого рода позерству. Он завидовал громкой славе Милорадовича, и в этом была его слабость; одновременно он презирал ее; возможно, подобная двойственность и делала его в глазах Батюшкова «странным». За время кампании 1812–1813 годов эта двойственность могла и вообще повлиять на характер. Филипп Вигель, например, считал, что Раевские «…замечательны были каким-то неприязненным чувством ко всему человечеству».
Кульминацией этого «чувства» станет реплика, которую по памяти запишет Батюшков. «Из меня сделали римлянина, милый Батюшков, – сказал он мне. – Из Милорадовича – великого человека, из Витгенштейна – спасителя отечества, из Кутузова – Фабия. Я не римлянин, но зато и эти господа – не великие птицы».
Быть профессиональным военным означало не рисковать впустую жизнью, а тем более детской. Однако громкие подвиги предполагали царские поощрения. Царь же находился в Петербурге и видел картину военных действий по сообщениям главнокомандующего. Сообразно этой картине распределялись и награды. Для генералов, большинство которых жили не по средствам и постоянно финансово нуждались, любое поощрение было необходимо. Неудивительно, что после каждого дела, когда начиналось распределение, возникало недовольство, и часто те, кто не сделал ничего или мало, получали больше лишь потому, что генералам хотелось представить царю дело в нужном, а не в истинном свете. Первым в череде примеров такого поведения был главнокомандующий Кутузов, постоянно «передергивающий» положение вещей на фронте в свою пользу. Однако редкий генерал, пусть и бесстрашный на поле брани, имел храбрость указать открыто на несправедливость, разве что в частной переписке. «…мне пожалован орден Георгия 2-го класса, – говорит в письме к жене генерал Коновницын, – столь великое награждение я сам чувствую не по заслугам моим…» «Раздают много наград, – еще резче выскажется Раевский, – но лишь некоторые даются неслучайно».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































