Текст книги "Запад на Восток"
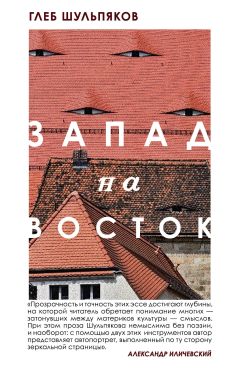
Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Игра Пушкина
Существует поразительное объяснение отъезду Пушкина на Кавказ в 1829 году («Путешествие в Арзрум»). В то время большая карточная игра, оказавшись под надзором в столице, переместилась поближе к военным действиям, где «излечивалась от ран» золотая молодежь. Пушкин был хоть и «ребенком в игре», но отличным банкометом и литературной звездой, и его приятели-шулера сделали расчет «ловить» на него клиента. Подтверждение слухам есть в сообщении Мордвинова Бенкендорфу («это путешествие устроено ему игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают на Кавказе золотые горы») и у Вяземского («…они на Кавказе встретят скучающих богатых людей, которые с игроками не сели бы играть и которые охотно будут играть с Пушкиным, а с ним вместе и со встречными и поперечными»). А генерал Паскевич, у которого картежники выхлопотали разрешение на приезд поэта в действующую армию, наивно полагал, что Пушкин едет воспевать его ратные подвиги.
Александр Островский
Посмертная судьба русских писателей бывает похлеще прижизненной. Гоголя, по легенде, похоронили живьем; труп Грибоедова сперва закопали в общей яме в Тегеране и только потом привезли в Грузию; гроб с телом Пушкина вывезли под Псков; Толстой не отпет и лежит без креста в собственном имении, а во время войны еще и «с подселением»; Лермонтова хоронили сначала в Пятигорске, а уж потом в Тарханах; тело Чехова возвращали на родину в вагоне со льдом для устриц – и т. д., и т. п. О писателях ХХ века и говорить нечего: многие из них сгинули вообще без следа. Драматург Островский не исключение в этом печальном списке. Он завещал похоронить себя на Новодевичьем, но лежит в деревне Николо-Бережки, рядом с собственной усадьбой Щелыково – в ста километрах от Костромы. Хотя для перевозки тела были уже готовы и железный гроб, и катафалк, и даже спланированы погребальные мероприятия. Как вдруг родственники принимают решение хоронить драматурга дома (из причин газеты упомянули желание брата покойного, плохое состояние вдовы и тот факт, что «Москва в июне, несомненно, опустелый город»). Однако реальной причиной стало то, что из высших сфер Петербурга, в данном случае из министерства двора, так и не поступило указаний об отдании праху Островского соответственных почестей. Чтобы избежать неприятностей, оскорбительных для памяти покойного, Островского решили никуда не везти. В Николо-Бережках он покоился до 2010 года, когда началась реставрация склепа, который «совсем провалился». Тогда останки Островских эксгумировали и поместили во временную сарайку. В этой сарайке на никем, кроме церковного сторожа, не охраняемом сельском погосте останки драматурга пролежали без малого год, пока на реставрацию не появились средства. После реставрации с кладбища исчезли другие, кроме островской, могилы, а также деревья. Теперь церковь (с удивительным барочным иконостасом времен прежних владельцев Кутузовых) окружают безымянные лужайки и холмики. Возвеличить одно, уничтожив вокруг все остальное, – бывало и такое в российской реставрации.
Опасный сосед
В 1811 году Василий Львович Пушкин был на виду и на слуху литературной Москвы. Он мог бы сполна выразить всю «московскость» литературы предвоенного времени. Человек-персонаж, Пушкин с естественной легкостью нарушал границы между литературой и жизнью, дополняя собственным колоритным образом и свою поэзию, и свою жизнь. Это смешение чернил и крови было в то время атрибутом литературной светскости и помогало чисто по-московски подстроиться под обстоятельства, особенно трудные из-за антианглийских санкций и общего падения российской экономики. Знавал Василий Львович и лучшие времена. Бывавший на приемах у Наполеона, бравший уроки декламации у легендарного Тальма – Пушкин уже одним этим привлекал внимание к собственным, не более чем средним стихотворным сочинениям. Вернувшись из Франции, он одевался и причесывался по последней моде и даже разрешал дамам обнюхивать его модно напомаженные волосы. Искренность, с какой он уверовал в «карамзинизм» и «чувствительность», и раж, с которым их проповедовал, раблезианство во всех областях, от застолья до брачных чертогов, и странное «семейное положение» (Василий Львович развелся и сожительствовал с дворовой девкой) скрашивали и его нелепый вид, и его плохо скрытое самолюбование. «Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, – вспоминал о Пушкине Вигель, – косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником, рот и подбородок a la Charles-Quint, а более всего редеющие волосы не с большим в тридцать лет его старообразили. К тому же беззубие увлаживало разговор его, и друзья внимали ему хотя с удовольствием, но в некотором от него отдалении». «Вообще дурнота его, – добавляет Вигель, – не имела ничего отвратительного, а была только забавна». Весной 1811 года Пушкин пустил в списках по читателям поэму «Опасный сосед», которая стала «бестселлером» того времени, хотя ни разу при жизни поэта и не печаталась. Батюшков сам шлет Гнедичу ее список – с просьбой обязательно прочесть Оленину («Об этом меня просил Пушкин»). «Вот стихи! – восклицает он. – Какая быстрота! Какое движение! И это написала вялая муза В<асилия> Л<ьвовича>!» Восторг Батюшкова понятен: в его собственных стихах смена планов не менее стремительна. Удивительно, как на подобных «скоростях» меняется сам язык; быстрый сюжет ищет легкой речи, которая бежала бы и плавно, и ярко; от некоторых фраз Батюшков буквально в восторге («Панкратьевна, садись! – Целуй меня, Варюшка! / Дай пуншу! – Пей, дьячок! – и началась пирушка!»). Поэма, чей сюжет и низок, и вульгарен (неудачное посещение борделя), привлекла Батюшкова тем, что лирический герой здесь почти сливается с самим сочинителем, и это та граница, где классицизм отступает перед наступающим романтизмом, правда, пока в сниженном виде. «Здесь остряки говорят, – пишет Гнедичу Батюшков, – что он исполнен своего предмета…» Однако дело не в том, что Василий Львович был обжора и слонялся, как и его литературный герой Буянов, по борделям, а в том, что едва ли не первым дерзнул выставить свои приключения в литературной форме, да еще нашпиговав их отсылками и аллюзиями на «высоких» классиков. Летом 1811 года Василий Львович отправится в Петербург вместе с племянником – хлопотать об устройстве Александра в лицей – и будет читать «Соседа» Денису Давыдову, выставив прежде племянника в другую комнату. Однако иголку в мешке не спрячешь; юный Александр Сергеевич был прекрасно знаком с «Опасным соседом» дядюшки и даже вывел его персонажа Буянова в «Евгении Онегине» («Мой брат двоюродный, Буянов»), окончательно разрушив грань между реальностью и вымыслом.
Батюшков: облюбование Москвы
В пятидесятых годах XVIII века итальянский художник Бернардо Беллотто, ученик Каналетто и мастер городской «ведуты», создал цикл картин с видами германской крепости Зонненштейн и городка Пирны (Саксония). Спустя полвека в этой крепости откроется клиника психических расстройств, куда в 1824 году поместят душевнобольного Батюшкова. По картинам Беллотто мы и сегодня можем представить, какой пейзаж открывался Батюшкову из окон его палаты. Среди каких пейзажей он сходил с ума четыре года.
Через полвека после Беллотто его последователь – «русский Каналетто» художник Федор Алексеев – отправится в Москву для «снятия видов древнерусской столицы» (1800). За два года он создаст серию картин «перспективной живописи», то есть несколько десятков акварелей и работ маслом, с фотографической точностью запечатлевших Москву допожарную – едва ли не единственное свидетельство, какой она была накануне нашествия наполеоновской армии и какой ее увидел 23-летний Батюшков, когда впервые приехал в Москву из Хантанова.
Именно в Москве Федора Алексеева родился Пушкин и жил Карамзин. Именно так выглядел Кремль, когда в нем короновали Лжедмитрия. Еще не засыпан (хотя и давно осушен) Алевизов ров, опоясывающий Кремль вдоль восточной стены – там, где теперь могильники. Еще торгуют перед Спасской башней церковными и всякими книгами, а на Красной площади под Покровским на рву собором – деревянные павильоны рынка. Нет еще Манежа, а на месте Александровского сада бежит Неглинка. Царь-пушку еще не водрузили на колеса, и она лежит на земле – на простом деревянном лафете. Церкви, помнившие Ивана Грозного и Смутное время, лепятся как грибы вдоль кривых улиц, половина из которых еще не мощена. Посреди Арбатской площади еще возвышается круглое на колоннах здание театра, построенного Карлом Росси, и каждый вечер здесь играют спектакли, на которые собирается вся Москва.
Петербуржцу, чей глаз с детства привык к регулярной планировке и классическим фасадам, Москва представлялась довольно необычным, если не сказать диковатым, зрелищем. Город был столицей давно несуществующего царства, обломком истории, живым Средневековьем, которое мирно уживалось с модами самого последнего времени. Для человека с европейским умом и русским сердцем Москва того времени была самым настоящим интеллектуальным вызовом.
Из первого хантановского «заточения» Батюшков вырвался в декабре 1809-го. Доходы с урожая, полученные к зиме, хотя и были невысокими из-за охватившего страну экономического кризиса, все же позволяли какое-то время пожить светской жизнью. В Петербург было далековато и не к кому, да и не с чем, – а в Москву настоятельно звала вдова Муравьева, любимая тетка Екатерина Федоровна. После смерти Михаила Никитича она перебралась с детьми в Москву и ждала племянника в гости. Она была решительно против, чтобы Батюшков поселился в Москве отдельно.
В то время путь из Пошехонья в Москву лежал через Вологду, откуда в декабре 1809 года Батюшков пишет отцу в Даниловское. В письме он сообщает о болезни, которая задерживает его в дороге. Обстоятельства болезни известны из ответного письма Николая Львовича, заботливо предостерегающего сына от современных лекарей («от глистов они дают меркуриальные капли, которые расстраивают всю нашу физическую машину»). «Твой жребий, который хочешь вынуть из урны, – продолжает Николай Львович, – есть совершенно согласен и с твоими талантами, и с твоим характером». Значит, Батюшков рассказал отцу не только о болезни, но и о намерениях решить кое-какие вопросы относительно собственного будущего, для чего он намеревается ехать из Москвы в Тверь.
Как только здоровье позволяет, Батюшков отправляется дальше. Он прибывает в Москву в самом конце декабря 1809 года. Рождественскую службу Константин Николаевич стоит вместе с семейством Муравьевых в церкви Георгия Победоносца на Всполье, в приходе которой (стена к стене) живет в одноэтажном деревянном доме Екатерина Федоровна.
Теперь на этом месте циклопический корпус звукозаписи центрального телевидения.
Что была Москва зимой этого года? Город жил визитом Александра I, который отметил в Москве свой день рождения и покинул город буквально за несколько дней до приезда Батюшкова. Город жил театром – знаменитая актриса мадемуазель Жорж, любезно одолженная Наполеоном Александру, как раз к новому году закончила первые московские гастроли в Арбатском театре и, пожалуй, затмила в этом сезоне русскую приму «девицу Екатерину Семенову». Жорж играла в расиновской «Федре», «Дидоне» Помпиньяна и вольтеровой «Семирамиде». Все три спектакля были подробно отрецензированы журналом «Вестник Европы» в заметках за подписью «Василий Жуковский». Поэт имел от издателя ложу на все представления знаменитой француженки.
Москва готовилась к Масленице, на площадях воздвигались увеселительные сооружения: гигантские ледяные горки и карусели, от которых «кровь ударяет в голову». Одиннадцатилетний Саша Пушкин стоит в толпе, которая приветствует императора на Мясницкой, – в ту зиму Пушкины переезжают в приход Николая Чудотворца на этой улице. Семилетний Федя Тютчев живет неподалеку в Армянском переулке и тоже, надо полагать, присутствует при проезде царского поезда. Другой Александр Сергеевич – пятнадцатилетний Грибоедов – живет на Новинском бульваре, откуда каждый день ездит в университет, где ему предстоит поступление в чин доктора прав. Его дядя, Алексей Федорович, будущий прототип Фамусова, недавно перебрался с дорогой Волхонки в дешевое недворянское Замоскворечье – и собирает маскарады, на один из которых будет зван Батюшков. На углу Пречистенки и Обухова (ныне Чистого) переулка в доме однокашника Соковнина живет двадцатисемилетний Жуковский – поэт и журналист. Поэт старшего поколения Василий Львович Пушкин только что закончил к нему послание, где выбранил шишковцев и «Беседу любителей русского слова», и взахлеб читает это послание в салонах Москвы. Петру Вяземскому исполнилось восемнадцать, князь – круглый сирота и ждет совершеннолетия, чтобы вступить в большое наследство и «прокипятить на картах полмиллиона»; он только пробует перо. В доме отца на Колымажном дворе Вяземский живет под одной крышей с Карамзиным, который женат на его сводной сестре и уже закончил несколько первых томов «Истории». Особняк, где жил Вяземский и работал Карамзин, и сегодня можно увидеть на задах Пушкинского музея. Это единственное место в Москве, напрямую связанное с созданием «Истории государства Российского».
Впечатления от «древней столицы» Батюшков соберет в очерке, который примется сочинять сразу же по прибытии. Очерк останется в черновиках без названия и будет опубликован уже после смерти поэта под названием «Прогулка по Москве». Это едва ли не первый опыт эссе о городском «гении места» в русской словесности. Здесь нет и тени того раздражения, с каким Константин Николаевич описывает Москву и «московитян» в письмах к сестре или Гнедичу. Пишут словно два разных человека: письма – скучающий, высокомерный и мнительный; эссе – тонкий, наблюдательный и ироничный.
Первые недели Батюшков действительно не может найти места в суете-пустоте московской жизни: она ему чужда; его первые впечатления от литературной жизни Москвы ужасны. «Я здесь очень уединен, – пишет он Гнедичу. – В карты вовсе не играю. Вижу стены да людей. Москва есть море для меня; ни одного дома, кроме своего, ни одного угла, где бы я мог отвести душу душой». И дальше: «…этот холод и к дарованию, и к уму, это уравнение сына Фебова с сыном откупщика или выблядком счастия, это меня бесит!»
А вот другой Батюшков, возвышенный поэт и философ: «Посмотри, – пишет он в очерке, – здесь, против зубчатых башен древнего Китай-города, стоит прелестный дом самой новейшей итальянской архитектуры; в этот монастырь, построенный при царе Алексее Михайловиче, входит какой-то человек в длинном кафтане, с окладистой бородою, а там к булевару кто-то пробирается в модном фраке; и я, видя отпечатки древних и новых времен, воспоминая прошедшее, сравнивая оное с настоящим, тихонько говорю про себя: «Петр Великий много сделал и ничего не кончил».
Москва демократичнее и проще Петербурга, она элементарно беднее; в «отставленной» столице и люди живут «отставленные» – те, кому не нашлось места в Петербурге. Внешний блеск жизни – вот и все, чем человек может оправдать себя перед судьбой. Москва охотно принимает таких; здесь не живут, а доживают, и поэтому не слишком требовательны к человеку и таланту; и это панибратство «всех в одной тарелке» неприятно изумляет Батюшкова. Воспитанный в оленинском кружке с пиететом к уму и дарованию, к их высокому статусу, который не требует дополнительного оправдания, он привык к иному обхождению. Да и что это за поэты? В Москве элиту составляет всяк, кто себя к таковой причислит. Чем ничтожней повод, тем громче шумиха; от скуки и бессобытийности жизни все преувеличено, все не то, чем кажется; Василий Львович Пушкин, скачущий по салонам, и пестрая толпа, вполуха ему внимающая, – вот эталон литературной жизни. «Я познакомился здесь со всем Парнасом, кроме Карамзина, который болен отчаянно, – пишет Батюшков Гнедичу. – Эдаких рож и не видывал». «Москва жалка: ни вкуса, ни ума, ниже совести!» – добавляет он. Однако другой, второй Батюшков, видит и думает совсем иначе: «Тот, – пишет он, – кто, стоя в Кремле и холодными глазами смотрел на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное Замоскворечье, не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того (и я скажу это смело) чуждо все великое, ибо он был жалостно ограблен природою при самом его рождении; тот поезжай в Германию и живи, и умирай в маленьком городке, под тенью приходской колокольни…»
Странно и страшно подумать, что целых четыре года Батюшков будет ежедневно умирать именно в таком городке из табакерки: в лечебнице для душевнобольных в германском Зонненштейне, чьи умиротворяющие по красоте и тонкости пейзажи запечатлел Беллотто.
О том, какой была московская «богема» того времени, довольно точно скажет Грибоедов, и не только в «Горе от ума» (где мы находим множество перекличек с умонастроением Батюшкова) – но и в коротком очерке о поколении, к которому принадлежал его дядюшка. Перед нами психологический портрет человека, доживающего екатерининский век в московской отставке; черты дауншифтера рубежа веков: «…в тогдашнем поколении, – пишет Грибоедов, – развита была повсюду какая-то смесь пороков и любезности; извне рыцарство в нравах, а в сердцах отсутствие всякого чувства. Тогда уже многие дуэлировались, но всякий пылал непреодолимою страстью обманывать женщин в любви, мужчин в карты или иначе. Объяснимся круглее: у всякого была в душе бесчестность и лживость на языке <…>; дядя мой принадлежит к той эпохе».
На маскарад к Грибоедову зван был и Батюшков, но билет так и остался неиспользованным. На людях ему неудобно и неуютно; он чувствует себя обманщиком и самозванцем и дичится. Персонажи «Видения на берегах Леты» (Мерзляков, Шаховской, Глинка) ведут себя крайне странно. Они или не подозревают, кто перед ними, или делают вид, что ничего не случилось; что не этот маленький и по-детски обаятельный человек в большой армейской шляпе – автор сатиры, всех их высмеявший. Наоборот, они по-московски обходительны и хлебосольны, и это мучительное раздвоение заставляет поэта сторониться общества. «Он (Мерзляков) меня видит – и ни слова, видит – и приглашает к себе на обед, – пишет он Гнедичу. – Тон его нимало не переменился (заметь это). Я молчал, молчал и молчу до сих пор, но если придет случай, сам ему откроюсь в моей вине».
Батюшков редко бывает в свете, зато почти каждый день его можно увидеть на Тверском бульваре. Бульвар заменяет ему Невский проспект. Это едва ли не единственный променад в городе, и Батюшков, живущий поблизости, на Никитской, с удовольствием выходит на прогулку – один или с племянниками. Живые картины бульварной толчеи и смешения, нарисованные Батюшковым в «Прогулке», словно предвосхищают «Невский проспект» Гоголя. Те же фрагменты, лишенные содержания; вихрь лиц, шляп и галстуков – идеальный материал для расколотого сознания. Через несколько лет Батюшков занесет в альбом Бибиковой, вдовы Кутузова, рисунок с Тверского бульвара; это будут ноги Василия Львовича Пушкина, его сестры и зятя. Задолго до «Носа» они заживут у Батюшкова отдельной жизнью. Чтобы увидеть эти ноги, Батюшкову придется стать фланёром. Скольжение взгляда придает ускорение мысли, и это единственный способ развеять скуку и помириться с городом. Быстрое чередование картин совпадает с частотой смены картин батюшковского воображения. Подобно Карамзину в Париже, он будет смотреть на Москву отстраненным, немного насмешливым взглядом, тем самым как бы объективируя то, что видит. Живые картины его Москвы и сейчас, спустя двести лет, не менее выпуклы и наглядны, чем живописные картины Федора Алексеева того же времени. Они – проекция его поэтического мышления.
В письмах Батюшкова к Гнедичу того времени мы не найдем упоминаний об экономике или о политике. Между тем десятый год – начало предвоенного времени, порубежный период русской истории. Пока Батюшков дуется на Москву, пока он рассеивает скуку, фланируя на бульваре, в Петербурге создан Государственный совет; преобразовательным проектам Сперанского Александр дает самый скорый ход; политическую жизнь в аннексированной Финляндии они устраивают сообразно передовым идеям Просвещения, как бы тестируя на ее территории будущее устройство России. Однако большинству проектов все-таки не суждено будет сбыться. Союз с Францией все более убыточен, Тильзитский мир и «санкционная война» с Англией тормозят реформы, они медленно толкают империю к финансовому краху. Внутренний рынок давно перенасыщен сельскохозяйственной продукцией; из-за отсутствия внешнего сбыта товары портятся и катастрофически дешевеют, и помещик Батюшков, живущий на четыре тысячи в год за счет натурального хозяйства, не может не замечать этого. Вдвое упал бумажный рубль. Союз с Францией все ощутимее бьет по карману и без того небогатого российского дворянства. Люди, привыкшие к определенному образу жизни, вынуждены менять его. Как? Это хорошо видно на примере семейства Пушкиных, которое только за один 1809 год по нескольку раз переезжает с места на место в поисках более дешевого жилья.
Недовольство в дворянской среде растет, и Александр вынужден действовать. Поднимается пошлина на ввоз предметов роскоши из Франции, а у англичан, наоборот, появляется возможность обойти санкции. Наполеон чувствует, что Александр ведет двойную игру, и, чтобы укрепить союз с русскими, действует проверенным способом: сватается к сестре российского императора Екатерине Павловне; но княгиню спешно выдают замуж за принца Ольденбургского и отправляют губернаторшей в Тверь; а младшая сестра, на которую тут же переключает внимание Наполеон, еще слишком молода, чтобы думать о браке.
Между тем на рубежах Двины и Днепра сосредотачиваются крупные военные формирования, строятся укрепления; Александр понимает, что обратная сторона экономического развития России – это война с Наполеоном, что она неизбежна и что с падением Пруссии и Австрии у России не осталось союзников.
Отголоски всех этих событий мы замечаем у Батюшкова лишь косвенно. Прежде всего его поэтический слух режет фальшь патриотической риторики, которая буквально захлестывает Москву и Петербург после Тильзита. Человеку, рисковавшему ради отечества жизнью, «салонный патриотизм» предсказуемо отвратителен. «Еще два слова: любить отечество должно, – пишет он Гнедичу. – Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели выхваляют все старое? <…> Но поверь мне, что эти патриоты, жаркие декламаторы, не любят или не умеют любить русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жертву отечеству… Да, дело не о том: Глинка называет “Вестник” свой Русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское… а я потерял вовсе терпение!»
Отголоски этого раздражения иногда слышны и в «Прогулке по Москве». Вслушиваясь в шум московского времени, Батюшков, как посторонний, сразу улавливает фальшь и ложь. Передергивателей он ловит буквально за руку. Ему достаточно одной фразы, чтобы вскрыть примитивную механику «русского патриотизма»: «Здесь славная актриса Жорж принята была с восторгом, – пишет он, – и скоро наскучила большому свету. Сию холодность к дарованию издатель “Русского Вестника” готов приписать к патриотизму; он весьма грубо ошибается». Обратная сторона «салонного патриотизма» всегда была и остается составленной из зависти к чужому успеху, немочи самому создать что-либо достойное и элементарной обывательской скуки, которую одна лишь брань еще способна развеять. Это все то же «…уравнение сына Фебова с сыном откупщика или выблядком счастия», о котором писал Батюшков.
«Батюшкова я нашел больного, – пишет Гнедич, – кажется, от московского воздуха, зараженного чувствительностью, сырого от слез, проливаемых авторами, и густого от их воздыханий». Николай Иванович напишет эту фразу летом 1810 года, когда будет проездом в Москве, по дороге на родную Полтавщину. В этой фразе слышны лукавство и ревность. По словам-маркерам («чувствительность», «воздыханий») мы безошибочно угадываем адресата гнедичевых уколов; человека, в «поле притяжения» которого к лету 1810 года оказался Батюшков. И этот адресат, эта «планета» – Карамзин; человек, способный одним своим существованием раздражать весь бомонд петербургского классицизма; дом Вяземских, где он живет, станет для Батюшкова местом, примирившим его с Москвой. В особняке на Колымажном (и в Остафьеве за городом) он войдет в круг людей, которые составят его общение на всю последующую жизнь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































