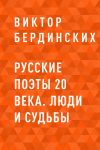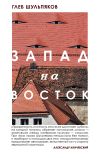Текст книги "Батюшков не болен"

Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Называлось оно “Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка”. Как уже было сказано, бобровская сатира откликалась в “Видении на берегах Леты”, и не только названием. Она была написана в литературной традиции, восходящей к Лукиану и его “Разговорам в царстве мёртвых”, и в традиции самого Муравьёва, автора цикла “Разговоры мёртвых”, правда, не сатирического, а нравоучительного характера. Но если Батюшков судит архаистов и бездарных эпигонов Карамзина – то Бобров, наоборот, выводит перед Ломоносовым Галлорусса (читай, русского франкофила) – и осмеивает его.
В образе Галлорусса угадывался издатель “Московского Меркурия”, недавно почивший писатель-карамзинист Пётр Иванович Макаров, много эпатировавший шишковцев на страницах своего журнала. Сперва Ломоносов как будто благожелателен к “выпискам” Галлорусса. Однако в конце тот представляет ещё одну “выписку”, она-то и выводит Ломоносова из равновесия. Текст недвусмысленно указывает на карамзинский рассказ “Остров Борнгольм”. Ознакомившись с историей “запретной любви” брата к сестре, бобровский Ломоносов переменяется во мнении. “Я вижу в сих стихах, – говорит он, – чрезмерного поблажателя чувственности и не позволенной слабости. Он при заманчивом слоге вперяет хорошее наставление в сердца молодых людей в нынешнем состоянии вселенной. – Беззаконную любовь брата к родной сестре <…> и с сею то сестрицею ужасное брата сладострастие оправдывает законами природы, как будто в первые годы золотого века! – Спасительная пища для молодого слуха и сердца! Сладкая отрава под приятными цветами и красками!”
Галлорусс в наказание отправляется на исправительные работы: читать “Телемахиду”. Что касается Карамзина, упрёки в безнравственности сыпались на него с момента, когда “Остров Борнгольм” был только опубликован (1797). Авторские намёки на кровосмесительную связь и в самом деле произвели шокирующее впечатление на неискушённую читающую публику того времени. В зависимости от политического курса русских императоров – то вражды, то дружбы с Францией – Карамзин со своим “Островом” (и “Письмами русского путешественника”) регулярно обвинялся в пропаганде тлетворных французских идей, и только личное покровительство высочайших особ спасало его от репрессий. Но если по выходе “Писем” поэт и масон Голенищев-Кутузов просто поэтически пожурил Карамзина за излишнее внимание к низкому быту – трактирной кухне, например, – то уже в 1810 году он напишет на имя министра просвещения самый настоящий донос. “Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие, – говорит Кутузов. – Не орден ему надобно бы дать, а давно бы пора его запереть; не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь”.
Подобного содержания записок и писем в судьбе Карамзина было множество. От обвинений, прямых или косвенных, он отгородился “Историей государства Российского”. Однако его противники не собирались складывать оружие. Многие из них были лично задеты Николаем Михайловичем в бытность его издателем и журналистом. К числу таковых принадлежал и Семён Бобров. В “Аонидах” – антологии современной поэзии, Карамзиным когда-то составленной – писатель отозвался о бобровских стихах прямо. “Молодому питомцу Муз, – сказал он, – лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот Природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар Натуры и прочее в сем роде”. В подношении Муравьёву Бобров ответил на эту рекомендацию – в том смысле, что “первые впечатления любви” оборачиваются “ужасным сладострастием”, и ничему хорошему не могут научить не только “молодого питомца Муз”, но и человека вообще. По мысли Боброва, Карамзин проповедует плотскую чувственность в ущерб духу, камуфлируя её соблазнительно “лёгким языком”.
В то время, когда Бобров “подносит” Муравьёву своё сочинение (1805) – Михаил Никитич занимает должность товарища министра народного просвещения и попечителя московского университета. Его мнение имеет безусловный вес и может повлиять на судьбу конкретного человека. Правда, не очень понятно, на что Бобров рассчитывал, ведь Муравьёв ценил Карамзина как писателя и даже хлопотал за него. Вряд ли он предпринял бы какие-то действия по его дискредитации.
Так или иначе залп состоялся, и ответ, хотя и заставил себя ждать несколько лет, был сокрушительным. Каждый из троицы младо-карамзинистов принял текст Боброва на свой счёт. Обвинения в безнравственности задевали Жуковского, чья любовь к племяннице Маше Протасовой не могла отыскать естественного разрешения в женитьбе, которой противостояло мелкое, упрямое, провинциальное ханжество. Многоречивый и безрифменный стиль Боброва давно раздражал Батюшкова, к тому же он защищал честь Муравьёва, которого Бобров хотел использовать. А Вяземский боготворил Карамзина и был готов встать на защиту “карамзинизма” в любом случае. Правда, совмещая в одном номере “Вестника Европы” литературный “наезд” на Боброва с призывом о помощи лишённому кормильца семейству, карамзинисты как бы говорили: есть литературная полемика, а есть жизнь; не стоит их смешивать.
В конце мая 1810 года семейство Карамзиных-Вяземских переезжает в подмосковное Остафьево. Вслед за ними отправляются Жуковский и Батюшков. Начало июня пройдёт в “дружеском общении”, окончательно укрепившем литературный союз поэтов.
В Остафьеве Батюшков наблюдает Карамзина почти ежедневно. Надо полагать, он видит всё того же “упоенного, избалованного безпрестанным курением” человека, каким Карамзин запомнился ему по Москве. Однако здесь, при более тесном общении, эти приметы получили новое толкование. За человеком “внешним” Батюшков мог почувствовать “внутреннего”. У которого за плечами долгий путь этического осмысления истории – и опыта жизни в ней. Результат пути – ясность ума и чистота чувства, что при максимальной творческой нагрузке (работа над “Историей”) составляют ту степень свободы (или “упоения”), к обретению которой так долго шёл писатель, и которую так трепетно оберегал от вторжения.
Состав мыслей Карамзина – о социальной действительности, которая почти всегда враждебна поэтической мечте (т. е. свободе творчества); о постоянном преодолении человеком этой враждебности – путём поиска и утверждения внутренней точки опоры, а значит покоя и счастья – станут мыслями и самого Батюшкова. Как не потерять себя в предлагаемых реальностью обстоятельствах? Как сохранить свободу, рассудок и совесть – во времена, лишённые и того, и другого, и третьего? Подобными вопросами и сегодня задаётся в России любой человек с умом и сердцем. В этом поиске Карамзин – один из нравственных (наряду с Муравьёвым) ориентиров Константина Батюшкова.
Вопросы этики и психологии занимают и Жуковского. Между двумя поэтами даже установится некое литературно-полемическое “отношение”. Они будут обмениваться поэтическими посланиями. “Воспоминание есть двойник нашей совести”, – скажет Жуковский. Поэзия есть “…сочетание воображения, чувствительности и мечтательности” (Батюшков). Оба согласны, что творчество (т. е. буквально “творение стиха”) объединяет в себе этику (т. е. “как жить”) и эстетику (“как писать”) – при условии, что жизнь и творчество в судьбе поэта нераздельны. Философия “союза” этики и эстетики станет громадным шагом от классицизма XVIII века, мыслившего поэта отдельно от человека – к романтизму с его слиянием судьбы, искусства и личности.
Точку опоры – покой и умиротворение – Жуковский отыскивает в пространстве человеческой памяти, преображающей минувшее в идеальное и неподвластное времени. Его мир меланхоличен, поскольку даже счастье настоящего он рассматривает сквозь призму прошедшего, которым настоящее неизбежно станет. А Батюшков пытается жить подобно эпикурейцам – “здесь и сейчас”, сколько бы бесприютным и зыбким это “сейчас” ни было.
При всей своей “идеальности” и “надмирности” – в жизни Жуковский крепкий домосед. Его идеал семья и очаг. А Батюшков весь в странствии к этому призрачному очагу и счастью. Постепенное осознание его недостижимости будет по-своему угнетать и раскалывать гармонию “внутреннего человека” каждого поэта. Жуковский найдёт примирение в области идеального. А для Батюшкова жизнь постепенно станет “сказкой, рассказанной идиотом”. Сознание беспочвенности, заброшенности, забытости человека в мире подталкивает раннего Батюшкова к простым эпикурейским радостям – а в зрелых стихах прозвучит со всей мощью элегического отчаяния перед неумолимым временем, которое пожирает всё самое дорогое в жизни, и которое не смогут утишить даже христианские истины. Мелодию этого отчаяния мы слышим даже сквозь толщу языка и времени – потому что для человека вряд ли что изменилось.
Мечту об очаге воплотит Жуковский, он создаст семью и станет отцом, хотя почти всю жизнь и проведёт в разъездах – а Батюшков так и останется одиночкой и умрёт безумцем в чужом доме на руках у родственников. Его бездомность и безбытность не только предсказывают ХХ век, когда миллионы людей будут насильственно лишены земли и крова, но и заглядывают в наше время, когда понятие дома становится вообще относительным. Сегодня все мы живём на чужой земле под временно арендованной крышей.
Как повлияла на внутренний мир Жуковского его несчастная любовь к племяннице Маше Протасовой – насколько отточила способность к выражению переходных ощущений и философскому раздумью – хорошо видно по рассуждению Василия Андреевича о меланхолии: “Счастие любви, – пишет Жуковский, – есть наслаж-дение меланхолическое: то, что чувствуешь в настоящую минуту, менее того, что будешь или что желал бы чувствовать в следующую: ты счастлив, но стремишься к большему, более совершенному счастию, следовательно, в самом своём упоении ощутителен для тебя какой-то недостаток, который вливает в душу твою тихое уныние, придающее более живости самому наслаждению; ты не находишь слов для изображения тайного состояния души твоей, и это самое бессилие погружает тебя в задумчивость! И когда же счастливая любовь выражалась веселием?.. Любовь несчастная, любовь, наполняющая душу, но разлученная с сладкою надеждою жить для того, что нам любезно, слишком скоро умертвила бы наше бытие, когда бы отделена была от меланхолии, от сего непонятного очарования, которое придаёт неизъяснимую прелесть самым мучениям… Пока человек упрекает одну только судьбу, до тех пор остаётся ему некоторая обманчивая надежда на перемену: и в сих-то упрёках, и в сем-то обманчивом ожидании перемены заключено тайное меланхолическое наслаждение, которое самую горесть делает для него драгоценною”. “Вестник Европы”. 1809.
Словно в противовес бесконечному трудолюбию Жуковского, словно поддразнивая “немца” – Батюшков ленится. Жуковский заполняет самообразованием и работой каждую минуту, а Батюшков в деревне может неделями ничего не делать. Его стратегия – праздность. В деревню Батюшков увезёт записную книжку “Разные замечания”. Подаренная Жуковским, она заполнена его записями, дальше будет писать Константин Николаевич. Подобный “живой журнал” – ещё одна форма диалога, оформляющего московское “дружество”.
Удаляясь в середине лета в деревню, Батюшков увозил с собой новую жизнь, и эта жизнь была обретена в Москве. Город, который он поначалу принял в штыки, одарил его личными и литературными отношениями, составившими смысл его жизни на ближайшее время. Гнедич не зря беспокоился – его друг, действительно, выходил из сферы влияния петербуржских классицистов. Он больше не хотел переводить героический эпос Тассо. Он погружался в пёстрый сказочный мир “Неистового Роланда” Ариосто – и лирику Петрарки. Ему важны чувство и человек. “Разные замечания” как бы подсвечивают первые шаги на этой дороге.
“Разные замечания”
Жуковский. При заведении дома должно сделать расположение всего, времени, работ и самих вещей один раз навсегда так, чтобы ничто впоследствии не нарушало сего порядка: всё должно быть согласовано со временем и обстоятельствами и неизменяемым; тогда должности людей обращаются в привычку и перестанут быть трудными. Каждое дело должно иметь свой назначенный час и поручено особенному человеку. Каждая вещь должна иметь своё определённое место; порядок во всём зависит от постоянства хозяина, который сам должен наблюдать его непременно и всегда: без его содействий он не может установиться в доме.
Батюшков. Херасков, говорил мне Капнист, имел привычку или правило всякий день писать положенное число стихов. Вот почему его читать трудно. Горе тому, кто пишет от скуки! Счастлив тот, кто пишет потому, что чувствует.
Жуковский. Строгий порядок имеет вид печального принуждения тогда, когда из принадлежащего ему исключаешь удовольствие. Господин тогда сносит свой труд, когда мешает его с забавою и отдыхом: не то ли должен делать и слуга. Следовательно, к порядку в делах приобщить должно и порядок в удовольствиях.
Батюшков. Прекрасная женщина всегда божество, особливо если мила и умна, если хочет нравиться. Но где она привлекательнее? – За арфой, за книгою, за пяльцами, за молитвою или в кадрили? – Нет совсем! – а за столом, когда она делает салат.
Жуковский. Молитва не есть просьба, но чистое наслаждение, которое производит в душе тихое, ясное спокойствие, даёт ей новую силу и новое мужество. Голос молящего не преклоняет Творца на милосердие, ибо Творец, верховная неограниченная благость и мудрость, не требует побуждения; но человек, способный молиться и прибегающий к молитве, сам меняется в отношении к Творцу, то есть делается лучшим, следовательно, и отношение Творца к себе меняет.
Батюшков. Терпеть не могу людей, которые всё бранят, затем чтоб прослыть глубокомысленными умниками. Правление дурно, войска дерутся дурно, погода дурна, прежде лучше варили пиво, и так далее. Но отчего они сами дурны в своём семействе? отчего домашние их ненавидят?
Жуковский. В человеке должно отделять человека от гражданина; сперва образуй в нём человека; потом образуй гражданина, то есть сперва усовершенствуй всё, что дала ему натура; потом уже сим усовершенствованным качествам дай то направление, которое согласно с тем местом, которое воспитанник твой будет занимать в обществе, и с теми особенными дарованиями, которые ты успел в нём заметить. Первое есть дело родителей; последнее есть дело наставника.
Батюшков. Гораций был всегда болен глазами, а Вергилий имел слабую грудь и прерывистое дыхание. Вот отчего Август говаривал, когда находился в обществе сих поэтов: “Я нахожусь между вздохов и слёз”.
Жуковский. Существование злого есть доказательство бессмертия, ибо оно было бы в противном случае без цели; следовательно опровергало бы само бытие Бога.
Батюшков. Нет ничего скучнее, как жить с человеком, который ничего не любит, ни собак, ни людей, ни лошадей, ни книг. Что в офицере без честолюбия? Ты не любишь крестов? – Иди в отставку! а не смейся над теми, которые их покупают кровью. Ты не имеешь охоты к ружью? – Но зачем же мешать N. ходить на охоту? Ты не играешь на скрипке? – Пусть же играет сосед твой!.. Но отчего есть такие люди на свете? – от самолюбия. Поверьте мне, что эта страсть есть ключ всех страстей.
Жуковский. 24 октября 1808. Вчера у Нелединского я слышал три замечательных анекдота о Павле. Он имел чрезвычайно острый и живой ум. В характере его была какая-то романтическая высокость, и самый его деспотизм имел в себе что-то возвышенное. Следующий анекдот показывает, что он был деспот в душе, но деспот гордый и смелый. Он поручил графу Сен-При написать и предоставить ему доклад об одном известном деле. Увидевши через несколько дней графа во дворце, он подошёл к нему и спросил у него в присутствии всего двора: Eh bien, monsieur de St. Prix, aurai-je bientÔt ce memoire dont je vous ai charge. – Sire, – отвечал С.-При. – J’ai prie un des grands de votre empire de le presenter a votre majeste. – Monsieur, – отвечал ему император своим сиповатым голосом. – Il n’y a ici de grands que celui a qui je parle, et pendant que je lui parle[26]26
Ну, господин Сен-При, скоро ли я получу тот меморандум, который я поручил вам составить? – Сир! <…> – Я просил одного из вельмож Вашего двора представить его Вашему Величеству. – Сударь <…>. Здесь нет вельмож кроме того, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю (фр.).
[Закрыть].
C сим словом оборотился он к нему спиною и пошёл прочь. <…>
В душе его, которая никогда не могла противостоять силе страсти, была натуральная, сильная привязанность к добру. Он любил наслаждаться чувствами. Будучи весьма часто несправедливым, он не стыдился своих несправедливостей, ибо знал, что имел силу всегда загладить их! Чувство великое и приличное монарху! Раз признавши себя несправедливым перед кем-нибудь, он при всяком случае старался доказать ему свою благосклонность; человек, который мог заставить его почувствовать сладость добра и правосудия, становился некоторым образом для него дорог. Он любил возобновлять своё чувство, возобновляя знание своей к нему благосклонности. Натура сделала его великодушным, прямым, добрым, чувствительным, вселяла в него любовь к добру – судьба и Екатерина преобратили его в тирана, к великому несчастию России, которую он мог бы возвысить.
Батюшков. Женщины меня бесят. Они имеют дар ослеплять и ослепляться. Они упрямы, оттого что слабы. Недоверчивы, оттого что слабы. Они злопамятны, оттого что слабы. У них нет Mezzo termine. Любить или ненавидеть! – им надобна беспрестанная пища для чувств, они не видят пороков в своих идолах, потому что их обожают; а оттого-то они не способны к дружбе, ибо дружба едва ли ослепляется! – Но можно ли бранить женщин? Можно: браните смело. У них столько же добродетелей, сколько пороков.
Жуковский. Карамзин сравнивает Бонапарте с графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым – один полагает славу в том, чтобы быть деятельнее, другой в том, чтобы много писать, не думавши о предмете деятельности и о том, хорошо ли пишет.
Батюшков. Писать и поправлять одно другого труднее. Гораций говорит, чтоб стихотворец хранил девять лет свои сочинения. Но я думаю, что девять лет поправлять невозможно. Минута, в которую мы писали, так будет далека от нас!.. а эта минута есть творческая. В эту минуту мы гораздо умнее, дальновиднее, проницательнее, нежели после. Поправим выражение, слово, безделку, а испортим мысль, перервём связь, нарушим целое, ослабим краски. Вдали предметы слишком тусклы, вблизи ослепляют нас. Итак, должно поправлять через неделю или две, когда еще мы можем отдавать себе отчёт в наших чувствованиях, мыслях, соображении при сочинении стихов или прозы. Как бы кто ни писал, как бы ни грешил против правил и языка, но дарование, если он его имеет, будет всегда видно. Но дарования одного, без искусства, мало.
Жуковский. Два рода рассеянности: одни происходящие от натуры; другие от самолюбия. Первая неизлечима и есть не иное что, как некоторый недостаток в организации нашей головы. Последняя может быть исправлена только тогда, когда положим границы нашему самолюбию.
Батюшков. Кто пишет стихи, тому не советую читать без разбору всё, что попадётся под руку. Чтение хороших стихов заранивает искру, которая воспламенит тебя. Чтение дурных, особливо гладких, но вялых стихов охлаждает дарование. Читай Державина, перечитывай Ломоносова, тверди наизусть Богдановича, заглядывай в Крылова, но храни тебя бог от Академии, а ещё более от Шаликова.
Жуковский. Чувство умнее ума. Первое понимает вдруг то, до чего последний добирается медленно. Чувствительность можно сравнить с человеком, имеющим зоркие глаза; он видит издали очень ясно тот предмет, до которого близорукий должен достичь, переходя от одного предмета к другому, чтобы его увидеть, – результат один и тот же.
Батюшков не празден
Вторую половину 1810 года Батюшков снова проведёт в деревне. Впечатлений от Москвы хватит, чтобы кое-как пережить унылые месяцы пошехонской осени. Уже в июле, только-только вернувшись к сёстрам, он напишет Жуковскому, что ощутил в Москве грусть, то есть живо представил будущее деревенское одиночество; а ещё “потому что я боялся заслушаться вас, чудаки мои”, добавляет он.
Но “чудак” Жуковский и сам теперь в деревне, и постоянным адресатом Батюшкова снова становится Гнедич. Это будет вторая “хантановская осень” Константина Николаевича. Письма, которые он напишет Гнедичу, составят нечто вроде художественно-эпистолярного цикла. И внутреннее, творческое и душевное, и внешнее (физиология и быт) – отразятся в них с особой, хотя и непрямой, точностью. Каждое послание станет для Батюшкова внутренним зеркалом. В письме, о котором пойдёт речь, апология эпикурейского “дружества” и философия праздности (творчества) – подкреплённые литературными цитатами – выражены в органичном единстве, то есть так, как они мыслились поэтом в момент перенесения на почтовую бумагу.
Письмо начинается стихотворной цитатой из Лудовико Ариосто. Батюшков цитирует “Неистового Роланда” на итальянском. Вот эти первые четыре стиха из седьмой главы – в подстрочном переводе Михаила Гаспарова:
Кто странствовал далеко от дома,
Видел непривычные виды,
И рассказывает, и ему не верят, —
Тот надолго ославится именем лжеца.
Большая часть разговора, на который настраивает Гнедича Батюшков, будет о деятельности и праздности, а косвенно – о верности себе, дружбе и творчестве. Батюшков цитирует Ариосто в ответ на путевую историю, услышанную от Гнедича. Из письма, написанного по возвращении Гнедича из Малороссии (на это письмо Батюшков, собственно, и отвечает) – мы видим, что Николай Иванович странствовал по делам семейным и наследственным, “видел непривычные виды” и даже угодил в “историю”. “Синяя полоса по телу моему убедит всякого, что через меня переехала коляска с четырьмя конями”, – сообщает он. А “шишка на голове, что я летел в Днепр торчь головую”. К тому же под Гатчиной Гнедича обокрали и “распоронный мой чемодан всякому скажет, что в нём осталась половина только его внутренностей”.
Фантасмагория по-гоголевски яркая; однако уж очень сомнительная. Её “чудесность”, её несовместимость с самыми простыми законами физики – заставляет Батюшкова с иронией вспомнить знаменитого французского учёного и мыслителя д’Аламбера (“…я ныне читаю д’Аламберта, который говорит именно, что чудеса делать трудно, бесполезно и вредно”). Тем не менее Константин Николаевич рад фантазиям друга. Он не зря цитирует Ариосто. “Неистовый Роланд”, которым поэт увлечён в деревне, – восхитительная возрожденческая сказка, гимн свободе воображения. И Батюшков радуется, что его товарищ, такой деловой и расчётливый, такой петербуржский – наконец-то расфантазировался; дурачится; приоткрывает душу; проявляет, открывая душу, дружество. Такова логика Батюшкова. Строки из Ариосто, следующие за цитированными, – пусть он и не приводит их (но, конечно, знает) – подтверждают “дружество” как жизненную ценность:
Глупому народу понятно
Только то, что можно видеть и трогать:
И конечно, неискушенный,
К моей песне он будет маловерен.
Маловерен или многоверен – неважно,
Что мне нужды до незнающих и глупых?
Зато вам, кому ясен свет разумности,
Эта повесть не покажется ложью.
А ведь только о вас моя забота —
Чтобы плод трудов моих был вам сладок.
Той осенью строки Ариосто Константин Николаевич воспринимает как апологию свободы творчества, которая неразрывно связана с дружеской близостью, ведь творчество это диалог одной души с чужой, но подобной. Похожие мысли поэт будет высказывать и в письмах Жуковскому и Вяземскому. Ариосто словно подкрепляет убеждение поэта. Неважно, о чём говорит человек, что выдумывает, как дурачится. Главное, он верит в то, что пишет, а значит говорит сердцем, и открывает сердце собеседнику – другу. Это и есть дружество, таково же и творчество, главный источник которого – мечта, воображение.
В ответ на небылицы Гнедича Батюшков высылает собственные “маранья”. К письму прилагается рукопись “Песни песней”, переложением которой он занимался в деревне. О том, что Батюшков погружён в работу, видно по письму к Вяземскому, отправленному из деревни ещё в июле. “…муза моя, – признаётся он, – изволит теперь странствовать по высотам Сиона, по берегам Иордана, на прохладных холмах Энгадда, то есть, как сказал тебе, я так занят моей «Песней песней», что во сне и наяву вижу жидов и вчера ещё в мыслях уестествил Иудейскую Деву”.
К осени эти “странствования” закончены и предоставлены на суд лучшему другу. Константин Николаевич с нетерпением ждёт реакции. Первая и дружеская, она либо даст начинанию жизнь, либо убьёт его. Увы, Гнедич начисто раскритикует товарища. Он снова и снова призывает Батюшкова заняться переводом крупной, серьёзной, возвышенной вещи: “Освобождённого Иерусалима” Торквато Тассо. “Променяет ли хоть один толковый человек, – напишет он, – все твои песни песней и оды на одну строфу Торквата?” И мнительный Батюшков уничтожает рукопись; “благодаря” Гнедичу ни строчки из этого переложения не останется.
Вернёмся, однако, к приключениям самого Николая Ивановича. Рассудив о них, Батюшков спрашивает друга о некой неустановленной девице Бравко, которую, и это ему известно, Гнедич должен был встретить у Василия Капниста (Гнедич заезжал по дороге в имение к поэту). Батюшков не только вопрошает о девице – но тут же и отвечает себе от лица Гнедича: “Да ты почему это знаешь?”
Момент примечательный, и вовсе не девицей. В процессе письма воображение Батюшкова так ярко представляет адресата, настолько выпукло и чётко видит его творческим взором, настолько устремлено к нему в мечте из абсолютного одиночества – что, кажется, поэт и видит любимого человека, и даже слышит (“Да ты почему знаешь?”). В одном из предыдущих писем Гнедичу Батюшков тянется к товарищу буквально. “…вообрази, что я подхожу к тебе, едва, едва прикасаясь полу концом пальцев… Одна рука делает убедительный жест, другая – держит пустую трубку, в которой более месяца не бывало турецкого табаку”. Для чего разыгран весь этот спектакль? Для малого: чтобы Гнедич поскорее прислал табаку, ведь в деревне хорошего не сыскать. Для большого: чтобы в ситуации абсолютной бессобытийности деревенской жизни стать и актёром, и режиссёром, и автором на пустой сцене.
Письма для Батюшкова – способ преодолеть инерцию деревенского времени, от которой коснеет душа и сохнет разум. Пусть Жуковский тоже в деревне, но его дом буквально напротив усадьбы любимого семейства. Пусть Михайловское будет медвежий угол – однако до Тригорского оттуда чуть меньше 10 километров. Остафьево и вообще в 30 верстах от Москвы. И только Батюшков – в глуши среди “незнающих и глупых”, “…в лесах, засыпан снегом, окружен попами и раскольниками…” (из письма Вяземскому).
Кроме сестёр и поговорить-то не с кем.
Другое дело – получать письма. Вместе с почтой в деревню к Батюшкову словно приходит сам человек. Осматривается, садится, молчит. Закуривает. Наконец письмо вскрыто, разговор начат. Он будет многодневным и трудным, лёгким и тяжёлым; с перерывами на сон и работу; с перепадами чувств от раздражения до нежности, высокомерия, любви. Но Гнедич рассказывает так мало! Почти в каждом ответном письме Батюшкова слышен этот упрёк: почему ты молчишь? почему вспоминаешь обо мне так редко? Не потому ли, что городская суета убивает дружество, которым живёт в деревне Батюшков? Ведь каждым письмом он дышит и неделю, и месяц. Сочиняет ответ, перемарывает, снова сочиняет. Уже распростившись с человеком, зовёт его обратно, усаживает. Приписывает на полях новые строки. Потому что в каждое из этих мгновений он не один. Это и есть его общение, его дружба. Вряд ли Гнедич, живший городской жизнью, как следует понимает товарища. “Ибо забывать друга, – горько иронизирует Батюшков, – есть дарование в тебе новое и полезное для общежития, то-есть, urbanitas”.
“В один из моих приездов в Ахтырку по делам судебным, – продолжает в том же письме Гнедич, – остановяся в квартире, заночевал. В пятом часу утра за стеною комнаты слышу я тоны декламации; вообрази моё удивление и радость. В Ахтырке найти человека декламирующего – стало быть, имеющего о чем-нибудь понятие! Вслушиваюсь в слова: Как боги ветр послав, пловцов возвеселяют – стихи моей Илиады! Я был в – ты сам вообразишь, в чём я был, пока не узнал по голосу Бороздина”.
Тёзка Батюшкова, статский советник и любитель древностей Константин Бороздин был шестью годами старше поэта и, как и Батюшков, находился под покровительством Оленина. С его помощью Алексей Николаевич решил реализовать одну давнюю идею. В то время в Кремле открылись Мастерская и Оружейная палаты, и нужно было чем-то пополнять новое музейное собрание. Оленин обратился к Александру, и тот одобрил государственное обеспечение археологической экспедиции. Так Бороздин, спешно приписанный к Оружейной палате, отправился в путь. По городам России он путешествовал вместе с Александром Ермолаевым – архитектором и художником, и тогда, и долго потом жившим в доме Оленина. Другим участником экспедиции стал Дмитрий Иванович Иванов, художник (его “Марфу Посадницу” можно и сегодня увидеть в Русском музее). В экспедиции он был топограф и выполнял рисунки и обмеры древних сооружений. В Киеве он скопирует мозаики Святой Софии, которые (копии) долгое время будут считаться самыми точными. Переместившись из Старой Ладоги в киевские земли, экспедиция проездом очутилась в Ахтырке, где по совершенной случайности куковал другой птенец гнезда Оленина: Гнедич.
Возможно, Батюшкову обидно, что Бороздин отправлен Олениным в интереснейшую экспедицию, а он, Батюшков, вынужден прозябать один со своими мыслями в глухом пошехонском углу. Но поэт есть поэт, даже в углу он философ, собиратель себя и времени. В письме к Гнедичу Батюшков утвердит эту свою “маленькую философию”[27]27
Подробнее см.: Петров А. Письма К.Н. Батюшкова 1807–1811 годов и становление “маленькой философии” // Батюшков. Исследования и материалы. Череповец, 2002.
[Закрыть]. Назовём её “философией праздности”. Но какой? Ведь есть праздность и праздность, и мы увидим, как чётко Константин Николаевич разделяет их. Следить за рисунком его мысли в этом письме – удовольствие совершенно особенное. Впрочем, как и во многих других письмах. Этот рисунок прерывист и замысловат – но внутренне выверен. Повторяя слова Шатобриана о Тассо, можно сказать, что здесь тоже многое сплетено, но ничего не спутано. Так логична мысль, которая формулирует саму себя в момент письма, когда задействован весь интеллектуальный “аппарат” автора.
Попробуем разобраться в этой логике и в этом “аппарате”.
Гнедич в своих письмах часто упрекает друга в лени. От неё, считает он, и физические болезни Батюшкова, и его душевное, творческое бессилие. Надобно трудиться, говорит батюшковский Штольц, и тогда всё само наладится. Но есть труд и труд; суетливым петербуржским дельцам и искателям славы – Батюшков противопоставит труд уединения и праздности. Рассеяние мысли – лучший способ уловить время; ощутить каждый момент жизни в его полноте и целостности, а стало быть, и познать себя в нём. Не важно, чем ты в данный момент занят, зеваешь, читаешь или обедаешь. Труд, которым заняты городские “дельцы”, отвлекает от себя, а значит бессмыслен.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?