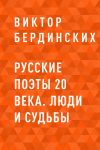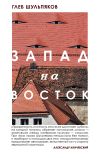Читать книгу "Батюшков не болен"

Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Между тем на рубежах Двины и Днепра сосредотачиваются крупные военные формирования; строятся укрепления; Александр понимает, что обратная сторона экономического развития России – война с Наполеоном; что она неизбежна; и что с падением Пруссии и Австрии у России не осталось союзников.
Отголоски всех этих событий мы замечаем у Батюшкова лишь косвенно. Прежде всего его поэтический слух режет фальшь патриотической риторики. После Тильзита она буквально захлёстывает Москву и Петербург. Человеку, рисковавшему ради отечества жизнью, “салонный патриотизм” отвратителен. “Но поверь мне, что эти патриоты, жаркие декламаторы, не любят или не умеют любить русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жертву отечеству… Да, дело не о том: Глинка называет «Вестник» свой Русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашёптывают: русское, русское, русское… а я потерял вовсе терпение!”
Отголоски этого раздражения иногда слышны и в “Прогулке по Москве”. Вслушиваясь в шум московского времени, Батюшков, как посторонний, сразу улавливает фальшь и ложь. Ему достаточно одной фразы, чтобы вскрыть примитивную механику “русского патриотизма”: “Здесь славная актриса Жорж принята была с восторгом, – пишет он, – и скоро наскучила большому свету. Сию холодность к дарованию издатель «Русского Вестника» готов приписать к патриотизму; он весьма грубо ошибается”. Обратная сторона “салонного патриотизма” и тогда, и всегда – это зависть к чужому успеху, немочь самому создать что-либо достойное и элементарная обывательская скука, которую одна лишь брань ещё способна развеять. Это всё то же “…уравнение сына Фебова с сыном откупщика или выблядком счастия”, о котором писал Батюшков.
“Батюшкова я нашёл больного, – говорит Гнедич, – кажется – от московского воздуха, заражённого чувствительностью, сырого от слёз, проливаемых авторами, и густого от их воздыханий”. Николай Иванович напишет эту фразу летом 1810 года, когда будет проездом в Москве по дороге на родную Полтавщину. В этой фразе слышны лукавство и ревность. По словам-маркёрам (“чувствительность”, “воздыханий”) мы безошибочно угадываем адресата гнедичевых уколов; человека, в “поле притяжения” которого к лету 1810 года безвозвратно попадает Батюшков. И этот адресат, эта “планета” – Карамзин; дом Вяземских, где он живёт, станет для Батюшкова местом, примирившим с Москвой. В особняке на Колымажном (и в Остафьево за городом) он войдёт в круг людей, которые составят его общение на всю последующую жизнь.
В Тверь, в Тверь, в Тверь
Вапреле 1810 года Жуковский опубликует в “Вестнике Европы” басню Батюшкова “Сон Могольца”. Он перепечатает это стихотворение из петербуржского “Драматического вестника” – вещь раннюю, Батюшковым не особенно жалуемую, которая даже в единственную его книгу попадёт против воли автора.
Но Жуковскому эта публикация важна, ведь он и сам перевёл эту басню Лафонтена, правда, чуть раньше. То, как схоже и розно звучит оригинал в переводах двух поэтов, хорошо говорит об их разности/близости.
Первая часть басни назидательна и рассказывает о странном сне, который увидел “моголец”. В этом сне придворный вельможа-визирь попадает после смерти в рай, а бродячий отшельник дервиш, наоборот, в ад. Почему? Мораль проста, визирь гнушался придворной жизни и часто искал уединения, за что и получил пропуск. А дервиш, наоборот, угодничал перед сильными мира сего. Дальше следует кода, которая стоит как бы отдельно от басни. Лафонтен признавался, что подсмотрел “коду” в “Георгиках” Вергилия. Речь идёт о чаемом идеале Античности – уединении на лоне природы. Вот финальные строки этой коды.
Жуковский:
Нить жизни для меня совьется не из злата;
Мой низок будет кров, постеля не богата;
Но меньше ль бедных сон и сладок и глубок?
И меньше ль он души невинной услажденье?
Ему преобращу мою пустыню в храм;
Придет ли час отбыть к неведомым брегам —
Мой век был тихий день, а смерть успокоенье.
Батюшков:
Пусть парка не прядет из злата жизнь мою
И я не буду спать под бархатным наметом.
Ужели через то я потеряю сон?
И меньше ль по трудах мне будет сладок он,
Зимой – близ огонька, в тени древесной – летом?
Без страха двери сам для парки отопру,
Беспечно век прожив, спокойно и умру.
Для Жуковского сон – портал в идеальный мир; то, что способно “пустыню” жизни преобразить в “храм”, где оживает душа. Батюшков в этом смысле гораздо “античнее”, и не только “паркой”, которой нет у Жуковского – а тем, что мыслит храм вполне материально: “Зимой – близ огонька, в тени древесной – летом…” Для Батюшкова храм и есть дом, где философ-отшельник-пиит сладко спит, беспечно бодрствует, живёт одним днём и не думает о смерти. Смерть у Жуковского – “успокоенье”; мир горний, альтернативный сущему. Для эпикурейца Батюшкова спокойно умереть может лишь тот, кто не боится смерти, а не боится тот, для кого загробного мира не существует. В переводе одной басни пересекаются как бы два мировоззрения. Батюшков применяет философию к реальности в точности по Эпикуру. Он деятельный преобразователь жизни. А Жуковский переносит стремление поэта (и читателя) в мир идеальный, романтический и мало связанный с обстоятельствами конкретной жизни. “Пока сей последний будет выходить к калитке навстречу к своей пастушке, – писал Вяземский, – первый станет рассуждать о платонической любви, и оба будут удивляться друг другом”.
Той же весной “определится” третий участник московской литературной компании: Пётр Вяземский. Начало лета 1810 года Батюшков и Жуковский проведут в его подмосковном Остафьеве – под одной крышей с Карамзиным. Литературные знакомства Батюшкова обретут, наконец, черты настоящего эпикурейского “дружества” – чьё тепло и нежность он сохранит до последних дней непомрачённого разума.
Однако сейчас в Москве зима и ничто не предвещает остафьевских радостей. С Жуковским он только знакомится, а Вяземского не знает. Карамзин лежит при смерти; в доме на Колымажном никого не принимают; Жуковский рвётся в полемику с шишковистами и тянет Батюшкова; Батюшков сомневается; он занят правкой своих и гнедичевых рукописей для “Цветника” и “Вестника Европы”; после “Видения на берегах Леты” полемики он не хочет, да и обстановка в доме у Муравьёвых теперь совершенно не боевая и не творческая.
С приездом родственников – семейства Муравьёвых-Апостолов – в доме на Малой Никитской всё преображается. Батюшкова неожиданно окружает “цветник” самый настоящий. Под одной крышей с ним теперь живёт жена Муравьёва-Апостола сербская красавица Анна Семёновна с дочерьми. Юницы выросли во Франции и плохо знают по-русски, и это придаёт им очарование. В Москве они, как и Батюшков, впервые, и Константин Николаевич становится их невольным гидом по древнему городу. Ещё немного, и он, может быть, влюбится.
“Голова у меня не на месте”, – признаётся он Гнедичу.
Но нет и нет: старшая Елизавета, которой увлечён Батюшков, отбывает в Петербург на собственную свадьбу. Видение меркнет, искра, не разгоревшись, гаснет. “Ты увидишь у Оленина И.М. Муравьёва дочь, – пишет он Гнедичу вдогонку прекрасной химере. – Какова?..а?..а?..а?”
Гнедич: “Она божественная, я ничего лучше не видел”.
(Строка в письме зачёркнута.)
“Я на первой неделе поста хочу ехать в Тверь, – переходит к делам Батюшков. – Но сперва отпиши, как взяться за Гагарина, как и что делать?”
Через Гагарина Батюшков мечтает получить место при посольстве и уехать из России. Пусть в стихах он эпикуреец – жизнь вынуждает заниматься карьерой. Схема, которую он выстроил в уме за месяцы хантановского “заточения”, настолько очевидна, что он почти не сомневается в успехе. Именно так продвигались по службе, так почему бы Батюшкову не воспользоваться случаем? “Еслиб я съездил туда с I-й песнею Тасса? – допытывается он у Гедича. – Еслиб великая княгиня приняла её милостиво? Еслиб она дала мне письмо к министру иностранных дел, с тем чтоб меня поместили на первое открывшееся место в иностранной коллегии?”
Если бы, если бы, если бы…
Торквато Тассо. Поэтический и житейский образ великого итальянца будет преследовать Константина Николаевича всю жизнь, а “несчастная судьба поэта” станет чем-то вроде отрицательного эталона. Ни эпикурейство Батюшкова, ни его увлечение жизнелюбивым, “позитивным”, светлым Ариосто – не спасут от заклятия трагической судьбы Торквато. Живущий в Батюшкове чёрный человек всё чаще видит в ней мрачные предзнаменования судьбе собственной.
Литературоведы до сих пор скорбят о том, что Константин Николаевич не одарил нас – подобно Гнедичу “Илиадой” – переводом “Освобождённого Иерусалима”. О том, что уже в 1804 году 17-летний Батюшков увлечённо читает эпопею, по крайней мере в прозаическом переводе Михаила Попова, можно судить по упомянутому уже стихотворению “Бог”, в котором откликаются некоторые образы и даже строки из Торквато Тассо.
О Тассо Батюшков знал, надо полагать, ещё от Муравьёва. Возможно, подталкивает Батюшкова к Тассо и поэт Вольного общества Николай Остолопов, в чьём журнале юный Батюшков когда-то печатался. В 1808 году Остолопов выпускает “Тассовы ночи” – перевод с итальянского книги Компаньони Джузеппе “Le veglie del Tasso”. Книга, изданная в Париже в 1800 году, – блестящая мистификация в духе предромантического времени. Текст представляет собой якобы случайно обнаруженные рукописи Торквато Тассо. Перед читателем бесконечный внутренний монолог сходящего с ума поэта. Мистификация успешная, ведь именно такого рода публикации упрочивали и распространяли легенду о великом итальянском гении, безвинно пострадавшем от завистников и тиранов за свой талант и возвышенные чувства к женщине.
Гнедич подбадривает друга взяться за большую работу, ведь элегии и сатиры, которые пишет Константин Николаевич, не достойны серьёзного стихотворца. Из военного похода в Пруссию Батюшков, действительно, пришлёт Гнедичу послание “К Тассу” и перевод первой главы “Освобождённого Иерусалима”. Обе вещи будут напечатаны в одном номере “Драматического вестника” 1808 года, а перевод ещё и с пометкой о продолжении, что означает: к 1807-му Батюшков вроде бы сделал выбор большой формы. Стихотворение “К Тассу” будет первое в истории русской поэзии послание к великому итальянцу. Как и многое у раннего Батюшкова, оно написано “поверх” французских оригиналов. В вольном батюшковском переводе “протеистично” переплетены стихи Лагарпа и Мирабо, а также русские переводы из Тассо – Попова, и античные аллюзии самого Тассо, например на Вергилия. С этой публикации начинается батюшковская “тассиана”. Но – к неудовольствию Гнедича – Батюшков реализует её не в переводе “Иерусалима”. А в нескольких произведениях малой формы. Уже к 1810 году поэт чувствует, что, во-первых, не способен к многолетнему кабинетному переводческому труду, и что если его муза и подобна торкватовой, то не в эпичности замысла. У Тассо, по точному замечанию Шатобриана, многое переплетено, но ничего не спутано. Так же, просто на короткой дистанции, скользит от предмета – к эмоции – цитате – мысли – и обратно – батюшковская муза. Он чувствует свои возможности и всё больше сомневается в увещеваниях Гнедича. Во-вторых, чем глубже он погружается в итальянский язык Тассо, тем очевиднее, что на русском языке передать его гармонию даже отдалённо невозможно. А в-третьих, Батюшков не берётся за Тассо из суеверия, ведь многие его предшественники – переводчики – подобно самому Тассо – не увидели собственной славы. Он опасается (и не зря!) – этого “заклятия”.
Но карьера? “Освобождённый Иерусалим” Батюшкова пришёлся бы ко “тверскому двору” Екатерины Павловны. Созвучие времени было очевидным. Как Святая Земля изнемогала под гнётом магометан – так Европа лежала под пятой Наполеона и ждала освободителя. Одного слова великой княгини было бы достаточно, чтобы Батюшков получил должность.
“Подобраться” к великой княгине он рассчитывал через князя Ивана Алексеевича Гагарина, большого театрала, занимавшего при тверском дворе должность шталмейстера (конюшего). С рекомендательным письмом к Гагарину, а лучше с дружеской запиской – Батюшков мог бы добиться аудиенции, тогда-то и можно преподнести княгине перевод нескольких песен из “Освобождённого Иерусалима” Тасса (а заодно “озвучить” желание послужить за границей). Но как “выйти” на князя? Не ехать же в Тверь с пустыми руками?
Великокняжеский дворец в Твери в то недолгое предвоенное время станет настоящим литературным и политическим центром. Особым покровительством Екатерины Павловны будут пользоваться те, кто занимает антифранцузскую позицию. На волне пост-тильзитского патриотизма таких людей в высшем обществе всё больше. Екатерина Павловна – человек живого и независимого ума и деятельного характера. Её одержимость теми или иными идеями не всегда можно объяснить логически. Возможно, неприязнь княгини к Франции есть форма сублимации личной неприязни к Наполеону, женой которого её чуть не сделали (“я скорее выйду замуж за последнего русского истопника, – негодовала она, – чем за этого корсиканца”). Её влияние на брата-императора огромно, но только в глазах самой Екатерины Павловны. Она и её окружение поддерживают в русском обществе антифранцузские настроения. Выражаются они в отторжении либеральных влияний – и поддержке идей национального самосознания, главная из которых – идея самодержавия, аргументированная Карамзиным в “Записке о древней и новой России”. Записка, составленная по заказу Екатерины Павловны, в марте 1811 года прочитана императором. Карамзин утверждает в ней самодержавие как единственную форму правления в империи, и это утверждение, возможно, становится ещё одним аргументом в пользу перемены мыслей императора. Вся мощь государственной машины направляется теперь не на развитие экономических и политических свобод, а на сохранение существующего порядка вещей – и победу над Наполеоном.
Как было “выйти” на Гагарина? Оказывается, нет ничего проще. Снова Гнедич. Лучший друг даёт в Петербурге уроки декламации любовнице Гагарина – звезде русской сцены Екатерине Семёновой. Гнедич и сам уже использовал этот “канал” – хлопотал через Гагарина перед княгиней, чтобы получить пенсию на перевод “Илиады”. Батюшков знает об этом и хочет проделать то же. “Если ты, если Семёнова, тобою настроенная, отпишут князю Гагарину, – инструктирует он друга, – если он это возьмёт на сердце, то я думаю, что тут ничего мудрёного нет”. И дальше: “…пусть она с жаром растрогает его самолюбие, и ни слова о моем проекте, а скажи, что я хочу поднесть стихи и проч.”.
Батюшковское воображение живо рисует чаемые картины (“…пусть она с жаром растрогает его самолюбие”). Мечта снова летит впереди поэта. Но Гнедич не мечтатель, а прагматик, и никуда не торопится. Возможно, он осторожничает, ведь на кону его собственный проект, а возможно, просто не успевает в суете с почтой. Дни бегут, а письма нет. Разгорячённый мечтами, Батюшков ждёт немедленного отклика и всё более раздражается его отсутствием. Будущее отказывается обретать черты реальности. И в Москве, и в Петербурге жизнь идёт своим ходом, и нет ей никакого дела до батюшковских прожектов. Хочешь рассмешить Бога, словно говорит она, – расскажи ему о своих планах.
Не дождавшись письма от Гнедича, Батюшков пишет Оленину. Он хочет найти поддержку в доме на Фонтанке, тем более, что и встречаются они – Гагарин и Семёнова – именно в этом салоне. Но Оленин, погружённый в дела, молчит тоже; Батюшкову всё больше кажется, что судьба к нему немилостива, а друзьям он безразличен. “Или хочешь, – мрачно шутит он с Гнедичем, – чтоб я весь заржавел в ничтожности, или – что ещё хуже того – женился в мои лета и изчез для мира, для людей за вафлями, за котлетами и сахарной водой, которую женатые пьют от икоты после обеда”.
Нет ответа.
Когда письмо от Гнедича, наконец, приходит – письмо ободряющее, с наставлением ехать в Тверь на первой неделе поста прямиком к Гагарину, который уже предуведомлён и ждёт – Батюшков “перегорел”. Неуверенность в успехе, деловом и литературном, письмо Гнедича лишь усиливает. Батюшков видит только то, что хочет видеть его болезненно расстроенное самолюбие. Гнедич со своими новостями невольно становится его мучителем. Бурсацкая прямота Гнедича буквально “добивает” Константина Николаевича. То, чем Гнедич хочет обрадовать друга, его литературные победы, – на самом деле еще больше уничтожает его. “Наконец славенофилы прочли Лету, – как ни в чём не бывало сообщает Гнедич, – и кто бы ты думал более всех взбешён? Державин”.
Подобным мелочам, о которых другой забудет, мнительный Батюшков придаёт преувеличенное значение. Художественное воображение – оружие обоюдоострое; и плохое, и хорошее оно рисует с одинаково усиленной яркостью. Настроить против себя тех, кого любишь и ценишь, вызвать неприятие и злость со стороны литературных авторитетов, да и вообще с чьей-либо стороны – для миролюбивого, незлого, дружелюбного Батюшкова мучительно, тем более что в его вещи “нет личности”. И он замыкается в себе. “Я, любезный Николай, решился оставить всё, – нарочито небрежным тоном пишет он, – дотяну век в безвестности и, убитый духом и обстоятельствами, со слезами на глазах, которые никто, кроме тебя, чувствовать не может, – скроюсь, если можно, на веки от этих всех вздоров. Заложу часть имения и поеду в чужие краи. Не думай, чтоб это были пустые слова”.
Батюшков в таком унынии, что хочет вообще покончить с литературой. “Я тебе пришлю, – пишет он Гнедичу, – все мои сочинения, которые собрал и переписал для напечатания”.
“Но теперь это, может быть, и на век оставлено”, – добавляет он.
Через одиннадцать лет Батюшков напишет издателям “Сына отечества” письмо, в котором снова объявит “городу и миру” о своём уходе из литературы (“ибо я совершенно и, вероятно, навсегда покинул перо автора”) – и в тот, второй раз, сдержит слово. Судьба поэта всегда дело рифмы, пусть и не всегда точной.
Дело Бибриса
Первые месяцы 1810 года, когда Батюшков только обживает Москву, – омрачены несколькими смертями. Знакомство с Карамзиным, жившим буквально в десяти минутах от Муравьёвых, всё никак не складывается – писатель слёг после кончины княжны Екатерины Щербатовой – родной сестры Петра Вяземского, скончавшейся в доме на Колымажном. Она была на два года младше Батюшкова и без малого год замужем. У неё, беременной, накануне Нового года разболелся зуб; воспаление перешло в горячку; 3 января княжны не стало. Её родной брат, юный Пётр Вяземский, – в разъездах по службе и не присутствует на похоронах. “Сей внезапный удар, – вспоминает Карамзин, – поколебал мои нервы. Я занемог почти в ту самую минуту, как сестра наша испустила дух”.
В марте беда приходит и на Малую Никитскую. Анна Семёновна Муравьёва-Апостол, чьи француженки-дочки только-только вскружили голову Батюшкову, – то ли на свадьбе старшей Лизы, то ли по дороге обратно из Петербурга – простужается и скоропостижно умирает. В доме Муравьёвых воцаряется мрачное отчаяние. Доктора ещё продолжают выписывать лекарства – а человека уже нет, и это особенно болезненно поражает Батюшкова (смерть, которая опережает “опыт жизни”). “У нас на дворе есть маленький флигель, – пишет он Гнедичу, – где Анна Семёновна располагалась прожить всю зиму с семейством своим. Раз пригласила меня туда. Она хотела осмотреть комнаты и в одной из них, наклонясь на стол, в самом весёлом расположении духа говорила: «Здесь-то я буду счастлива в кругу своего семейства, когда устрою дела мои, когда отдохну от забот»”. “И впрямь, – добавляет он, – я её вчера видел в этой комнате, на этом самом столе”.
Картина буквально повторяет державинское “На смерть князя Мещерского” (которое Батюшков цитирует). Уход Муравьёвой-Апостол безжалостно воплощает державинскую мысль: смерть одинаково неизбежна, мрачна и внезапна и для знатного вельможи, и для обычного человека. Она великий уравнитель. Можно добавить, что в обществе, где всё держится на иерархии, смерть – единственный демократ. “Я побывал в местах, – говорит Вольтеров Микромегас, – где обитатели в тысячу раз долговечнее нас, но они ропщут так же, как и мы”. “Наше существование не более чем точка, наш век – мгновение, наша планета – атом”, – заключает он.
Русские писатели знали этот рассказ в переводе Сумарокова.
Неправда, что отношение к смерти в то время было каким-то особым: карнавально-насмешливым или стоически-философским. Оно было таким только в литературе, и то лишь как пародия на болезненное любопытство к смерти писателей-сентименталистов (“Видение на берегах Леты” Батюшкова было именно такой “пародией”). Но в реальности и тогда, и всегда – смерть это катастрофа, и никакая философия, никакая литература или статистика, или пародия неспособны примирить с ней сознание человека. Особенно сознание утончённое, поэтическое. Старуха с косой, которую Батюшков, уже в болезненном рассудке, возведёт в статус Святого Косаря (“и кесарь мой святой косарь”) – с одинаковым равнодушием собирает урожай в любое время. Меняются только формы оброка. Неправда, что в те годы общая смертность была как-то особенно выше – просто сама смерть забирала внезапнее и не разбирала возраста. Болезни и катастрофы, и современные эпидемии вряд ли отнимают у нас много меньше, просто долгосрочное лечение и молниеносное распространение информации скрадывают эффект. А во времена Батюшкова, повторимся, лекари продолжали выписывать рецепты, не подозревая, что пациента уже нет на свете.
В письме Гнедичу Батюшков не только скорбит об участи человека – ему невыносимо сознание, что отец семейства Иван Матвеевич в разъездах и ещё не знает, что стал вдовцом. Смерть снова опережает “опыт жизни”. Невыносимо представлять, каково будет человеку, когда счастливый, ничего, подобно Агамемнону, не подозревающий, он войдёт в дом с распахнутыми объятиями. Батюшков живёт этим переживанием. Эмпатия, которую испытывает человек того времени, глубже и длительней нашей.
Век информации лишил человека этой уникальной способности.
“Cкажу тебе откровенно, – Батюшков неожиданно меняет тему, – что я далёк от любви к 15-летней девушке, которая меня не знает, которую я не знаю, которой ни модное воспитание (хотя истинно скромное), ни характер, ни положение мне не соответствуют”. Речь идёт о средней дочери покойной, которая остаётся в доме на Малой Никитской, – Екатерине. На момент смерти матери ей как раз исполнилось пятнадцать, и Гнедич, надо полагать, спрашивал друга о том, что чувствует его сердце.
Ничего не чувствует.
Ни “очарования кокетки”, ни чего-то “божественного” – что было бы способно, по собственному признанию, вскружить Батюшкову голову – в этой девочке он не видит. “Впрочем, – приписывает он, – я себя считаю достойным руки не только девушки в шестнадцать лет, но даже наследной принцессы всего Марокканского царства”.
В это время, начало весны, Батюшков, должно быть, всё чаще думает о женитьбе; во всяком случае, в письме к сестре Александре он открыто признаётся, что одиночество ему наскучило. Однако с его финансами создавать семью опрометчиво, если не бесчестно. “Не решусь даже из эгоизма, – пишет он, – себя и жену сделать несчастливыми”. По письму (май) видно, как и на что существовал в Москве Батюшков. Он просит Александру прислать деньги для уплаты процентов в ломбард, ибо “срок уже пришел” – то есть живёт, по-нашему, на микрозаймы; он торопит её поскорее продать пуcтошь (1500 рублей) – чтобы прожить ещё полгода. Дальше этого времени он не загадывает. Не имея возможности самому решить своё будущее, он полагается на Провидение, “которое – я заметил это на опыте – часто лучше нас самих к лучшему избирает дорогу”.
Буквально с разницей в несколько дней с Муравьёвой в Санкт-Петербурге умирает Семён Сергеевич Бобров, и это событие образует интригу, которая составит литературную жизнь Батюшкова и его новых друзей (Вяземского и Жуковского) на ближайшее время.
Как уже было сказано, в доме Екатерины Фёдоровны Батюшков занят разбором архива покойного дяди Михаила Никитича, который (архив) перекочевал вместе с семейством осиротевших Муравьёвых в Москву. Батюшков и раньше, по смерти дяди, обещал себе составить книгу его избранных сочинений, и теперь он с Жуковским занят исследованием, отбором, а кое-где и редактурой текстов. Работает над переизданием муравьёвских очерков и Карамзин. Первым “воскресит” Муравьёва именно он. А Батюшкову попадается в дядиных бумагах любопытное литературное посвящение. Оно подписано Бобровым (1805) и адресовано Муравьёву.
Это посвящение послужит поводом к литературной “спецоперации”, которую молодые поэты проведут против Боброва и ревнителей старого слога. Несколько недобрых эпиграмм, Батюшкова и Вяземского, опубликованных одна за другой в номерах “Вестника Европы”, будут своего рода приношением на свежую могилу Боброва. У подобной жестокости будет оправдание.
Семён Бобров. Семён Сергеевич Бобров годился Батюшкову в отцы и умирал от чахотки в чрезвычайной бедности. В последние годы он много пил, за что получил в батюшковском “Видении” прозвище “Бибрис” (от латинского bibere, пить). А затем его подхватили остальные карамзинисты, и даже Пушкин. Прозвище восходило к латинскому Biberius Mero – так римляне переиначили имя полководца Тиберия Нерона (Tiberius Nero) за его склонность к вину (mero). Словосочетание встречается в сочинениях самого Боброва – Батюшкову оставалось лишь взять его.
Семён Сергеевич происходил из семьи ярославского священника и с детства рос на библейских картинах церковной службы. Он учился в Московском университете в “масонскую” эпоху 1780-х годов, был близок к кружку Новикова и как переводчик с английского участвовал в его просветительских проектах. Знакомство с английской поэзией во многом сформировало образ поэтических мыслей Семёна Сергеевича. Первые “пиесы” на тему тщеты и тлена всего мирского он пишет под влиянием кладбищенских стихов Эдварда Юнга. Язык же его восходит к Ломоносову. Но если Ломоносов описывает природные явления как учёный, то Бобров рассматривает Натуру как сцену, где сходятся в битве силы Добра и Зла. Подобно Ломоносову или Блейку, он смело олицетворяет и неожиданно сравнивает; сталкивает миры и высекает из галактик громы. Воображение поэта занято исключительно крупными явлениями природы, желательно библейского или даже космического масштаба. Оно проникает в горы к рудам и под облака к громам. Бобров мрачно приветствует новый век, вступающий в права через цареубийство. Его эсхатологизм часто порождает удивительные, яркие образы (“Падут миры с осей великих, / Шары с своих стряхнутся мест”). Обращённая к поэтике Ломоносова, но лишённая стройной ломоносовской учёности и точности – муза Боброва, по мнению карамзинистов, порождает лишь тысячестрочных поэтических “големов”. Написанные белым стихом, подобные “опусы” вызывают иронию у поэтов этого направления. То, что в некоторых из них “зреет” романтизм, “предугадан” Бенедиктов и даже символисты – мы видим только с высоты нашего времени.
Высмеять Боброва Батюшков собирался ещё летом 1809 года. “На будущей почте, – пишет он Гнедичу, – я пришлю тебе несколько похвальных слов, а именно вот каких: поэт Сидор, что написал Потоп, а рыбы на кустах, ну, уж гений”. Сидор – это, конечно, сам Семён Бобров, а “Потоп” – его поэма “Судьба древнего мира, или Всемирный потоп”. Строчка “Тогда тьмы рыб в древах висели…” развеселила Батюшкова. А гением Боброва за его громокипящую невнятицу называли ещё при жизни. Одержимость без ясности, многоречивость без точности, отсутствие рифм – высмеивали карамзинисты Жуковский, Батюшков, Вяземский, а позже Пушкин. К тому же Бобров не скрывал симпатии к Шишкову и архаистам (хотя и умер до основания “Беседы”). Его склонность к апокалиптическим картинам молодые поэты объясняли уже упомянутым пристрастием к алкоголю[25]25
Бобров вполне сознавал свою слабость, но отвечал на упрёки не без остроумия:
В вине вся истина живее,Пословица твердит давно,Чтоб чарка нам была милее,Бог истину вложил в вино;Сему закону покоряюсь;И я за питуха сочтен;Все мнят, что я вином пленяюсь;Но нет – я истиной пленен.
[Закрыть]. Тот же упрёк предъявлялся, кстати, и поклоннику Бахуса Ломоносову. По смерти Боброва журнал “Друг юношества” напечатает огромную статью Максима Невзорова, утверждавшего статус гения за новопреставленным. Откликнется Невзоров и на анонимные эпиграммы “Вестника Европы”. “Сочинитель сих Эпиграмм, – пишет Невзоров, – истощает остроту разума своего на счёт покойника, которого он видно не знал ни лично, ни сочинений его порядочно не читал; ибо читавши все сочинения Г. Боброва с некоторым только вниманием, и имевши общий смысл, не возможно об нем так отзываться”.
Речь идёт о двух эпиграммах за подписью “…В…” в июньской книжке “Вестника Европы”. Обе они принадлежат перу Вяземского:
БЫЛЬ В ПРЕИСПОДНЕЙ
– Кто там стучится в дверь? —
Воскликнул Сатана. – Мне недосуг теперь!
Се я, певец ночей, шахматно-пегий гений,
Бибрис! Меня занес к вам в полночь ветр осенний,
Погреться дайте мне, слезит дождь в уши мне!
– Что врешь ты за сумбур? Кто ты? Тебя не знают!
– Ага! Здесь, видно, так, как и на той стране, —
Покойник говорит, – меня не понимают!
К ПОРТРЕТУ БИБРИСА
Нет спора, что Бибрис богов языком пел.
Из смертных бо никто его не разумел.
Пётр Андреевич был самым младшим в поэтической группе “Жуковский – Батюшков – Вяземский”; в отличие от старших товарищей, он исповедовал карамзинизм со всей “ажитацией” молодости, тем более что и жил с Карамзиным под одной крышей. “С водворением Карамзина в наше семейство, – вспоминал Вяземский, – письменные наклонности мои долго не пользовались поощрением его. Я был между двух огней: отец хотел видеть во мне математика, Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца. Он часто пугал меня этой участью. Берегись, говаривал он: нет ничего жальче и смешнее худого писачки и рифмоплёта”.
Отец Вяземского умер, когда мальчику исполнилось пятнадцать, а мать ещё раньше; направлять подростка “в математике” стало некому, и тот “поплыл по воле волн”, то есть погрузился в то, к чему лежало сердце: в литературу. Надо полагать, отговоры и предупреждения Карамзина были всего лишь искусственной преградой для проверки творческой воли начинающего автора. Своего зятя Вяземский боготворил и был готов защищать без всякого снисхождения, и две эпиграммы в “Вестнике Европы” были тому доказательством. А эпиграмма Батюшкова вышла номером раньше, это была перепечатка из осеннего выпуска “Цветника” за 1809 год:
Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться.
Таким образом, по усопшему Боброву был нанесён двойной удар, и этот удар не мог быть не замечен, что подтверждает статья Невзорова. Но почему? И за что? Ведь в том же номере “Вестника Европы” был опубликован некролог с призывом материально помочь бедствующей семье усопшего поэта? Ответ мы отыщем в том самом бобровском посвящении Муравьёву, обнаруженному Батюшковым в бумагах покойного дядюшки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!