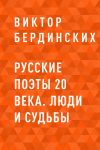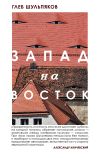Читать книгу "Батюшков не болен"

Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Под знаменем любви
Через несколько дней после Гейльсберга Наполеон разгромит русскую армию под Фридландом, а меньше чем через месяц заключит мир. Подписание состоится в Тильзите, ныне это город Советск в Калининградской области. Тогда же по церквям России полетит распоряжение Бонапарта более не анафемствовать, ибо “их величества императоры на Немане обнимались и обменялись орденами”.
Русскому народу предлагалось самостоятельно объяснять чудесное превращение Антихриста. Ответ нашёлся сам собой и был по-народному простодушен. “Когда узнали в России о свидании императоров, – вспоминал Вяземский, – зашла о том речь у двух мужичков. «Как же это, – говорит один, – наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем? Ведь это страшный грех!» – «Да, как же ты, братец, – отвечает другой, – не разумеешь и не смекаешь дела? Наш батюшка именно с тем и велел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уж допустить его пред свои светлые царские очи»”.
В своей “Старой записной книге” Вяземский называет наши войны с Наполеоном “несчастными”. Действительно, ни ловких демаршей, какими прославился Суворов, ни прямых экономических выгод они не принесли. Цена, которую Александр заплатил за сохранение Пруссии как государства – была та же: Россия примыкала к санкционной войне с Англией. С момента подписания договора все её порты закрывались для торговых судов этой державы.
Большая часть российской знати не приветствовала союз с Францией. Если кого и стоило брать в союзники, считали они, так это Англию, чья экономика, промышленность, судопроизводство и банковское дело значительно опережали Европу. Именно Англия обеспечивала русской элите богатейшую культуру повседневности, то есть “Все, чем для прихоти обильной / Торгует Лондон щепетильный / И по Балтическим волнам / За лес и сало возит нам…” От “прихоти обильной” никто не собирался отказываться. Без торговых сверхприбылей, считали русские олигархи, Россия скатывается в допетровскую азиатчину. А “старорусские патриоты” вроде графа Румянцева вообще не могли взять в толк, зачем Россия вмешивается в дела Европы. Мечты императора о всеобщем братстве (и “безрассудная страсть” к прусской королеве Луизе) – дорого обходятся стране, считали они.
Для российской экономики мир с Францией предвещал кризис. Но и война влекла кризис тоже. Содержание огромной армии вдалеке от дома разоряло казну, рубль обесценивался. Мир был выбором из двух зол с тем преимуществом, что мир позволял сохранить лицо, выгадать время и восстановить армию. В том, что главная битва с Наполеоном впереди, мало кто сомневался.
После Тильзита русское общество предсказуемо “заболело” франкофобией. Она была тем нелепее, что высший свет говорил на французском, одевался во французское, французское читал, слушал, играл, пел и ел. И тогда (и всегда) страна назначала главным врагом того, от кого больше всего зависела. Но что своё могла противопоставить Франции Россия? Кроме того, о чём писал “Русский Вестник” Глинки? Если даже историю России Карамзину только предстояло написать?
Не шишковский же “кафтан” вместо “сюртука”?
Не тюрю вместо профитролей?
Павла I убили в схожей ситуации, однако французские дипломаты уверяли Наполеона, что опасаться дворцового переворота в России не стоит. Великий князь Константин, который взошёл бы на престол вместо Александра, устраивал российских “олигархов” ещё меньше, а младшие братья императора были тогда детьми.
Наполеону оставалось принудить к блокаде Швецию. Среди “бонусов”, которые Россия получала по “тильзитскому сговору”, было согласие Франции на аннексию русскими шведской провинции – Финляндии, через которую можно было бы угрожать Швеции.
Это будет вторая война, на которую отправится Батюшков.
Правда, сейчас, когда Европа в очередной раз переворачивается с головы на ноги, Батюшков с трудом переворачивается с боку на бок. Июль месяц, Рига[16]16
Какой была в то время Рига, коротко, но ёмко сказано у Карамзина в “Письмах русского путешественника”: “Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город, – много лавок, много народа – река покрыта кораблями и судами разных наций – биржа полна. Везде слышишь немецкий язык – где-где русский, – и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки – но много каменного строения, и есть хорошие домы”.
[Закрыть]. Маленький офицер расквартирован в доме купца Мюгеля. Никаких сведений об этом купце нет, всё, чем мы располагаем, – письмо самого Батюшкова (с автопортретом на костылях, которые потом переместились в Даниловское) – и стихи, в общих словах отсылавшие к романтической истории. Всё, что мы знаем, очевидно, как союз Эроса и Танатоса – в Риге чудом избежавший гибели Батюшков влюбился. Смерть и любовь поменялись в его судьбе стремительно – словно батальные сцены с эротическими в “Освобождённом Иерусалиме” Торквато Тассо.
В “Послании графу В<елеурско>му” (1809) – с которым Батюшков проводил время в Риге – поэт скажет прямо: “Когда, отвоевав под знаменем Беллоны, / Под знаменем Любви я начал воевать”. Почему же любовная история Константина Николаевича не имела продолжения? И он не женился, не взял дочку купца в Россию? В подобном поступке не было бы ничего особенного. Добрый пушкинский знакомец Павел Вульф привёз из военного похода гамбургскую немку; Афанасий Шеншин увёл у немецкого адвоката жену, мать будущего поэта Фета. Браки с инославцами были разрешены Синодом, и Батюшков мог поступить так же, тем более что Рига была частью Российской империи. Так почему он не сделал шаг, который в юности делается с лёгкостью? Особенно если ты побывал на краю гибели и чувствуешь, что влюблён взаимно? Для немецкого купца Батюшков был представителем знати. Он мечтал бы выдать дочку в Петербург. Однако Батюшков не сделал предложения. В его “Воспоминании” даже сквозь литературные штампы видно, что романтические отношения между молодыми людьми наметились (“Соединив уста с устами, / Всю чашу радости мы выпили до дна…”, или “Куда девалися восторги, лобызанья / И вы, таинственны во тьме ночной свиданья, / Где, заключа ее в объятиях моих, / Я не завидовал судьбе богов самих!..”). Видно, Эмилия Мюгель влюбилась тоже. Подле раненого офицера она, как Наташа Ростова, увидела мир другими глазами. Наверное, она была бы не против уехать. Но что мог предложить Батюшков, кроме объятий в ночном саду? Ни дома, ни настоящей службы в Петербурге у него не было, а приехать в Даниловское с наложницей он не хотел, да она и не согласилась бы. Батюшков жил на то, что ему присылали с оброка родственники. Он знал, с каким трудом даются деньги. К тому же сёстрам Варваре и Александре нужно было выходить замуж. Содержать ещё и свою семью Батюшкову было просто не на что. Он был честен с собой и не стал втягивать девушку в авантюру.
Когда Батюшков уезжал, семейство Мюгелей рыдало. Они успели привыкнуть к маленькому солдату. Возможно, он обещал вернуться, когда положение его перестанет быть шатким; возможно, девушка с веснушками ждала его – писем не сохранилось. В России на Батюшкова обрушилось столько забот, что он, скорее всего, просто перестал думать об этой истории. Точнее, перевел её из реальной области в поэтическую. Наверное, какое-то время он чувствовал вину и раскаивался. В стихах это сожаление будет слышно.
<…>
Куда девалися восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа ее в объятиях моих,
Я не завидовал судьбе богов самих!..
Теперь я, с нею разлученный,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу;
Воспоминания, лишь вами окрыленный,
К ней мыслию лечу,
И в час полуночи туманной,
Мечтой очарованный,
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмилии дыханье;
Я вижу в облаках
Ее, текущую воздушною стезею…
Раскинуты власы красавицы волною
В небесной синеве,
Венок из белых роз блистает на главе,
И перси дышат под покровом…
“Души моей супруг! —
Мне шепчет горний дух. —
Там в тереме готовом
За светлою Двиной
Увижуся с тобой!..
Теперь прости…” И я, обманутый мечтой,
В восторге сладостном к ней руки простираю,
Касаюсь риз ее… и тень лишь обнимаю!
Возвращение
Усадьба и сельцо Хантаново лежат в 30 верстах от Череповца, если ехать в сторону Пошехонья и Вологды по левому берегу Шексны. С главной дороги нужно свернуть на просёлочную, переехать по полуразрушенному бетонному мосту ручей-речку Мяксу, где когда-то “бабы подолами щук ловили”, и подняться на длинный и пологий гребень холма, обрамляющего левый берег.
Усадьба и парк находились на этом гребне.
До Шексны отсюда было 6 вёрст, и можно вообразить, как отчётливо её серебряная жила просматривалась из окон усадьбы. В советское время пойменные земли ушли под затопление, и та часть Шексны, которую видел Батюшков, растворилась в Рыбинском водохранилище. Теперь с пустого холма открывается вид на огромное водяное зеркало.
Главный дом стоял на самой высокой точке гребня, а внизу тянулся бескрайний, уходящий за горизонт лес, за которым пряталась Вологда. Когда-то Шексна называлась Шехонь, а земли вдоль её берегов – Пошехонье (по реке Шехони). Современному человеку топоним этот знаком по “пошехонскому сыру”, советскому “деликатесу”, который производился в городе Пошехонье – и сборнику рассказов Щедрина “Пошехонская старина”.
Байки про то, как пошехонцы с колокольни на Москву смотрели или варили похлёбку из камня – как вырывали у Фалалейки зуб, “что не всякий согласится” – во времена Батюшкова собрал Василий Березайский. Книга называлась “Анекдоты, или Весёлые похождения старинных пошехонцев”. Салтыков-Щедрин развил тему так, что Пошехонье навсегда стало символом нелепой, неугомонной, не лишённой обаяния провинциальной бестолковости.
Батюшковы были пошехонскими помещиками.
От главного дома вниз по трём искусственным уступам спускались к прудам дорожки. Но если прогулка на пруды была приятной и лёгкой, то подъём к дому требовал физических усилий. Пройдя от прудов (они сохранились) вверх на холм, можно ощутить усталость, какую испытывал Батюшков, когда возвращался после купания. Для отдыха соорудили беседку. В окружении цветников, с панорамным видом на долину реки, она станет излюбленным местом поэта. Здесь он будет буквально по словам песни: “Fool on the hill”[17]17
“Чудак на холме” (англ.). Песня группы “The Beatles”.
[Закрыть]. А комаров, которые могли бы спугнуть вдохновение, на холме сдувало.
Когда сёстры Батюшкова Александра и Варвара переселились из Даниловского в пошехонское Хантаново, заброшенный дом находился в бедственном состоянии. Он требовал даже не капитального ремонта, а полной реконструкции. Первые годы пройдут на фоне бесконечной стройки. Участие в ней поэт Батюшков принимает заочно – в письмах. Однако сестры Александра (двадцати двух лет) и Варвара (пятнадцати) самоотверженно справляются с задачей.
Новый одноэтажный дом будет иметь два крыльца, переднее и заднее, один, отдельно стоящий флигель (для брата Константина) – и семь “покоев”. Его обошьют тёсом в “ёлочку” и покрасят синей краской. Семнадцатью окнами в резных наличниках дом будет смотреть на свет. Для отопления устраиваются пять кирпичных печей, а две печи будут кухонными, людская и господская: с котлом и чугунной плитой.
Поднявшись на пустой холм сегодня, можно вообразить не только дом, но и крестьянские избы. Здесь жили те, кто обслуживал барское хозяйство. Избы назывались чёрным двором, а господский дом и парк – белым. На макушке холма начиналась липовая аллея, защищавшая дом от ветра. Она виднелась ещё на подъезде к Хантанову – до 1941 года, когда липы были спилены. А по сторонам расходился сад с акациями, сиренью, орешниками и белыми розами. Вообще, цветов было высажено в усадьбе очень много, женская рука в парковой эстетике прекрасно чувствовалась. Уже при советской власти, когда усадьбу и сад уничтожат, а землю под ними распашут, старожилы будут долго помнить цветочное батюшковское изобилие.
В усадьбе имелись: овчарная изба и при ней хлев с погребом, скотный двор и скотная изба, омшаник (где доили коров и хранили молоко), каретник и при нём три хлева, три овина, где снопы сушили, и гуменник (где хлеб молотили), сарай для мелкой скотины и птицы, хлебный амбар, где хранились рожь, овёс, ячмень и семенной клевер, и две ветряные мельницы, крытые соломой. Такие мельницы назывались “толчея”. Представить подобное хозяйство можно по картинам Венецианова, жившего примерно в то же время по соседству с Батюшковыми в Тверской губернии.
Количество дойных коров у сестёр Батюшковых доходило до 20, а лошадей было четыре, не считая жеребцов: два мерина и две кобылы. Дворовых людей, живших на чёрном дворе, в разное время насчитывалось не больше 10 человек, всего же крепостных душ за владелицами Хантанова – не больше 60–70. После смерти сестры поэта Александры, которая сойдёт с ума и проживёт на руках у дворни больше десяти лет, хантановское хозяйство оценят в 5900 рублей[18]18
Подробнее см.: Лазарчук Р. К.Н. Батюшов и Вологодский край: из архивных изысканий. Череповец: Порт-апрель, 2007.
[Закрыть].
Из Даниловского в Хантаново две незамужние сестры переберутся не по доброй воле. Когда Батюшков вернётся из Риги, когда его костыли встанут, наконец, под крышей родного дома – он обнаружит в доме ссору.
Причиной расстройства окажется глава семейства Николай Львович, неожиданно женившийся вторым браком. Женой 52-летнего Батюшкова станет дочь соседа-помещика Теглева – Авдотья Никитична. Об этом семействе мало что известно. Первый биограф Батюшкова – Л.Н. Майков – пишет со слов Помпея Батюшкова, что мать его относится к “старинным дворянским родам Вологодского края”. Как правило, такие роды вносились в шестую часть Дворянской родословной книги. Однако родной брат Авдотьи Никитичны, например, числится в первой части. Это означает, что предки Теглевых стали дворянами не ранее XVIII века. Для сравнения род Батюшковых (и Бердяевых по матери) числился во дворянстве со времён Ивана Грозного.
С переездом Теглевой под крышу Даниловского в усадьбе всё переменилось. Много младше мужа, она с усердием взялась за дело. Молодая хозяйка хотела переменить жизнь в усадьбе на свой лад – в том числе, чтобы получать, наконец, от хозяйства прибыль.
Скорее всего, планы Авдотьи Никитичны шли вразрез с укладом жизни дочерей Николая Львовича, живших с отцом одним домом. И сёстры приняли решение. От отца, который теперь полностью зависел от “самой бесчувственной женщины”, они (вместе с братом Константином) решили, пока не поздно, отделиться.
Опасаться было чего – в случае смерти немолодого уже Николая Львовича всё имущество Батюшковых по отцовской и материнской линиям перешло бы к его новой жене. Дети от первого брака оставались ни с чем. Чтобы этого не произошло, следовало срочно разделить движимое и недвижимое имущество, переписать на детей разделённое и уехать из Даниловского. Но куда? Такая возможность имелась благодаря “материнскому капиталу”. От Бердяевых, к роду которых принадлежала мать поэта, Батюшковым досталось в приданое несколько деревень, среди которых числилось то самое Хантаново. Однако бердяевские деревни были заложены Николаем Львовичем еще двадцать лет назад и до сих пор оставались не выкупленными. Они находились в секвестре, никаких операций по продаже, завещанию или дарению произвести с ними было невозможно – до полной уплаты долга.
Старший Батюшков заложил имения, когда жил в Петербурге. Это была другая, позапрошлая жизнь, наполненная другими горестями и надеждами. Однако в новой, третьей с того времени жизни, которую собирался начать с новой женой Николай Львович, эхо позапрошлой жизни раздавалось слишком отчётливо. Тогда деньги ушли, чтобы лечить Александру Григорьевну и дать воспитание младшим детям Константину и Варваре. Теперь дети собирались стать независимыми от родителя и при живом отце искали опекуна.
Опекун требовался для сделки. Парадокс законодательства того времени заключался в том, что ты мог служить по гражданской или воевать в армии, и даже командовать армейскими подразделениями, ты мог быть убитым или вознаграждённым – но до двадцати одного года оставался недееспособным. А осенью 1807 года, когда затевался раздел, Батюшкову было только двадцать. Герой Гейльсберга, едва не отдавший жизнь за царя и Отечество, не имел права ставить на документах подпись. Его опекуном стал Абрам Ильич Гревенс, муж старшей сестры Анны.
Чтобы выкупить деревни, следовало уплатить долг, который с процентами за десять лет вырос в несколько раз. Таких денег у Николая Львовича не было. Чтобы избавить Авдотью от пасынка и падчериц, нужную и немалую сумму (50 тысяч) внёс её отец, тесть Николая Львовича – помещик Никита Теглев. Это была форма приданого. Теглев платил, чтобы его дочь стала не только женой Батюшкова, но и полноправной хозяйкой в доме. Спор между отцом и детьми был, таким образом, разрешён. Сёстры съехали в Хантаново. В наконец-то опустевшем доме новая хозяйка Авдотья Никитична Батюшкова ждала ребёнка, будущего Помпея.
Насколько мирным и безболезненным был этот раздел – мы не знаем, скорее всего и не мирным, и не безболезненным. Отношение сестёр к мачехе было предсказуемо отрицательным. В свою очередь отец в письмах жалуется Батюшкову на некие “наветы” и клевету, да и сам Батюшков вспоминает в письмах того периода “сплетни и пиявицы”. Возможно, “наветы” исходили от замужних сестёр Анны и Елизаветы, обеспокоенных судьбой младших, и от родственников по матери Бердяевых – которые не желали видеть близких пущенными по миру брачным сумасбродством Николая Львовича. История была рядовая и бытовая, но крайне неприятная. Она чуть не перессорила детей с отцом. Одно время отношения стали натянутыми настолько, что поэт Батюшков обращался к Батюшкову-старшему исключительно официально. Однако умелое и быстрое финансовое “вливание” со стороны Теглевых полностью исчерпало конфликт. “Оставь, мой друг, – уже в июне 1808 года пишет отец сыну, – вперёд писать мне: государь Батюшка. Пусть будет по-прежнему, и тогда-то вознесённый на меня меч клеветниками многими обратится на главу их. А я тебе клянусь, что с моей стороны всё забыто и предано в архив забвения”.
Вторым ударом, который обрушился на Батюшкова, была смерть Муравьёва. Перед войной Михаил Никитич тяжело болел. Он простудился на похоронах своего друга Тургенева-старшего (который простудился на могиле сына Андрея) – а известие о позорном Тильзитском мире только ускорило болезнь. Печальную новость принёс Батюшкову Гнедич. В силу объективной медлительности почты письма не успевали за ходом жизни. Адресованное в Ригу в ответ на письмо Батюшкова, письмо Гнедича найдёт Батюшкова в Даниловском. Два месяца назад Батюшков выздоравливал на руках у девицы Мюгель и призывал Гнедича “обняться” в Риге. Но летом 1807 года Гнедич ещё не поступил на службу в библиотеку и живёт в крайней нужде. В письме он первым делом жалуется на бедность. Его обокрал прислуга-мальчишка и теперь “едва имею чем заплатить за это письмо”. “Ибо и тебе должно плакать, – меняет он тему, – ты лишился многого и совершенно неожиданно – душа человека, так дорого тобою ценимого, улетела: Михаил Никитич 3-го числа июля скончался”.
“Горько возрыдают московские музы! Где от горестей укрыться? Жизнь есть скорбный, мрачный путь!”
Гнедич был театрал и любил разговаривать в сценических выражениях. Так проявлялись его “чувствительность” и “сердечный отклик”. Но Батюшков не в Риге. Вот уже два месяца он живёт другой жизнью. Не заезжая в Петербург, он возвращается с войны в Даниловское и теперь меж двух огней: отцом и сёстрами. Постоянные имущественные хлопоты вынуждают его к разъездам между Устюжной и Вологдой. Однако за внешней деловитостью – растерянность. Как и где жить? С новой семьёй отца в Даниловском? Невозможно. С сёстрами? Но они только затевают перестройку дома. В Петербурге? Но где и, главное, с кем? Со смертью Муравьёва он лишился не только родственника, но покровителя. Содержать большой дом овдовевшей Муравьёвой дорого и бессмысленно. Екатерина Фёдоровна перебирается в Москву, чтобы устроить детей в Университет. А на приятелей-поэтов рассчитывать нечего, многие, с кем он общается, едва сводят концы с концами.
Вариант, который он выбирает, словно сам просится в руки. Как раз в разгар семейной ссоры (осенью 1807) выходит указ императора Александра, предписывающий на основе Ополчения сформировать подвижные части лейб-гвардии егерского полка. И Батюшков вслед за сёстрами тоже принимает решение. Как деятельный участник Ополчения, он просится в егерский полк прапорщиком. В армейской службе ему видится выход. Она дала бы не только продвижение по Табели, но и возможность жить в Петербурге. После Гейльсберга, уверен Батюшков, на армию можно рассчитывать – ему, кавалеру ордена Святой Анны 3-й степени и золотой медали участника Ополчения.
История ордена Святой Анны в России по-своему удивительна. Он был учреждён в 1735 году герцогом Карлом Фридрихом в память об умершей супруге Анне, дочери Петра I. Их сын Карл Петер Ульрих, будущий Пётр III, приехал в Россию наследником престола. Втайне от тётушки, сестры своей покойной матери – императрицы Елизаветы – он вручал орден только своим, преданным людям. Чтобы дело оставалось в тайне, его носили на рукоятке сабли, точнее, на внутренней стороне сабельной чашки. Укромный, красного цвета, значок ордена называли “клюквой”. Он имел одну степень. Время от времени орден вручали и при Екатерине, но лишь с восшествием Павла, сына Петра III, орден сравнялся с прочими. Тогда же учредили и три его степени. Орденом Святой Анны награждались не только военные, но и гражданские лица. Например, писатель и дипломат Грибоедов получил Анну 2-й степени за Туркманчайский мирный договор; Карамзина наградили Анной 1-й степени за “Записку о древней и новой России”; Жуковский получит 2-ю степень за военную доблесть в Бородинском сражении.
В Петербурге, куда Батюшков приезжает зимой 1808 года, он неожиданно заболевает – и проводит зиму в доме Олениных. Через полгода после Риги “колибри русского Парнаса” снова “умирает” в чужом доме, и Алексей Оленин ходит за ним как нянька. “…мне помнить осталось, – напишет Батюшков, – что вы просиживали у меня умирающего целые вечера, искали случая предупредить мои желания, <…> и в то время, когда я был оставлен всеми, приняли me peregrino errante под свою защиту…”
“Оставлен всеми” означало не нужный ни в доме отца, ни в семьях старших сестёр, которые давно жили своей жизнью – ни в Хантанове, которое только предстояло построить. Батюшков называет себя по-итальянски me peregrino errante, “блуждающий паломник”. Фраза из первой части “Освобождённого Иерусалима” Торквато Тассо. С его мрачной судьбой поэт всё чаще соотносит свою жизнь. Письмо Оленину будет написано весной 1809 года, когда Батюшков вернётся из второго военного похода – и сделает первые пробы перевода великой поэмы. Но сейчас, зимой 1808 года, когда он выздоравливает в доме на Фонтанке – он раздумывает совсем над другими материями. Новая “пьеса” Батюшкова выйдет в печати через год и будет называться “Воспоминание”.