Текст книги "Философия. Античные мыслители"
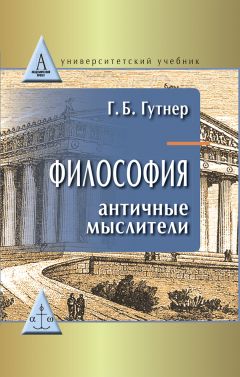
Автор книги: Григорий Гутнер
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Дополнительные уточнения, касающиеся связи идей и вещей, Платон делает в диалоге «Филеб», где та же проблема рассматривается в контексте отношения предела и беспредельного. Основная тема этого диалога иная. В нем передана беседа Сократа с Протархом о том, в чем состоит истинное счастье. Мы, однако, не будем пересказывать всю эту беседу, а рассмотрим лишь небольшой ее фрагмент, прямо относящийся к названной проблеме. Здесь, как и в диалоге «Парменид», собеседники задаются вопросом, как идея, будучи одна, может присутствовать во множестве вещей. Однако они уделяют внимание другому аспекту этого вопроса: сочетанию предела и беспредельного. Нечто одно (единое благо, единое прекрасное, а также единый бык или единый человек) должно находиться сразу в беспредельном множестве проявлений. Это «одно» выступает в диалоге как синоним предела. Во-первых, по-видимому, потому, что оно противоположно беспредельному. Во-вторых, оно эту беспредельность ограничивает, создавая в результате нечто такое, что доступно пониманию. Последнее есть не что иное как число. Эта мысль поясняется на примерах. Один и тот же звук речи проявляется в беспредельном множестве произнесений. Однако заметив это обстоятельство, мы не поймем, как связаны одно и беспредельное. Их связь осуществляется в речи, которая строится из определенного количества ясно различимых звуков. Только зная это количество, т. е. умея различать звуки в их ограниченном множестве, мы сможем совладать с беспредельностью звучаний, т. е. произносить осмысленные речи и понимать их. Только тогда мы сможем выделить и единичный звук, т. е. приблизиться к пониманию одного. То же самое мы наблюдаем и в музыке, где каждый голос занимает свое место в системе голосов, разделенных интервалами, скрепляемых числовыми отношениями (гармониями).
Таким образом, мы не в состоянии постигнуть одно, существующее само по себе или раздробленное в беспредельном. Мы в состоянии мыслить лишь нечто промежуточное, т. е. число, в котором одно и беспредельное присутствуют в смешении. Вспомним, что и в «Пармениде» существующее единое, которое также есть нечто среднее между единым и многим, характеризуется как число. Иными словами, мыслимым является целое, причем целое, подобное числу (т. е., как мы выяснили выше, состоящее из самостоятельных соизмеримых частей).
Здесь мы вновь должны констатировать несовершенство нашего познания. Совершенным, по-видимому, было бы знание одного, независимо от многого. Но оно для нас недоступно. Мы постигаем лишь ограниченное множество, элементы которого находятся в определенных отношениях друг с другом. Если еще раз соотнести сказанное с тем, что мы выяснили в главе о пифагорейцах, то получается интересный вывод. Наше познание представляет собой соизмерение, выстраивание соразмерных (т. е. гармонически связанных) целостностей. Однако такое знание не может быть совершенным, поскольку мы не знаем самой меры. Она дана нам лишь как часть множества, но не сама по себе. Так, мы можем исследовать числа, но наше знание останется относительным, поскольку мы не можем постичь самое начало числа – единицу. Нельзя понять, что такое единица сама по себе. Можно только составлять из нее ограниченные множества, сопоставлять и соизмерять их, выяснять их относительные свойства. Не имея ясного знания этой последней меры, измеряющей все точно, мы обречены делать предположения и двигаться от одной гипотезы к другой.
5.5. Философия как совершенное знание. Диалог «Государство»Платон, однако, ищет возможности более совершенного знания. В разных его диалогах присутствуют указания на прямое видение идей. Правда не всегда понятно, кому и при каких обстоятельствах такое видение доступно. В диалоге «Федр» утверждается, что совершенное знание есть прежде всего удел богов. Впрочем, человеческая душа также может быть приобщена к нему, однако тогда, главным образом, когда она пребывает вне тела, т. е. либо до рождения человека, либо после его смерти. Но даже будучи отделенной от тела, душа в состоянии созерцать вечные сущности лишь краткое время и частично. Пребывание в той занебесной сфере, где находятся прекрасное само по себе, справедливое само по себе и другие идеи, тяжело для человеческой души. В отличие от богов, которые постоянно пребывают там, наслаждаясь этим созерцанием, она в конце концов срывается в пропасть, падает и вселяется в тело. Воплотившись, душа забывает и то (возможно немногое), что она созерцала в занебесье, и лишь особыми усилиями может восстановить прежнее знание. Изучение наук и диалектика как раз и способствуют такому воспоминанию.
Впрочем, помимо этого мифического описания Платон дает и более конкретное, методологически выверенное представление о таком роде знания. Ему, в частности, посвящены весьма значимые фрагменты диалога «Государство». Необходимо сказать несколько слов об этом диалоге, в котором разобраны не только проблемы познания идей. Он посвящен идеальному политическому устройству и месту философии в совершенном обществе. Вопрос о правильном политическом устройстве вообще важен для античных авторов. Мы уже знаем, что само появление философии связано с особенностями общественного устройства греков. Занятия философией тесно связаны со статусом свободного гражданина, т. е. с особым положением в полисе. Поэтому представляется уместным сделать в нашем разговоре отступление и на время оставить тему знания и форм мысли. Мы вернемся к этим проблемам. Представляется, однако, важным, что они возникают у Платона в контексте разговора о совершенном полисе.
Общий сюжет диалога таков. Исходный вопрос, обсуждаемый его персонажами: «что есть справедливость?». Начинают они с выяснения того, какой поступок и какого человека следует считать справедливым. После нескольких попыток ответить на этот вопрос прямо, собеседники, по предложению Сократа, решают, что правильней было бы для начала говорить не о справедливом человеке, а о справедливом государстве[63]63
Считается, что начало этого весьма длинного диалога представляет собой ранний текст Платона и достаточно адекватно передает реальную беседу Сократа. Большая часть диалога была написана Платоном значительно позже и содержит уже его собственное рассуждение (об этом см.: [Армстронг, 44]).
[Закрыть]. Далее следует пространное описание такого государства[64]64
Это описание приводило в ужас многих читателей позднейших эпох, особенно тех, которые знакомы с политическими практиками тоталитарных режимов XX века. Карл Поппер прямо считает Платона предшественником тоталитаризма, во многом ответственным за его преступления. См.: [Поппер].
[Закрыть].
Обозначим кратко ход рассуждений Платона. Он начинает с описания хозяйства идеального полиса. Оно основано на строгом разделении труда, поскольку каждый человек может наилучшим образом заниматься лишь одним делом. Экономическая деятельность есть удел самой многочисленной части граждан: ремесленников и торговцев. Эти люди побуждаются к труду весьма низменными мотивами. Их основная страсть – вожделение. Их главная задача в том, чтобы обеспечить самих себя и свои семьи, достичь сытой и довольной жизни. Однако эта жизнь подвергается опасности с двух сторон. Во-первых, существует внешняя угроза. Богатство граждан идеального полиса может вызвать зависть соседей. А во-вторых должно расширяться не только мирным трудом, но и путем завоеваний. Но угроза может исходить и от самих вечно вожделеющих людей, которые, не зная меры своим притязаниям, могут разрушить порядок в государстве. Поэтому нужен еще один класс – воинов или, как назвал их Платон, стражей. Их задача вести войны и поддерживать порядок в государстве. Они гораздо менее многочисленны, чем ремесленники и торговцы. Но их жизненные установки совсем другие. Они бескорыстны и озабочены лишь благом государства. У них нет семьи и собственности. Основа их поведения определяется Платоном как «яростный дух». Они исполнены ненависти ко всякому злу и направляют против него свою ярость. Таким образом, их ярость должна быть подвластна разуму, который может ее правильно направить. Последнее требует, во-первых, тщательного отбора и воспитания стражей, а во-вторых, мудрого руководства ими. И то и другое должно быть возложено на философов. Именно они и должны править в совершенном государстве.
Управление следует поручить философам, поскольку они обладают знанием. Это утверждение, высказанное Сократом, вызывает некоторое недоумение его собеседников. Почти во всех государствах философы часто оказываются в небрежении. Их почитают людьми никчемными, а их знание бесполезным, поскольку оно совершенно не сообразуется с привычными мнениями большинства. Последние основаны на произвольных допущениях и житейском опыте, тогда как знание философа есть результат прямого созерцания идей.
Философ, взор которого обращен за пределы временного и телесного, на первый взгляд плохо ориентируется в окружающем мире, а потому заслуживает насмешки окружающих. Сократ же настаивает, что в совершенном государстве все должно быть наоборот. Лишь тот, кто способен созерцать вечное и умопостигаемое, может достойно управлять другими. В самом деле, разве не тот, кто знает, что такое самое справедливость, будет принимать самые справедливые решения? Но даже не справедливость оказывается самым важным предметом. Правитель должен уметь находить самое лучшее. Для этого же нужно знать то, лучше чего вообще ничего нет, т. е. благо само по себе. Именно эта идея должна быть основной заботой философа, именно ее должен знать совершенный правитель.
Так собеседники приходят к ответу на вопрос, поставленный в начале диалога. Описанное ими государство по праву должно быть названо справедливым. Справедливость состоит в том, что философы-правители, направляя действия стражей, упорядочивают жизнь низшего сословия. Тем самым все государство оказывается пронизано благом. Благо как бы передается сверху вниз, от высших к низшим, создавая правильное устроение всей совместной жизни.
Проведенное рассуждение позволяет описать и справедливого человека. Это такой человек, в котором разум, направляя яростное начало души, укрощает начало вожделеющее. Такой человек, подобно справедливому государству, всегда сообразует свою жизнь с благом.
Но что же можно сказать о самом благе?
5.6. Идея блага и беспредпосылочное знаниеИдея блага занимает первенствующее положение среди прочих идей хотя бы потому, что ни одна из них непонятна без знания блага. Какой смысл знать, например, что такое справедливость, если не понимать, чем она хороша? Это же относится к любому знанию. Знание какой-либо вещи подразумевает и знание блага, с этой вещью связанного (Государство. 505 b). Все, что мы познаем, ставится в определенное отношение к этой идее. С другой стороны, знание вещи состоит в знании идеи этой вещи[65]65
ю. «А что такое каждая вещь, мы уже обозначаем соответственно единой идее, одной для каждой вещи» (Государство. 507 Ъ).
[Закрыть]. Следовательно, знание идей вообще невозможно без знания блага. Только идея блага делает другие идеи познаваемыми.
Платон иллюстрирует эту мысль с помощью аналогии, сопоставляя идею блага с Солнцем. Мы видим воспринимаемые чувствами вещи лишь благодаря свету, источником которого является Солнце. Без него мы не имели бы знания этих вещей. Ту же роль, которую играет Солнце в области чувственного, в области умопостигаемого играет идея блага. Без нее невозможно познание идей, подобно тому, как без Солнца невозможно видеть вещи. Подобно тому, как зрение притупляется при недостатке света, так и душа «тупеет» при недостатке блага. Такой недостаток ощутим в области становления, при соприкосновении с чувственным.
Платон идет еще дальше в своей аналогии. Он утверждает, что Солнце есть причина роста, причина жизни для всего становящегося. Точно так же и идея блага есть причина бытия для всего умопостигаемого. Вот как высказывается он по этому поводу: «Солнце дает всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, рост, а также питание, хотя само оно не есть становление… Познаваемые вещи могут познаваться лишь благодаря благу; оно же дает им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, оно – за пределами существования, превышая его достоинством и силой» (Государство. 509 b).
Это утверждение Платон особо не комментирует, однако, нельзя обойти вниманием, что как бытие, так и познаваемость исходят из одного источника. Поистине существует то, что познаваемо, и наоборот. Это суждение мы встречали еще у Парменида. Как понять его в данном рассуждении? Вспомним, что вещь обязана бытием и познаваемостью идее. Благодаря идее вещь есть то, что она есть, она существует именно как эта вещь. Быть значит быть чем-то определенным. Такую определенность и сообщает вещи идея. Именно поэтому (и ровно в этой мере) вещь можно познать.
Попробуем применить это рассуждение к отношению какой-либо идеи и идеи блага. Всякая идея есть благо в определенном смысле. Справедливость, красота, мужество – это все некоторые блага. Но и идея человека или, допустим, дома также есть некоторое благо. Ведь дом тем лучше, чем больше он соответствует своей идее. Но каждая идея, чтобы быть некоторым определенным благом, должна быть приобщена к благу самому по себе. Именно от него она получает свою способность быть каким-то благом. Поэтому, подобно тому, как дом становится самим собой (т. е. домом), приобщаясь идее дома, так и идея дома является собой (т. е. благом по отношению к дому), приобщаясь идее блага. Поэтому идея блага есть источник бытия идей.
Обратим внимание на странное замечание Платона, что эта идея не может быть названа существующей. Она источник всякого существования, но сама пребывает выше всего существующего. Вспомним, что мы уже сталкивались с предметом, который пришлось признать несуществующим. Это единое в себе, которое обсуждалось в «Пармениде». Там наши суждения о нем были только предположительными, и, дои́дя до утверждения «единого не существует», мы оставили всякое дальнейшее исследование. Здесь же, выяснив, что благо само по себе также не существует, мы делаем нечто иное: утверждаем его наивысшее достоинство и превосходство над всем сущим. Можно допустить, что в обоих случаях речь идет об одном и том же, только различаются методы рассуждения.
Именно о методах рассуждения нам нужно поговорить далее. Для этого мы рассмотрим краткий фрагмент диалога «Государство», следующий сразу за разговором о благе. Платон возвращается к вопросу о познании чувственного и умопостигаемого, пытаясь при этом показать, как устроены эти две области.
Для наглядности Платон предлагает представить линию, разделенную на два отрезка. Один из этих отрезков будет изображать область зримого, другой – область умопостигаемого. Первый отрезок следует также разделить на две части. Зримое следует отнести к одной из двух частей «по признаку большей или меньшей отчетливости» (Государство. 509 е). Одна из них обозначает все телесные вещи, а другая – их образы, т. е. тени, отражения в воде и «в плотных, гладких и глянцевитых предметах» (Там же). Платон замечает, что образы находятся к вещам в таком же отношении, как сами вещи к умопостигаемому.
Отрезок, изображающий умопостигаемое, также следует разделить на две части. Принцип деления определяется так:
Один раздел умопостигаемого душа вынуждена искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющему. Без образов, какие были в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе путь (Государство. 510 b).
Интересно, что один из его собеседников не может этого понять, говоря произнесшему эту речь Сократу: «То, что ты говоришь, я недостаточно понял» (Государство. 510 с). Однако это не вполне ясное высказывание может быть, по-видимому, понято в контексте диалогов, разобранных нами ранее. Особенно важен здесь диалог «Парменид», где шла речь о рассуждении на основании предпосылок. Проследим, однако, за дальнейшим ходом разговора в этом фрагменте.
Поясняя свою мысль, Платон (устами Сократа) демонстрирует смысл сказанного на примере геометрии и арифметики. Решая какие-либо задачи, мы всякий раз полагаем нечто уже известным. Мы не обсуждаем исходные положения и определения, а используем в качестве заданных предпосылок утверждения о том, «что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее в том же роде» (Государство. 510 с). При этом, занимаясь геометрией, мы к тому же опираемся на чертежи, которые интересны нам не сами по себе, а поскольку, глядя на них, мы легче понимаем то, подобием чего они служат. Ведь мы делаем выводы не для этого здесь и сейчас нарисованного четырехугольника, а для четырехугольника вообще, постигаемого умом.
Обращение к геометрии, по-видимому, показывает некоторую слабость нашей способности рассуждения. Мы не можем сразу рассуждать об умопостигаемых предметах, а вынуждены восходить к ним, используя в качестве своего рода опоры их чувственные подобия. Но точно так же обстоит дело и в сфере умопостигаемого. Мы не в силах сразу постичь начало, поэтому вынуждены пользоваться предпосылками. Что это значит, мы уже разбирали. Речь идет о многократно опробованном методе: выдвижении гипотез (предпосылок) и извлечении всех возможных следствий из них. Это, по-видимому, и означает «устремляться к завершению». Именно так действуем мы, занимаясь науками. Под последними подразумеваются упомянутые уже арифметика и геометрия, а также астрономия и музыка[66]66
О них идет речь в книге VII «Государства» (529 a-d).
[Закрыть]. Однако выводы, полученные нами на основании предпосылок, недостаточно надежны. Таким способом невозможно получить ясное знание. Вспомним, что в диалоге «Парменид» собеседники прибегли к этому методу рассуждения не для установления истины, а лишь ради упражнения. Конечно, такие рассуждения имеют ценность не только для обучения. Они позволяют достичь некоторого понимания предмета. Однако такое понимание никогда не будет точным. Всегда будет возникать вопрос о происхождении и обоснованности выбранных предпосылок и, соответственно, потребуются новые предпосылки, чтобы на него ответить. Такое познание Платон называет рассудочным и оценивает его как промежуточное между мнением и истинным знанием. Последнее входит в компетенцию ума, а не рассудка.
Истинное знание есть знание беспредпосылочное. Путь к нему, в отличие от рассудочного познания, не основан на каких-то процедурах или методах. Это знание состоит в прямом созерцании идей, а в конечном счете и самого блага. По крайней мере, из предшествующего рассуждения следует, что именно знание блага может быть действительно беспредпосылочным. В самом деле, любая идея не существует и не познается сама по себе, но лишь благодаря идее блага. Только само благо ни в чем не нуждается. Оно есть условие всякого существования, а его знание – условие всякого другого знания.
Что же можно сказать о таком познании? Платон называет его диалектическим и представляет в 7-й книге «Государства» как завершение долгого пути. Прежде чем приступить к диалектике, необходимо освоить науки, которые мы уже упомянули. Они постепенно приучают нас отвлекаться от зримого и рассуждать об умопостигаемом. Однако сами науки, как уже упоминалось, могут оперировать лишь предпосылками, не достигая начала. Поэтому они не обладают настоящей ясностью и доказательностью. Доступное им знание – лишь гипотетическое.
…Им всего лишь снится бытие, а наяву им невозможно его увидеть, пока они, пользуясь своими предположениями, будут сохранять их незыблемыми и не отдавать себе в них отчета. У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием? (Государство. 533 с).
Диалектика дает нам возможность познать начало без всяких предпосылок. Вот что пишет об этом Платон:
Один лишь диалектический метод придерживается правильного пути: отбрасывая предположения, он подходит к первоначалу с целью его обосновать; он потихоньку высвобождает, словно из какой-то варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей души и направляет его ввысь, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми искусствами, которые мы разобрали (Государство. 533 c-d).
Заметим, что здесь Платон отказывает арифметике, геометрии, астрономии и музыке в статусе наук, низводя их до уровня искусств. Что же касается диалектического метода, то речь скорее идет о том, что он может дать, чем о том, в чем он состоит. Диалектика позволяет найти окончательно обоснованное знание. Геометрия, претендуя на доказательства, в действительности не дает их, поскольку основание, на котором она строит, неясно. Только диалектика, основываясь на идее блага, может дать точное доказательство своих положений. Это обусловлено беспредпосылочным характером такого знания. Безусловное, не отсылающее к каким-либо допущениям знание обосновано само в себе, а потому совершенно точно. Именно поэтому диалектику «доступно доказательство сущности каждой вещи» (Государство. 534 b).
Остается, однако, вопрос, как такого знания достичь. Как отбросить предположения и усмотреть умом само начало? На этот счет никаких указаний нет, что, по-видимому, неслучайно. Впрочем, какие-то намеки улавливаются:
Кто не в силах с помощью доказательства определить идею блага, выделив ее из всего остального; кто не идет, словно на поле битвы, сквозь все препятствия, стремясь к опровержению, основанному не на мнении, а на понимании сущности; кто не продвигается через все это вперед с непоколебимой уверенностью, – про того, раз он таков, ты скажешь, что ему неведомо ни самое благо, ни какое бы то ни было благо вообще (Государство. 534 с).
В этом отрывке интересны несколько моментов. Во-первых, конечно же, требование целеустремленности, готовности идти до конца в поисках знания. Во-вторых, упоминание об опровержении как основном способе доказательства. Оказывается, что движение к пониманию блага требует прежде всего опровержений. Вспомним, кстати, что Сократ занимался преимущественно тем, что опровергал своих собеседников. Почему именно опровержение? По-видимому, потому, что местом отталкивания для движения к благу служит рассудочное мышление, т. е. мышление, основанное на предпосылках. Вспомним, что предложенный в «Пармениде» подход требовал делать все возможные выводы из выдвинутых гипотез. Но это и есть способ опровержения! Мы отвергаем предположение, если выводы из него оказываются абсурдными. Мы уже цитировали высказывание о том, что диалектика должна «отбросить предположения». Теперь понятно, как их отбрасывать: последовательно опровергая.
Именно этим диалектика и отличается от наук, которые, как сказано в цитированном только что отрывке, не отдают себе отчета в своих допущениях. Иными словами, эти науки недостаточно критичны. Они базируются на каких-то предпосылках, не замечая, что это – всего лишь предпосылки. Поэтому предположение и произвольное суждение они могут принять за истинное знание.
В-третьих, наконец, заметим, что этот пассаж о диалектике сформулирован негативно. В нем описан тот, кому неведомо благо. В самом деле, человек, который не совершает описанных усилий, не придет к беспредпосылочному знанию. А что можно сказать о том, кто их совершает? Ему гарантировано такое знание? Этого Платон не утверждает. Чтобы достичь желанной цели, необходимо последовательно и мужественно идти путем опровержений. Однако этого недостаточно. Одна лишь дискурсивная деятельность истинного знания не создает. Судя по всему, оно возникает само, и человеческие усилия лишь способствуют этому возникновению. Вспомним еще раз Сократа, называвшего свое искусство повивальным. Для рождения истины усилия необходимы, однако рождение происходит само. Может и не произойти.
Все это подтверждается рассуждениями из 7-го письма, о котором мы упоминали в самом начале главы. Приведем здесь более развернутую цитату:
Лишь с огромным трудом, путем взаимной проверки – имени определением, видимых образов – ощущением, да к тому же если это совершается в форме доброжелательного исследования, с помощью беззлобных вопросов и ответов, может просиять разум и родиться понимание каждого предмета в той степени, в какой это доступно для человека (Письмо 7. 344 b-с).
Как видим, здесь идет речь о взаимной проверке одних представлений другими. Проверка, заметим, допускает и опровержение. Кроме того, предполагается совместная (т. е. проводимая в рамках диалога) дискурсивная работа. Немаловажно, что для этой работы необходима доброжелательность. Вопросы и ответы должны быть «беззлобными». В самом деле, только так могут вести себя люди, заинтересованные в одной лишь истине. Они ведь не удовлетворяют свое тщеславие, не стремятся во что бы то ни стало убедить другого в своей правоте. Поэтому они не боятся быть опровергнутыми. Скорее они должны быть рады, если кто-то другой избавит их от ложного мнения. Именно поэтому они доброжелательны и задают вопросы без всякой злобы.
Однако важнейшее место здесь – упоминание о «просиявшем разуме». Понимание, несмотря на упорство труда, возникает неожиданно и как бы ниоткуда. Оно само рождается в душе и может не иметь прямой связи с проведенным исследованием. Его, с другой стороны, невозможно выразить в словах, поскольку это слишком грубый инструмент. «Всякий имеющий разум никогда не осмелится выразить словами то, что явилось плодом его размышления, и особенно в такой негибкой форме, как письменные знаки» (Письмо 7. 343 а).
Что же можно выразить словами? Исходя из того, что мы выяснили, изучая диалоги «Софист» и «Парменид», следует, что словесное выражение связано с рассудком. Только рассуждение, основанное на предпосылках, фиксируется в словах. Но это в конечном счете только процесс, а не результат. Словами выражается лишь ход рассуждения, т. е. предпосылки и выводы. Результат же (или плод) есть знание, просиявшее в разуме. Оно не есть вывод, полученный из выдвинутых гипотез. Знание, как некий внезапно возникший свет, возникает в уме после долгих дискурсивных усилий. Оно появляется во многом благодаря им, но не как их прямое следствие.
Платон предлагает впечатляющую иллюстрацию этого движения мысли в знаменитом «мифе о пещере», приводимом в начале 7-й книги «Государства». Он предлагает представить узников, сидящих в глубине темной пещеры и скованных так, что они даже не в состоянии повернуть голову. Узники принуждены все время смотреть на заднюю стену пещеры. Сзади них проходят люди и проносят в руках разные вещи. Еще дальше, где-то наверху, горит огонь. Вещи, проносимые людьми, отбрасывают тени, и узники могут видеть их на задней стенке пещеры. Больше ничего видеть они не в состоянии, а потому не подозревают о существовании вещей, тени которых они видят, и огня, который их освещает. Но среди узников может найтись такой, кому удастся освободиться от оков и покинуть место своего заключения. Он увидит настоящие вещи, а не их тени. Он покинет пещеру и сможет видеть все не в сумерках при свете огня, а при настоящем дневном свете. Поначалу ему будет трудно созерцать реальность вместо теней, но затем глаза привыкнут к свету и, увидев всё, как оно есть на самом деле, «сочтет он блаженством перемену своего положения и… пожалеет своих друзей» (Государство. 516 с). Если же такой человек вернется в пещеру, то ему трудно будет ориентироваться в полумраке среди теней. Его жизнь окажется весьма незавидной:
Пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут – а на это потребовалось бы немалое время, – разве не казался бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки? (Государство. 517 а).
Восхождение, символически описанное в этом мифе, по-видимому, означает движение познания от чувственно воспринимаемого к умопостигаемому. То, что воспринимается чувствами, соотносится с идеями так, как тени этих воспринимаемых вещей соотносятся с ними самими. Так что вполне уместно считать людей, полагающихся лишь на чувства, узниками, способными видеть лишь тень истинного бытия. Обратим внимание на три обстоятельства. Во-первых, восхождение из пещеры к свету происходит не сразу. Есть промежуточный этап, на котором нужно рассмотреть вещи, видимые в пещере при свете огня. Судя по тому, что рассказ о пещере следует в диалоге сразу после рассуждения о предпосылках и беспредпосылочном знании, уместно полагать, что это и есть познание, основанное на предпосылках. Оно в самом деле опосредует чувственное восприятие (и основанное на нем мнение) и прямое созерцание идей. Во-вторых, Платон показывает здесь судьбу философа в мире. Люди, привыкшие к невежеству, т. е. видящие лишь тень истины, не могут понять его и лишь смеются над ним. Он и в самом деле смешон, поскольку, познав настоящие вещи, он с трудом ориентируется среди теней. Однако – и это третье, на что следует обратить внимание, – интересен сам факт возвращения. Знающий истину, т. е. созерцавший первообразы и само благо, все же возвращается в пещеру и вновь смотрит на тени. Ясно, что он уже не может смотреть на них по-прежнему. Он понимает их настоящее значение и, в отличие от остающихся в узах людей, знает об их (теней) происхождении.
Следовательно, в мифе о пещере описывается некий возвратный ход мысли: сначала восхождение к миру идей, к благу, к беспредпосылочному знанию, а затем обратное нисхождение к предпосылкам и к чувственно воспринимаемому миру. Получается, что хотя беспредпосылочное знание идей самодостаточно, познание им не ограничивается. Важно, что знание начала дает возможность точного понимания всего остального: предметов, изучаемых наукой, поступков, совершаемых людьми, вещей, окружающих нас в повседневности. К ним следует рано или поздно вернуться, избавившись при этом от всех неясностей, предпосылок и мнений.
Завершая разговор о диалектике, сделаем одно важное замечание. До сих пор мы говорили о движении мысли ввысь, к истинному знанию. Однако миф о пещере дает нам представление о двойном (или возвратном) движении мысли. Оно состоит в восхождении и последующем нисхождении. Первое совершается с помощью наук и диалектики. Второе есть акт умаления, возвращения к чувственному миру с высот умопостигаемого. Оно имеет, конечно, и чисто эпистемологическое значение. Но в контексте диалога «Государство» ему придается еще и политический смысл. Речь здесь идет о роли философа в полисе. По мысли Платона, он должен не только познавать истину, но и заниматься государственными делами. Никто лучше него не может это сделать, по двум причинам. Во-первых, только философ, совершивший восхождение к пониманию блага, может точно (т. е. без всяких предпосылок) знать, в чем состоит все полезное, нужное, справедливое для государства, поскольку все это есть некоторое частное благо. Во-вторых, философ по собственной воле никогда не стремится к власти. А править должен именно такой человек, ибо править он будет не ради своего честолюбия, а ради устроения государства, ради установления справедливости. Тот же, кто хочет править, т. е. стремится к власти ради нее самой, будет плохим правителем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































