Читать книгу "Избранные сочинения в пяти томах. Том 1"
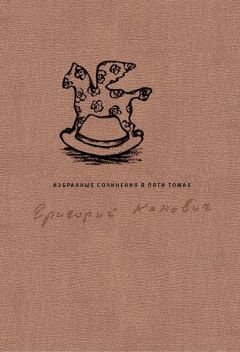
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Пока американец запивал свой скудный ужин крепким чаем, музейщик Валерий […] успел нагнуться над Малкиным и по-литовски прошептать:
– Вам заплатят… долларами.
– За что?
– За съемки…
– А кто мне заплатит за то, чего снять нельзя? – выдохнул Ицхак. – Или вы просто пришли ко мне как на могилу? Возложите по цветочку и уедете в Нью-Йорк.
Фишман вежливо выслушал коротенький урок литовского, но понял только одно слово: Нью-Йорк.
В этом эпизоде Канович показывает себя мастером иронии: литовский язык оказывается в роли идиша, традиционного защитного механизма отделения своих от чужих.
Прошлое для «забытых евреев» – это не товар, а «отрава», своего рода наркотик, без которого они не могут жить: «Дай только им лизнуть языком прошлое, их грехи, кажущиеся им сейчас добродетелью, их добродетель, кажущаяся сейчас им греховной, дай им войти дважды, трижды, тысячу раз в ту же реку не стопой, а их любовью и их верой». Прошлое имеет смысл и ценность только для них самих, из него нельзя извлечь никаких уроков: «Каждый из них прошел через свою пустыню – только не было ни кладов, ни чудотворных колодцев, ни серебра, ни злата, ни шелков, ни шерсти». Члены «клуба ненужных евреев» вспоминают свою службу в Красной армии, возвращение на родные пепелища, первые в советской Литве на грани между двумя враждебными жестокими силами – местными националистами-«лесовиками» и советской властью в лице войск государственной безопасности.
Портной Малкин, некоторыми чертами напоминающий отца писателя, о котором рассказывается в лирическом очерке «Сон об исчезнувшем Иерусалиме», находит единственно возможный выход: «Жить в том обыденно-безрассудном мире ему не хотелось. Он отказывался быть его подданным и, видно, потому пытался на своем одиночестве построить свое, ни от кого не зависимое государство, в котором большинство населения составляли бы мертвые и управлял бы им один живой – он, Ицхак Малкин. Но уберечь свою республику от нашествий и вторжений живых, от какого-нибудь гэбиста Мирова или бородача с обрезом он был не в состоянии». После распада Советского Союза эта еврейская память не нужна ни западным литвакам и их потомкам, для которых еврейская история Литвы кончилась Холокостом, ни молодым строителям независимой Литвы, создающим свою версию истории, ни коммунистам по восточную сторону литовской границы, ностальгически мечтающим о воссоздании СССР. Эти воспоминания подводят итог всему историческому циклу Кановича, смыкая прошлое с настоящим в памяти нескольких «забытых евреев» – портного Малкина, парикмахера Гутионтова и примкнувшей к ним «ночной еврейки», польской уборщицы пани Зофьи. Не покидая своего города, они оказались за границей: «Теперь каждая улица Вильнюса для него – заграница: новые дома, новые витрины. А каждый его житель – иностранец. Малкин никого не узнает и никто его, Малкина, не узнает, хотя совсем недавно с ним раскланивались в самых неожиданных местах, останавливались на одну-другую минуту, перебрасывались несколькими словами. Куда все девались? Раньше казалось, что весь город сплошь состоит из его клиентов. Почему же все вокруг – словно иностранцы и он сам как иностранец?» В очередной раз Вильнюс меняет свое лицо, в соответствии со своей изменчивой природой.
Горькая ирония Кановича достигает кульминации во сне Малкина – торжественной церемонии закрытия «парка евреев» в присутствии глав государств:
Ицхак Шамир потирал боевые руки – слава богу, конец еще одной диаспоре. Пусть принимающие парад отправляются прямо в Землю обетованную. Ам Исраэль хай! (Народ Израиля жив!)
Лех Валенса подкручивал ус и громко, то ли радуясь, то ли жалея, восклицал:
– Еще жидзи не згинели!..
Михал Сергеич косился не на евреев, а на молодых литовцев, выкрикивавших надоевшее:
Lais-ve Lie-tu-vai! (Свободу Литве!).
Через сны Канович вводит в свои произведения элементы сверхъестественного и потустороннего. Из одного произведения в другое переходят разного рода мечтатели, безумцы и сумасшедшие, вроде «человека-птицы», требовавшего от евреев местечка составить прошение к Богу, которое он бы передал («Слезы и молитвы дураков»), или сумасшедшего Семена, сквозного персонажа нескольких романов, проводящего дни и ночи на подходе к местечку в ожидании Мессии и пережившего всех евреев местечка. Эти «посланцы неба», как их назвал рабби Ури, местечковый мудрец из романа «Слезы и молитвы дураков», живут в том самом третьем, «мессианском» времени, которое доступно обычным людям только во сне. Они по-своему бессмертны, как Айзик дер мешугенер, чудом переживший катастрофу. Их роль сродни роли Мешулаха-«посланца» в пьесе «Диббук», посредника между двумя мирами (как вспоминает Ан-ский, ввести этот персонаж в пьесу ему посоветовал Станиславский) и восходит к традиционному фольклорному образу пророка Ильи, являющемуся в разных обыденных обличьях для помощи евреям, а также и для напоминания им о грехах.
О том, как перекликается Канович с Перецом, свидетельствует персонаж из романа «Слезы и молитвы дураков». В притче Переца «Три подарка» из цикла «Истории в народном стиле» рассказывается о посмертных приключениях души обыкновенного современного (речь идет о рубеже двадцатого века) еврея. При жизни он не отличался ни особой праведностью, ни особыми грехами, и для того, чтобы попасть на небо, от него требуются три подарка, за которыми его душа и отправляется на землю. После долгих поисков в разных странах и эпохах он приносит стражам райских ворот три невзрачных предмета, за которые евреи в прошлые времена заплатили жизнью: мешочек со святой иерусалимской землей, окровавленную ермолку с головы еврея, которого прогнали сквозь строй в царской армии, и булавку, которой еврейская девушка приколола к ногам юбку, когда толпа волокла на костер. И вот у Кановича появляется загадочный бродяга, собирающий грехи всего еврейского народа, чтобы затем просить милости у Всевышнего в Судный день. На голове у него ермолка, приколотая булавкой:
– Почему у тебя такая странная ермолка? – спросил корчмарь и первый раз обернулся.
– Странная? Ермолка как ермолка, – равнодушно объяснил попутчик.
– А булавка?
– Все, что от матери осталось.
– Давно померла?
– Давно. Пьяные убили. Мать этой булавкой тряпицу с деньгами к сорочке пристегивала. Один серебряный рубль и один бумажный… На этой булавке кровь до сих пор не высохла. И не высохнет. Материнская кровь никогда не сохнет. Никогда.
Здесь речь идет не просто об отсылке к Перецу для ценителей еврейской литературы. Канович вступает в серьезный разговор с классиком. Смысл притчи Переца далеко не такой простой, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, он, конечно же, восхищается беззаветной преданностью евреев прежних веков своему Богу и традициям и их готовностью пожертвовать жизнью в «освящение Его имени». С другой стороны, будучи писателем-модернистом, он смотрит на этот героизм с известной долей скептицизма, как бы провоцируя читателя на вопрос: что же это за религия, которая так любуется жертвенными мучениями своих последователей и требует от них подарков за допуск на небо? Высокий национально-романтический пафос притчи разрушается ее концовкой: когда душа, наконец, допущена в рай, и ее подарки выставлены там на обозрение, раздается голос «ценителя»: «Ах, какие прекрасные подарки! Конечно, они совершенно бесполезны – но как не любоваться таким совершенством!» Надо отметить, что эта притча входила в программу многих еврейских школ, но ее заключительная часть, как правило, опускалась, чтобы не сбивать с толку школьников.
Канович, как и Перец, подробно описывает тяжелое положение евреев в Российской империи, но при этом его герои – как и герои Переца – также задают «неудобные» вопросы о высшем смысле такого существования. Человек в ермолке с булавкой является в местечко не для избавления евреев от угнетения, а для того, чтобы открыть им, ценой собственной жизни, их подлинную, далеко не праведную и не святую, сущность. Он становится жертвой погрома, представленного как пародия на Страшный суд:
Осанна им, осанна долгожданному суду и возмездию! Осанна погрому!.. И не важно, над кем его учинят – над колдуном или бродягой, над посланцем неба или ада, над христианином или евреем. Пинков! Крови! Стонов! Униженная, трепещущая весь год, всю жизнь перед каким-нибудь уездным Нуйкиным, склоняющая с утра до вечера перед каким-нибудь местечковым урядником или лесоторговцем выю, толпа получила наконец сладостную, ни с чем не сравнимую возможность возвыситься над собственным трепетом, над собственным дерьмом, над собственным трусливым унижением. […] Ей, толпе, нужны сейчас не вилы, не лопаты, не хлеб, не соль, не ложь, не правда, а виновный!.. Осанна виновному, осанна!
В этом заключительном эпизоде романа ситуация притчи Переца переворачивается с ног на голову, и человек в ермолке с булавкой оказывается жертвой не антисемитов, а самих евреев!
Самые сложные – как в человеческом, так и художественном отношении – персонажи Кановича существуют, по выражению Ан-ского, «меж двух миров» – между живыми и мертвыми, евреями и христианами, революционерами и охранителями старого режима. Это могильщик Иосиф и его воспитанник Даниил, выкрест-трубочист Юдл-Юргис из романа «Свечи на ветру», каменотес Эфраим и его сыновья – революционер-террорист Гирш, жандармский переводчик Шахна и бродячий актер Эзра из «Козленка за два гроша», виленский адвокат Мирон Дорский, превратившийся из местечкового мальчика Мейлаха в обрусевшего поляка («И нет рабам рая») и проделавший мучительное возвращение к своему прошлому, подлинному «я», и сионистка Элишева, готовящаяся к сельской жизни в Палестине на литовском хуторе («Очарованье сатаны»).
Через конфликт противоположностей в этих характерах реализуется художественный замысел Кановича – изображение жизни как длящегося морального выбора, где память играет решающую роль. В этом сплетении психологии и моральной философии прошлое сближается с настоящим, и каждая ситуация предстает одновременно в двух ипостасях, как историческая и актуально-современная.
Такое «пограничное», выражаясь языком экзистенциальной философии, положение персонажей в мире, обществе и внутри самих себя делает их особенно интересными для исследовательского взгляда писателя. Обусловленное историческими обстоятельствами «еврейское» начало вступает в сложные отношения с вечным, «общечеловеческим», заставляя критически относиться к любой идеологической истине. Вот, например, разговор Даниила с литовским подпольщиком-коммунистом Пранасом на улице гетто («Свечи на ветру»):
– Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
– За кем?
– За народом.
– Народов много.
– Народ один. Советский. Понял?
– Понял, – говорю я, стараясь не глядеть на Пранаса.
– Каждый должен внести свою лепту.
– А что такое лепта?
– Лепта – это вклад…
– А у меня ни лепты, ни вклада…
При всей своей безусловной преданности борьбе коммунистов против нацистской оккупации Даниил не готов отдать себя целиком коммунистической идеологии.
И все-таки: насколько современны романы и повести Григория Кановича? Какому времени они принадлежат: своему, нашему или какому-то третьему, прошедшему или еще не наступившему? Кому они адресованы – современному «пост-советскому», «русскоязычному» читателю, интересующемуся «еврейской темой», но хорошо помнящему и понимающему советские реалии?
Безусловно, и, возможно, в первую очередь именно такому. Можно даже утверждать, что из всей литературы, написанной и изданной в СССР, Канович на редкость хорошо «сохранился». При перечитывании его тексты не только ничего не теряют, но и приобретают новые смыслы и новую глубину. Взять, например, роман «Слезы и молитвы дураков», вышедший в Вильнюсе в «застойном» 1983 году. Я купил его через пару лет в литовском курортном городе Друскининкай, и до сих пор помню ощущение нереальности от прочтения этой книги – как будто оказался в другой стране и другом времени. Но перечитывая эту книгу сейчас, не меньше удивляешься ее актуальности тогда и сейчас. Тон задает уже начало:
– Душа больна, – пожаловался рабби Ури, и его любимый ученик Ицик Магид вздрогнул.
– Больное время – больные души, – мягко, почти льстиво возразил учителю Ицик. – Надо, ребе, лечить время.
– Надо лечить себя, – тихо сказал рабби Ури.
О каком времени здесь идет речь – о начале двадцатого века, когда происходит действие романа, или же о начале 1980-х годов, когда роман был написан и опубликован? Правильным ответом будет, наверное, и – о том, и о другом; и в этом скрыт секрет мастерства обращения Кановича со временем. Давно исчезнувшее, забытое, даже экзотическое, еврейское прошлое заново переживается в настоящем, не теряя при этом ни своей историчности, ни злободневности.
Здесь уместно сделать небольшое отступление об этнографической точности Кановича. Его художественная память точно фиксирует традиционные еврейские практики поведения, на которые лишь недавно обратили внимание антропологи. Например, в романе «Местечковый романс» есть эпизод с угощением литовского полицейского мацой на праздник Песах. Как показал в своем исследовании петербургский этнограф Александр Львов, этот обычай был и остается широко распространен среди евреев бывшей черты оседлости, особенно в тех местах, где еще бытуют легенды об использовании евреями христианской крови для выпечки мацы. Львов полагает, что угощая мацой своих христианских соседей, а особенно представителей власти, евреи как бы предохраняли себя от возможных обвинений.[2]2
Львов, А. Л. «Межэтнические отношения: угощение мацой и «кровавый навет» / Штетл XXI век. Полевые исследования. Сост. В. А. Дымшиц, А. Л. Львов, А. В. Соколова. СПб, 2008. С. 65–82.
[Закрыть]
Другой интересный с этнографической точки зрения эпизод мы находим в повести «Лики во тьме», где врач-еврей в глухой казахской степи просит героя, юного Гирша-Гришу, научить его говорить на идише. Зачем?
– Я тебя буду лечить, а ты… ты меня потихонечку учить… Дед мой – Рыбья Кость [фамилия деда – Фишбейн, по-русски буквально – «рыбья кость»] обрадуется… Кончится война, приеду в Белую Церковь, приду на кладбище, если оно к тому времени сохранится, найду могилу и скажу: «Здравствуй, дед! Я вернулся. Ты слышишь? Я вернулся».
Оказывается – об этом пишет другой петербургский исследователь, Валерий Дымшиц – знание идиша до сих пор считается абсолютно необходимым для общения с умершими. Такая практика остается одной из самых устойчивых традиций в тех местечках, где еще живут евреи. Считается, что умершие предки не понимают по-русски, а их заступничество на том свете очень важно для живых.[3]3
Дымшиц В. А. «Еврейское кладбище: место, куда не ходят» / Там же. С. 135–158.
[Закрыть] Разумеется, сохранение этнографических деталей не является главной целью Кановича-писателя. Их абсолютная точность свидетельствует не только о его великолепной памяти, но и об особом художественном чувстве, роднящем его с классиками еврейской литературы – Менделе Мойхер-Сфоримом, Шолом Алейхемом, Перецом и Ан-ским.
Итак, к какой же категории отнести писателя Григория Кановича? Как представляется, ни одно национальное определение не дает верного представления о его месте в литературе. Принадлежность Кановича к русской литературе несомненна, не только по языку, но и по определенному подходу к моральным и религиозным проблемам, восходящему к Достоевскому и сближающему Кановича с Фридрихом Горенштейном, выдающимся русским писателем, также «работавшим» с еврейским материалом. Именно присутствие таких «нерусских» писателей как Канович, Горенштейн, Айтматов или Искандер и позволяет русской литературе сохранять свою «вселенскую отзывчивость», о которой говорил и Достоевский. Однако отношения Кановича (как и Горенштейна) с традициями Достоевского далеко не так просты. Во-первых, конечно, для Кановича неприемлем шовинизм и политический консерватизм Достоевского. На богатом материале двадцатого столетия, спроецированном на пространство Литвы, Канович показывает, как всякая ксенофобская и охранительная идеологии неизбежно вырождаются в насилие и ведут к убийству. Одновременно Канович, единственный среди современных «русско-еврейских» писателей, ведет активный диалог с еврейской литературой на идише и, прежде всего, с Перецом. Это «еврейское» измерение берет начало на рубеже двадцатого века, среди погромов, революции и кровавого навета, и с неизбежностью приводит к теме Холокоста, задавая вопросы о сути памяти и времени. Несколько упрощая, можно сказать, что во всех произведениях Кановича «достоевские» персонажи, неоднозначные и внутренне противоречивые личности, склонные к рефлексии и самоанализу, оказываются в «перецовской» ситуации «меж двух миров», между живыми и мертвыми, наедине со своей памятью.
В еврейской религиозной традиции принято толковать Библию на нескольких уровнях – буквальном, аллегорическом и мистическом. «Дедушка» новой еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорим во вступлении к роману «Кляча» объяснил своим читателям, что и его книгу надо читать таким же образом. Совет Менделе полезен и при чтении Кановича. Прежде всего, читатель найдет здесь полнокровные, насыщенные деталями картины жизни еврейских местечек и городов Литвы, подобных которым нет и уже не будет в литературе ни на каком языке. При более внимательном вчитывании в текстах обнаружатся тонкие и глубокие размышления о человеческой жизни, природе памяти и времени, добре и зле в катастрофическом двадцатом веке. Закончив чтение, читатель навсегда останется с персонажами, идеями и вопросами, к которым он будет время от времени возвращаться. Именно это и есть критерий настоящей литературы, независимо от ее языка, национальной принадлежности или тематики.
Михаил Крутиков,профессор славистики и иудаики, Мичиганский университет.Энн-Арбор, Мичиган. 4 ноября 2013 г.
Сон об исчезнувшем Иерусалиме
эссе

Он, кажется, снился мне еще в колыбели – задолго до того, как я впервые увидел его наяву; задолго до того, как в сорок пятом он принял меня в свои кровоточащие, задымленные войной объятия; задолго до того, как в нем вырос могильный холмик, глина которого заляпала все мои радости и навсегда окрасила в ядовито-желтый цвет все мои печали, ибо под ним нашла (нашла ли?) успокоение моя мама, да будет память о ней благословенна!
За свою уже не короткую жизнь я побывал во многих городах – в Нью-Йорке и Париже, Торонто и Женеве, Лондоне и Турине, в Праге и Варшаве, но ни один из них, величественных, неповторимых, желанных, не входил в мои сны.
Мне снился только он, единственный город на свете.
Мне снились его улицы и переулки, узенькие, как веревки, на которых веками сушилось еврейское белье, засиненное синькой несбывшихся надежд, дерзких и высоких, как утренние облака, мечтаний, ливнем обрушивавшихся на неокрепшие души дворовых девчонок и мальчишек со звучными царскими именами – Юдифь и Руфь, Соломон и Давид.
Мне снились его черепичные крыши, по которым кошки расхаживали, как ангелы, и ангелы, как кошки.
Мне снились его мостовые, где каждый булыжник был подобен обломку Моисеевой скрижали.
Мне снились его синагоги и базары – шепот жаркой, почти неистовой молитвы чередовался и перемежался в моих ночных видениях с исступленными выкриками:
– Кугл! Хейсе бейгелех! Фрише фиш!
Выкрики звучали грозно и проникновенно, как псалмы, а торговцы напоминали древних пророков – на ветру развевались их седые космы; глаза горели неземным огнем; от картофельной бабки пахло не прокопченной до черноты печкой где-нибудь на Завальной или Новогрудской, Мясницкой или Рудницкой, а жертвенниками, разложенными на вершинах Иудейских гор.
В моем детстве, которое уже само стало сном, сновидения о нем, об этом удивительном и недосягаемом для меня городе, навевались бесконечными томительными рассказами домочадцев – бабушки и дедушки, дядьев и теток, никогда и никуда не выезжавших за пределы нашего местечка, но знавших обо всем на свете не меньше, чем сам Господь Бог, – вымыслами наших многочисленных соседей, словоохотливых и скорых на выдумку (выдумками мои земляки день-деньской вышивали серую холстину жизни), голодных странников, забредавших к нам на берега Вилии и щедро расплачивавшихся за ночлег и пищу всякими байками (майсес).
Их неспешные повествования, их долгие, растягивавшиеся до рассвета истории будоражили воображение, как пасхальная Агада. Господи, Господи, сколько хмеля было в том прекрасном, в том незабываемом вранье, в той ошеломляющей, благодатной полуправде! От них кружилась голова; дом переполнялся горестно-счастливыми вздохами и восклицаниями, в которых соединялись тоска и восторг, страсть и таинственные упования.
– О! – вскрикивала моя тетя Хава и тайком утирала слезу.
Ей, старой деве, он тоже снился. Может, чаще, чем мне. Он снился ей в виде огромной, разбитой на широком зеленом лугу хупы, под которой она, вся в белом, разморенная от собственного счастья, стоит рядом со своим избранником. Там, в том удивительном городе, даже последние дурнушки выходили замуж. Там каждый божий день и каждый час женихи и невесты обменивались золотыми колечками.
Вильно для моей тети Хавы и было таким затерянным во Вселенной золотым колечком.
– Ох! – стонал как в бане от восторга при упоминании его имени дядя Лейзер.
Ему он тоже являлся во сне. Дяде Лейзеру снилось, что его избрали старостой Большой Синагоги, что у него вышитая бисером кипа, от которой голова светится в сумерках, как звезда на небосклоне. Лейзер мечтал, чтобы его похоронили рядом с Гаоном рабби Элиягу, праведником из праведников, мудрецом из мудрецов.
– Да-а-а! – смачно, в растяжку, гундосил пекарь Рахмиэль, родившийся в том удивительном городе, но младенцем привезенный в языческую Литву.
Он выпекал другие мечты – ему никакого дела не было до вышитой бисером кипы; он был согласен лежать на кладбище с кем угодно: кладбище – не супружеское ложе; но всякий раз, когда заговаривали о Вильно, он видел себя владельцем кондитерской лавки напротив Большой Синагоги, где с утра до вечера продавал пахнущие раем булочки с изюмом и корицей. Сам Всевышний после утренней молитвы заглядывал к нему, чтобы их отведать.
Из этих баек, заросших преувеличениями, как непаханное поле диковинными цветами; из этих рассказов, повергавших то в уныние, то в трепет, граничивший с лихоманкой; из этих воздыханий и восклицаний, из этих намеков и полунамеков вырастало то, чего ни под одной местечковой крышей не было, чего нельзя было узреть ни за одним окном, будь оно даже в позолоченной раме. Из них складывался образ Города городов, еврейского острова в бурном океане ненависти и чужести, образ столицы еврейского благочестия и премудрости. Из них, словно сверкающий огнями корабль, выплывал он, город наших снов.
То был удивительный корабль – он плыл одновременно по воде, по суше и по воздуху. Он заходил, как в гавань, в каждый дом, в каждую избу. Трюмы его были полны драгоценностей и сокровищ и всегда открыты для всех – бери, насыпай в карманы и душу, богач и бедняк, умный и глупец, счастливый и несчастный.
До сих пор в моих заложенных галькой воспоминаний ушах звучит его протяжный гудок, который, наверно, не умолкнет до моего смертного часа. Он будит живых и мертвых.
От сна до яви было сто тридцать километров.
Что значит сейчас, в эпоху сверхзвуковых лайнеров и мощных «Мицубиши» такое расстояние? Но тогда!.. Тогда путь от нашего местечка до Вильно казался таким же далеким, как до Большой Медведицы.
Недосягаемость умножала тоску и любовь. Как говорила моя бабушка, светлый ей рай, рафинад слаще в мыслях, чем во рту: во рту он тает, в мыслях – никогда.
Вильно никогда не таяло в мыслях тех, кого испокон веков принято называть литваками. Помню, как мой дед – сапожник Шимон Дудак, закатывая свои маленькие, как щелочки в амбарном замке, глаза и поднимая к лысому, гладкому, как бита, черепу мохнатые брови, восклицал:
– Господи! Какие там сапожники! Их шила выточил сам Всевышний!
Помню, как портной Гедалье Банквечер, почесывая свои шляхетские усы, припадая на укороченную правую ногу, открыто выхвалялся:
– Я учился шить в Вильне. Таких портных, как там, свет не видывал. Они выпрямляют горбатых!
Помню, как наш местечковый сумасшедший Мотэле, кроткий, всегда одетый в белое, как в саван, говорил:
– Вот это город! Там все – сумасшедшие. Все!
И в знак согласия с самим собой причмокивал языком.
Моя бабушка, прозванная за свою набожность Боговой невестой, рвавшаяся туда изо всех сил, шептала его имя, как шепчут имя возлюбленного, и готовилась если не к встрече, то хотя бы к короткому свиданию с ним – поднимется на второй ярус Большой Синагоги, пробормочет молитву, и Господь Бог услышит ее, простит все прегрешения, задует, как свечу, ее старость и снова возожжет ее молодость. Но мечте ее не суждено было сбыться. Как не суждено было сбыться мечтам ее сородичей и земляков, скромных и не очень удачливых тружеников – торговок рыбой, повивальных бабок, портных и сапожников, шорников и столяров, лавочников и лудильщиков, завершивших круг земной по воле Всевышнего или по воле Дьявола.
Я не могу сказать ей, моей бабушке, Боговой невесте, правду о Большой Синагоге. Я не могу сказать об этом ни одному из более чем двухсот тысяч евреев, погибших во Второй мировой войне в Литве, – ни младенцу, заживо брошенному в яму; ни старику, бормотавшему не то в огне, не то под огнем затверженное с детства «Шма, Исраэль!». Мертвые, как и живые, не верят в правду, не оставляющую им надежды. Как это так – нет Большой Синагоги? Кто говорит, что от нее и следа не осталось? Придет Мессия, и мы, мертвые, встав из могил, первыми поспешим туда молиться!.. Она, моя бабушка, еще задолго до неслыханной резни, до чудовищной косовицы, не оставившей в литовских местечках ни одного всхода, ни одного саженца, ни одной веточки на Древе Израилевом, не давала и соринке упасть на ее грезу, на ее сон, на ее любимый город. Он сиял для нее во всем своем ослепительном блеске и красоте.
До войны только один человек в нашем местечке сподобился чести побывать в нем – балагула Пейсах-Цимес, дальний родственник моего деда.
Когда он вернулся из Вильно, бабушка спросила его:
– Ну, как? Что скажешь?
Она ждала от него слов, которых до сих пор не слышала, слов, от которых в измученной душе, затянутой непроницаемыми тучами, вдруг расцветет радуга, но балагула Пейсах, зная нрав старухи, мялся, долго шмыгал красной морковкой носа, переминался с ноги на ногу, словно стоял не на деревянных половицах, а на плоту в штормовую качку.
– Город как город. Ор, толкотня, грязь… На каждом шагу евреи. А уж балагул – как собак нерезаных.
– И всё?! – ужаснулась старуха.
– Всё, – искренне пробурчал Пейсах.
– А Большая Синагога?! А могила Гаона?! А… а… а… – все звуки, жившие у нее внутри, вдруг рассыпались, улетучились, исчезли.
Бабушка закашлялась, пытаясь вытолкнуть из горла не то удивление, не то презрение к Пейсаху. Тот смешался, заморгал своими разновеликими, как две неодинакового достоинства монеты, глазами и примирительно бросил:
– Не веришь? Съезди сама!.. После Иом-кипура могу тебя взять с собой.
Но тут бабушка еще больше рассердилась.
– Ни за что, – прошипела она.
С кем угодно – только не с ним. Ни после Иом-кипура, ни на Хануку, никогда. Лучше пешком пойдет, одна, без всяких попутчиков, чем сядет в его задрипанную телегу, воняющую мочой и сырыми кожами.
С кем угодно, но не с Пейсахом, этим мужланом, этим обжорой и выпивохой, который кроме корчмы, лошадей и дорожной грязи ничего на свете не видит. Ни-че-го!..
Спасибо ей за гнев и обиду – она уберегла от порчи мои сны, не позволила законопатить трюмы плывшего по нашему тихому омуту корабля с его драгоценностями и несметными сокровищами. Благодаря ей мое детство до рокового двадцать второго июня сорок первого года заливало светом, струившимся из окон Большой Синагоги – светом веры и святости; благодаря ей оно продолжало пахнуть не извозчичьей правдой, грубой и зловонной, как конская моча или сырые кожи, а благовониями вымысла, который возвышал душу и переносил ее в иные, недоступные и прекрасные пределы; благодаря ей у меня был неосязаемый, верный талисман, оберегавший меня от зла и отчаяния.
Война не разлучила меня с городом моих снов.
Правда, я все реже и реже видел его в своих сновидениях, но жизнь то и дело сталкивала меня с людьми Оттуда.
– Я из Вильно. Ерушалаима де Лита.
Я забыл лицо своего соседа по шершавым, занозистым нарам, впившимся, как полевые слепни, в мое отощавшее тело в товарном поезде, мчавшем нас на Восток, но голос его, горестно приглушенный, хриплый, сохранил в памяти навеки.
Я не знаю, кто был этот мой попутчик – может, он был пекарем, державшим лавку напротив Большой Синагоги; может, портным, выпрямлявшим своим искусством горбатых; может, наборщиком в типографии, где на дешевой бумаге печатались еврейские буквари; может, переписчиком Торы, не сделавшим за свою долгую жизнь ни одной ошибки.
Его вынесли из душного, пропитанного потом и горем вагона товарняка на полустанке недалеко от Свердловска, положили на чужую, холодную землю, и ранняя русская вьюга замела его крупными хлопьями, укутывая, как в погребальное покрывало.
Под стук безжалостных колес, увозивших нас в неизвестность, я по слогам повторял:
– Е-ру-ша-ла-им-де-Ли-та. Е-ру-ша-ла-им-де-Ли-та…
Что это было – бред или заклинание? Наверно, все-таки заклинание. Я заклинал свой страх, свою беспомощность, я заклинал русскую вьюгу, бесконечные русские просторы, встречные русские поезда, безостановочно мчавшиеся в противоположную сторону, на войну, и обдававшие наш состав горячим паровозным паром, громкими солдатскими песнями и студеными волнами безысходности.
Возвращаясь к тем дням, я ловлю себя на мысли, что смерть моего попутчика была предвестьем чего-то большего, чем уход отдельного человека. Вместе с ним вьюга на полустанке заметала не только дорогу назад, в Ерушалаим де Лита, но и сам Ерушалаим де Лита; она укутывала в саван его черепичные крыши, по которым кошки расхаживали, как ангелы, и ангелы, как кошки; его мостовые, где каждый булыжник был подобен обломку Моисеевой скрижали; Большую Синагогу с ее арон-койдешем; она заметала непролазными сугробами мои сны.
Нет, нет, подбадривал я себя, нет на свете вьюги, способной замести город, к которому тянулись сердца всех евреев Литвы; нет такого ветра, который сдул бы в море забвения этот остров еврейской мудрости и благочестия. Он вечен, он пребудет во веки веков! Бог, наш милосердный, наш всемогущий Бог, не допустит, чтобы свершилась такая неслыханная несправедливость.
Стыдно признаться, но я в своих мыслях, в своих снах норовил не столько быть рядом с отцом и матерью, сколько с ним, Всевышним. Что могли родители? Они могли одеть и накормить, и то не досыта. Создатель же мог спасти город моих снов, сделать так, чтобы все вьюги утихли и все сугробы растаяли.









































