Читать книгу "Избранные сочинения в пяти томах. Том 1"
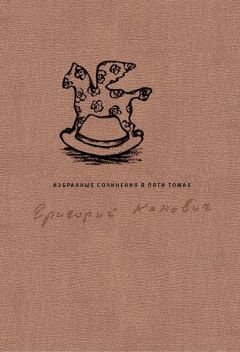
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Григорий Канович
Избранные сочинения в пяти томах
Том 1
Составитель и редактор Ольга Макаровна Канович
Автор иллюстраций Марк Канович
© Григорий Канович, 2014
© Михаил Крутиков, предисловие, 2014
© Марк Канович, иллюстрации, 2014
© Йокубас Яцовскис, оформление, 2014
© «Tyto alba», 2014
* * *

Григорий Канович, 1964
Пространство памяти Григория Кановича

На протяжении семи столетий Литва – некогда Великое княжество Литовское – была домом для одной из самых больших и знаменитых еврейских общин. Литовские князья отличались терпимостью и прагматичностью и позволяли жить в своем государстве не только христианам – православным, католикам, а позже и протестантам – а также мусульманам, караимам и евреям. Влияние и авторитет еврейской общины были настолько велики, что когда великий князь Александр, вдохновленный примером испанских «католических королей», попытался в 1495 году изгнать евреев из Литвы, ему пришлось уже через несколько лет отменить указ, и этот эпизод остался всего лишь историческим курьезом. Евреи были движущей силой экономики и в Средние века, и в царской России, и в независимой Литовской Республике. Современные историки считают, что именно евреи послужили тем элементом, благодаря которому в Восточной Европе развилась многонациональная городская культура. Благодаря их активности процветали торговля, ремесла, финансы, разного рода услуги. Они экспортировали лес, лен, пеньку и другую продукцию в Европу по Неману и Западной Двине, и они же привозили в Литву европейские товары и занимались изготовлением местных. Не имея права владеть землей, они арендовали поместья, местечки, леса, мельницы и корчмы, создавая таким образом разветвленную хозяйственную структуру. В свою очередь, Литва также оказала большое влияние на формирование особой «литвацкой» еврейской идентичности. Великое княжество Литовское было одним из самых обширных европейских государств. На пике своего могущества, в XIV–XV веках, оно занимало территорию современной Литвы, Белоруссии, а также части Украины, России и Латвии. В 1569 году в результате Люблинской Унии оно окончательно вошло в состав Польши, однако литовские евреи остались верны своему прежнему отечеству. В еврейской исторической памяти Литва – «Лите» – по-прежнему простирается от Бреста и Гродно до Стародуба и Чернигова, ее границы определяются ареалом распространения литовского диалекта идиша, положенного в XX веке в основу литературного языка. Таким образом, именно язык стал основанием исторической памяти.
Собственно этническая Литва, то есть сравнительно небольшая часть прежнего Великого княжества Литовского в среднем и нижнем течении Немана, имела свое особое еврейское название – «Замут», происходящее от литовского Жемайтия и близкого русскому «Жмудь». Именно отсюда происходят герои романов и повестей Григория Кановича. Подобно Фолкнеру, Канович воссоздал свою воображаемую вселенную, населив этот мир персонажами своего детства – прежде всего, простыми евреями, а также литовцами, поляками, белорусами и русскими. Этот литературный «проект» начался в 1970-е годы с романа «Свечи на ветру» и продолжается до сих пор. У каждого нового произведения – своя тема, свой стиль и характер, но при этом оно примыкает к предыдущим, дополняя и развивая написанное прежде. По своей манере письма Канович – реалист. Действие каждого его произведения происходит в конкретный исторический момент, все детали выверены и точны, персонажи – живые люди из плоти и крови, нередко имеющие своими прототипами реальных людей, знакомых писателю по его жизни. События описаны с убедительной точностью и подробностью, так что никаких сомнений в подлинности происходящего не возникает. И вместе с тем, читателя не оставляет чувство некоторой нереальности. Где и когда все это было? Да и было ли все это на самом деле? И где весь этот мир теперь?
Григорий Канович – наш единственный проводник в тот полностью стертый с лица земли мир литовского еврейства. Конечно, он далеко не единственный писатель, поставивший себе задачу воссоздать еврейское прошлое Литвы. Об этом писали многие авторы, в основном на идише – Хаим Граде, Авраам Суцкевер, Авраам Карпинович. Все они воспевали и оплакивали Вильно, свой «Литовский Иерусалим». Но Канович сохранил для нас и другую Литву. «Замут» имел свой собственный «Иерусалим», одну из самых первых еврейских общин Литвы – Россиены, на идише Расейн, старинный городок, полностью разрушенный во время Второй мировой войны. Россиенский уезд состоял из маленьких бедных местечек, соединенных узкой блестящей лентой Немана и разделенных дремучими лесами. Между этими двумя «Иерусалимами» и находится географическое пространство памяти Кановича. При этом, в отличие от большинства еврейских писателей и поэтов, представлявших Вильно как воплощение самого подлинного еврейства, у Кановича этот город имеет двойственную природу. Это город мечты, «Город городов», притягивающий простых евреев из местечек, но это также и изменчивый «город праведников, женихов и висельников», в котором еврейская память и идентичность постоянно подвергаются разного рода трансформациям – в отличие от местечек Замута, где время практически не движется. Расстояние между двумя «Иерусалимами», большим литовским и малым замутским – немногим более ста километров, но для Кановича и его героев «путь от нашего местечка до Вильно казался таким же далеким, как до Большой Медведицы».
Дело здесь далеко не только в особой культурной географии Кановича. Речь идет об ином взгляде, отличающем его от идишских земляков и коллег. На идише пишут, как правило, про евреев и для евреев, это еврейская литература для своего, «внутреннего» читателя. А для какого читателя пишет про евреев Канович по-русски? Какой литературе он принадлежит – «русскоязычной», «русско-еврейской» или же «русско-литовской»? Сам он однажды высказался по этому поводу определенно:
Я считаю так: нет русско-еврейских писателей, русскоязычных – тем более. Русский писатель, пишущий на еврейские темы, не должен думать о том, к какой литературе, к какой словесности он принадлежит. Если он не принадлежит русской словесности, на мой взгляд, грош ему цена. Если тебя называют русскоязычным, а не русским писателем, то есть тебя не принимают в твоем же доме, значит, ты – никакой не писатель. […] И себя я считаю русским писателем.[1]1
http://magazines.russ.ru/voplit/2003/4/kanov-pr.html
[Закрыть]
Но в отличие от практически всех пишущих по-русски литераторов, русский язык не является для Григория Кановича родным. До войны он говорил на двух языках – идише и литовском, и освоил русский лишь во время войны в эвакуации в Казахстане. Вернувшись в Литву, он окончил филологический факультет Вильнюсского университета, и постепенно занял свое особое место в литературе советской Литвы, представляя в ней как русскоязычное, так и еврейское «меньшинство». Русский язык – «язык межнационального общения народов СССР» – стал основным языком его творчества. Однако в многонациональной семье советских народов евреи занимали особое место. Сейчас иногда можно услышать, что еврейская тема была под запретом в русской литературе (теперь уже не многие помнят, что в СССР существовала и литература на идиш, но она мало интересовала «русскоязычного», в том числе и еврейского, читателя). В целом такое мнение ошибочно, но еврейская тема, как и сами евреи, действительно была на особом положении. Случай Григория Кановича – уникальный, и рискну предположить, что из всех советских республик он был возможен только в Литве, где под «прикрытием» местного Союза писателей можно было издавать книги по-русски на еврейскую тему. В силу своего происхождения и знания языка Канович был «своим» среди литовской интеллигенции, и издание его книг было определенной фрондой по отношению к Москве – во всяком случае, так это виделось из Москвы, где вильнюсские издания писателя практически не поступали в продажу.
В советское время Канович если и писал о современности, то, как правило, не затрагивал еврейские темы. Очевидная причина тому связана с цензурой, однако на более глубинном уровне такой выбор определяется и природой его таланта. Канович всегда пишет о прошлом, а не о настоящем, причем о таком прошлом, которое едва ли не сразу ускользает из «официальной» памяти.
В новейшей истории Литвы таких моментов исторической амнезии было три: Октябрьская революция и последовавшее за ней создание независимой Литвы; Вторая мировая война вместе с советской оккупацией и уничтожением евреев; и восстановление независимости в 1991 году. Каждый такой момент сопровождался радикальной переоценкой прошлого, стиранием и переписыванием его страниц. Канович же всегда сопротивлялся этой «прополке истории», говоря словами одного из его персонажей. Он воссоздает прошлое во всей его противоречивой сложности. У него нет простых и однозначных характеров, так как все они воплощают конфликты и противоречия своего времени. Как сказал о себе Шахна, еврейский идеалист, оказавшийся на службе в жандармском управлении из романа «Козленок за два гроша»: «Изнутри мы свободны, мы птицы, мы белые козы в непроглядной темноте, а снаружи… снаружи – соглядатаи, слуги, тюремщики и палачи!»
Григорий Канович открывает нам далекое прошлое – далекое не по реальному времени, а по тем глубоким провалам исторического сознания, которые в двадцатом веке разделяют соседние поколения. Поэтому время в его романах устроено сложным образом, и разобраться в этом можно только при внимательном вчитывании. Вот как эта механика времени открывается каменотесу Эфраиму, герою романа «Козленок за два гроша»:
Кроме времени, что тикает в человеке, есть еще другое время. Оно, как ходики – не внутри, а вне его. Когда ходики останавливаются, их снова заводят. О, если бы можно было так заводить то время, что внутри нас! […] Есть еще – в утешение смертным – и третье время, которое не движется, но идет им навстречу. […] То третье время – будущее, которое, увы, живым не принадлежит.
В обычной жизни нам ближе наше собственное, «придуманное» время, в котором, как размышляет Канович за своего юного автобиографического героя в повести «Лики во тьме», «куда легче жить, чем в реальном», но даже и оно нам не принадлежит. Как объясняла мудрая бабушка Роха, важнейший персонаж в биографии Кановича, «у кого ключик от времени, […] тот и его властелин. А этот золотой ключик – не на поясе у часовщика Гедалье, а у Всевышнего за пазухой. Это не хилый Гедалье по своему усмотрению заводит и останавливает время, это Он – Всемогущий и Всемилостивейший – для кого откручивает его назад, для кого подкручивает вперед» («Лики во тьме»). Такое откручивание и подкручивание времени может как уничтожить, так и сохранить прошлое, ведь «время – лучшая прачка. Оно все отстирывает» («И нет рабам рая»). Все эти разновидности времени – время личное, историческое, метафизическое, время сохраняющее и время уничтожающее – находятся у Кановича в сложном динамическом взаимодействии, определяя направления развития действия, личность героев и задавая нравственную проблематику повествования.
Произведения Кановича, представленные в настоящем собрании, можно условно разделить на два цикла. Исторический цикл открывается трехчастным романом «Свечи на ветру», за которым следует дилогия «Слезы и молитвы дураков» и «И нет рабам рая», затем – два романа «Козленок за два гроша» и «Улыбнись нам, Господи», и завершается «Очарованьем сатаны». Здесь с различных точек зрения подробно воссоздается предвоенная эпоха в пространстве между двумя «Иерусалимами», местечками Замута и Вильно. Второй цикл можно назвать автобиографическим, но при этом следует помнить, что художественное произведение по своей сути является вымышленным, а не документальным повествованием. Сюда входят в основном произведения, написанные после переезда в Израиль: «Лики во тьме», «Продавец снов», «Местечковый романс». Где-то посередине между двумя циклами находится повесть «Парк евреев», связывающая настоящее и прошлое. При всех явных различиях между историческими и автобиографическими произведениями, их объединяет общая проблематика, включающая темы морального выбора, памяти и положения человека во времени.
Первым произведением, открывшим Григория Кановича определенному – достаточно узкому – кругу читателей за пределами Литвы был роман «Свечи на ветру», вышедший в вильнюсском издательстве «Вага» в 1979-м; за ним последовала дилогия «Слезы и молитвы дураков» (1983) и «И нет рабам рая» (1985). Знакомство с этими книгами было своего рода «визитной карточкой», свидетельствовавшей о серьезном интересе к еврейской культуре. Уже в первой части романа «Свечи на ветру» – «Птицы над кладбищем» (1974), появляются сквозные для всего творчества Кановича темы, мотивы и образы. На общем фоне советской литературы того времени, подчиненной официальному оптимистическому пафосу социалистического реализма, бросается в глаза особое внимание Кановича к теме смерти, понимаемой не как исчезновение в небытие, но как уход в вечность, в особое пространство памяти, хранимой – или утраченной – потомками. Такое понимание смерти имеет свои корни в еврейской литературной традиции, и прежде всего в творчестве основоположника еврейского модернизма Ицхока Лейбуша Переца и его последователя С. Ан-ского, которые, в свою очередь, черпали вдохновение из еврейского фольклора. У Переца и Ан-ского мертвые, особенно безвременно ушедшие, стремятся обратно в мир живых, они полны страстей и желаний, но их возвращение неизбежно приводит к острому конфликту с фатальными последствиями, поскольку оно разрушает основы мироздания – как это происходит в пьесе Ан-ского «Диббук» (названной в русском варианте «Меж двух миров»).
Как реалист Канович менее склонен к парадоксам и драматическим эффектам. Он ведет свое повествование неспешно, подробно восстанавливая мелкие детали повседневного быта и иногда возвращаясь к уже сказанному. «Наша страна, ваше благородье, не Россиенский уезд, не Америка, а память. В ней мы вместе и живем: живые и мертвые, и те, которые еще не родились, но родятся под нашими крышами» – объясняет полицейскому уряднику Эфраим. Каменотес Эфраим, вырезающий из камня надгробия, могильщик Иосиф из «Птиц над кладбищем», да и бабушка Роха, являются своего рода alter ego автора, несмотря на то, что сами они были едва ли в состоянии сложить два слова на бумаге. В словах Эфраима открывается отношение Кановича к литературному ремеслу: «У каменотесов одна правда – каменная, вечная, как Моисеевы скрижали». Подлинная литература, имеющая своим основанием те самые библейские каменные скрижали, чужда общественному или политическому заказу, ибо «то, что можно высечь, нельзя заменить ни веселым враньем на площадях, ни покушением на губернаторов». По сути, романы Кановича – это эпические мацейв, резные надгробные камни на кладбище еврейской Литвы. Не случайно Даниил, герой «Птиц над кладбищем», обучается грамоте прямо на кладбище, где школьной доской его учителю служит каменное надгробие раввина:
Он вытащил из кармана сюртука мелок и что-то начертал на камне.
– Это твое имя, Даниил! Смотри и запоминай!
Я впился глазами в огромные буквы.
– Завтра его сам сто раз напишешь. А сейчас я его сотру. – Генех сорвал пучок травы, стер с надгробия надпись и сказал: – На сегодня, дружочек, хватит.
Этот эпизод показывает философскую метафоричность стиля Кановича. Начертанное мелом на надгробии и затем стертое имя героя символизирует неразрывность жизни и смерти, и их глубинную взаимосвязь, осуществляемую посредством акта письма. Кладбище у Кановича – не только школа литературы, но и основание жизни будущих поколений. Эфраим говорит:
Кладбище – это мир справедливости. Ни тебе бунтов, ни погромов, ни вешателей, ни повешенных… Надо научиться жить, как на кладбище. Как только научишься – сразу же исчезнут обиженные и недовольные, потому что все будет как в жизни, но только без жизни.
И в этой горькой иронии, переходящей из романа в роман («Мертвых надо помнить. Но от них ничего не родится…» – говорит один из героев «Парка евреев»), скрыт глубокий исторический пессимизм писателя, основанный на опыте его поколения, завершающего многовековую историю литовского еврейства.
Еврейские надгробия Восточной Европы необычайно выразительны и разнообразны, при этом они выдержаны в общем стиле. Прошлое представлено на них с помощью емких символических образов – зверей, растений, предметов обихода, включенных в сложную орнаментальную структуру из текста и абстрактных фигур. Все эти элементы присутствуют и в прозе Кановича, разворачивающей их символический потенциал в подробное повествование. Люди, деревья, животные населяют художественное пространство на равных, часы тикают с «чешуйчатыми циферблатами, с цепочками-плавниками», отсчитывая время внутри человека, а белый козленок, одновременно символ жертвы и надежды, путешествует из одного романа в другой. В казахской степи сам автор, Гирш-олень, получает новое имя, Гриша, давая рождение русскому писателю Григорию Кановичу («Лики во тьме»). Воображение встречается с реальностью, как жизнь встречается со смертью, открывая символический смысл обыденных предметов. Даниил в «Свечах на ветру» растет на кладбище, в буквальном смысле между жизнью и смертью, как бы предвосхищая свой будущий жизненный путь из местечка в гетто.
Канович выводит своего первого героя из обыденного пространства и времени. Внук часовщика, по настоянию бабушки он должен выбрать другую специальность, которая освободила бы его от зависимости от времени:
– Пока я жива, ты часовщиком не будешь, – отрубила бабушка. – Тоже мне, прости господи, ремесло!.. У одного имеются часы, другой время по солнышку определяет, третьему и вовсе нет никакого дела до того, пять часов сейчас или девять.
Насыщенная многозначным символизмом философская фактура прозы Кановича неотделима от злободневной реальности. И прошлое, и настоящее насыщены политикой. Сын своего времени, Канович пристально исследует психологию политического протеста и конформизма. Саул, отец Даниила из романа «Свечи на ветру», сидит в тюрьме за коммунистическую деятельность в «буржуазной» Литве – на первый взгляд, такой сюжетный ход выглядит как определенный компромисс с советской идеологией ради публикации романа. Однако при ближайшем рассмотрении, как всегда у Кановича, все оказывается сложнее. Независимая Литва совсем не была раем для евреев, и их активное участие в коммунистическом движении имело свои веские основания. После короткого свидания с сыном Саул отправляется бороться с мировым порядком в Испанию, оставив сына сиротой, но передав ему по наследству свое обостренное чувство социальной справедливости. Коммунистическая политика важна здесь для Кановича не сама по себе, как борьба за конкретные цели и идеи, а как особое нравственное состояние личности. Как художнику ему одинаково интересны как те, кто борется против власти, так и те, кто ее охраняет. Саул восстал против мирового порядка, а мировой порядок – объясняет Даниилу учитель Рапопорт – «это, прежде всего, полицейский участок». Но, продолжает учитель, «хороших полицейских не бывает» – и единственным выходом для мечтательного мальчика остается его желание стать птицей и покинуть эту страну несправедливостей, где революция и полиция не могут существовать друг без друга. Бунтарей и охранителей объединяет не только общее время и пространство, но и некая психологическая взаимозависимость. Эти типажи переходят из романа в роман: так, героический подпольщик Саул перерождается в дядю Шмуле в «Местечковом романсе» – романе, написанном уже в другую историческую эпоху, когда коммунисты из советских героев превратились во врагов Литвы.
Тюрьма, как и кладбище, занимает важное место в художественном пространстве Кановича, обозначая пограничье между свободой и рабством. Оба эти состояния в равной степени приложимы и к заключенным, и к их тюремщикам. Один из самых интересных и противоречивых характеров такого рода – жандармский следователь Князев из «Козленка за два гроша». Просвещенный и современный человек, он прекрасно понимает своих политических подследственных и даже во многом разделяет их взгляды, но при этом не менее искренно служит режиму. Князев имеет определенное сходство с царским жандармским полковником Зубатовым, безуспешно пытавшимся подчинить революционное движение целям сохранения режима. Литературным предшественником Кановича в изображении психологии политической борьбы и власти можно назвать Достоевского, несмотря на очевидную разницу в мировоззрении двух писателей. Неслучайно в «Козленке за два гроша» проскальзывает имя следователя Павла Пафнутьевича, как бы намекая на Порфирия Петровича из «Преступления и наказания». В своей основе роман Кановича имеет известный исторический эпизод, неудавшееся покушение еврейского рабочего Гирша Леккерта на виленского генерал-губернатора в 1902 году. Эта история вызвала горячую дискуссию о допустимости террора в рядах Бунда – еврейской рабочей партии марксистского направления – и получила отражение в литературе и искусстве, в том числе и в ранние советские годы. Позже, с утверждением сталинизма, Бунд оказался вытеснен из истории революционного движения, и Леккерт исчез из советского пантеона героев революции. Канович обращается к этому эпизоду не с целью восстановления «исторической справедливости» или создания собственной версии исторических событий. Для него Гирш Дудак (прототипом которого послужил Леккерт) важен, прежде всего, как непримиримый радикальный оппонент в идейном споре с преданным защитником режима Князевым и со своим братом Шахне, пришедшим работать переводчиком в полицию из идеалистических устремлений и поневоле оказавшимся по другую сторону баррикад.
Тема политической борьбы и стремления к власти достигает своего апогея и одновременно обессмысливается в романе «Очарованье сатаны». В июне 1941 года в местечке Мишкине сходятся все нити повествования, начатого в предыдущих романах исторического цикла. Персонажи и их потомки возвращаются из разных краев в «дремучую Жмудь», к старинному кладбищу, где «тоже кто-то должен жить» – навстречу грядущей гибели. Здесь встречаются представители всех идейных направлений двадцатого века: коммунизма, сионизма, традиционного иудаизма и ассимиляции. Их горячие споры о будущем еврейского народа разрешаются общей трагедией Холокоста. Тут уже на сцену выходят литовские националисты, горящие желанием отомстить евреям за операцию по массовому выселению «неблагонадежных элементов», проведенную советскими карательными органами на «воссоединенных» западных территориях за неделю до начала войны.
Канович выстраивает свое повествование об этом критическом моменте с необычайной деликатностью и пониманием. Он проводит читателя через лабиринт взглядов и позиций, показывая, как страхи, страсти и расчеты отдельных людей складываются в необратимую разрушительную силу, уничтожающую одних и подчиняющую себе других. Евреи пропадают из местечка практически незаметно, еще до установления твердой немецкой власти, и по мере их исчезновения центр повествования постепенно смещается от еврейских персонажей к литовским.
Канович не живописует жестоких сцен мучительной гибели евреев, для него важнее показать внутреннюю трансформацию характеров. Несмотря на ужас происходящего, повествование сохраняет свою неторопливую размеренность, и обыденная жизнь местечка продолжается без евреев со своими повседневными заботами и мелкими интригами.
Название романа отсылает читателя к «Бесам» Достоевского, однако взгляд Кановича на проблему происхождения зла иной: историческая катастрофа для него не является продуктом заговора нескольких «одержимых» злодеев, а проявлением сил, неподвластных отдельным личностям. В свое время пороки царского режима привели к революции, породившей советскую диктатуру, которая, в свою очередь, разрушила слабую авторитарную общественно-политическую систему Литвы. Нацисты доделали то, что начали коммунисты, сумев привлечь на свою сторону дезорганизованное и дезориентированное литовское население, возбудить в нем инстинкты насилия и направить их против евреев. В этой ситуации человеку остается лишь его собственный нравственный выбор, но не в его власти изменить ход «грандиозных исторических событий». Бог не может никого спасти – по выражению одного героя, он ушел в отпуск, оставив за себя дьявола. «Достоевский» вопрос в романе задает Элишева, один из «пограничных» персонажей: «…почему сатане, который всякий раз прикидывается Мессией, удается заманить человека в свои сети и сделать прислужником зла? Чем он его подкупает и очаровывает? Может, тем, что, в отличие от Господа Бога, он требует от человека не жертвенности, а жертв, обещая в награду не призрачное Царство небесное, а земное, немедленное счастье, и находит виновников во всех его бедах и напастях? Только кликни, и он, вездесущий, тут же, не важно, в чьем обличии – немца или литовца, русского или еврея, – явится и оправдает твою ненависть и твою месть. И благословит тебя даже на убийство. Какой же верой, какими доспехами надо себя оковать, чтобы устоять перед ним и не поддаться его простым и неотразимым чарам?» Как кажется, по мысли Кановича, таким «доспехом» может послужить память, позволяющая снова пережить прошлое и осознать сделанные выборы. Об этом он напоминает словами своей матери: «Человек жив до тех пор, пока он помнит то, чего ни при каких обстоятельствах не должен забывать». Однако память не может вернуть прошлое или повлиять на будущее, и это становится особенно ясно в «волчьи времена».
Смерти противостоит свобода, метафорически выраженная в образе птиц. Этот контраст обозначен уже в названии первой части романа «Свечи на ветру» – «Птицы над кладбищем», и проходит сквозной темой через все тексты Кановича. Птицы часто являются герою во сне – именно во сне происходит переход из одного измерения времени в другое, сны служат своего рода трансмиссией памяти. Так, подобно фигурам на картинах Шагала, Даниил поднимается во сне над убогой реальностью местечка:
Мне снилось, будто я на самом деле стал птицей, будто парю в безоблачном небе над базаром и лавкой, над синагогой и кладбищем, местечковые мальчишки палят в меня из рогатки, а дылда Пейсах, ученик балагулы Цодика, кричит: «Даниил!.. Не задавайся! Не то мы тебе сейчас покажем. Куда летишь, дурак?
Но я взмываю все выше и выше, к самому солнцу, оно обжигает мои крылья, но они не горят, только отливают черным праздничным блеском, как сапоги господина офицера, и вот уже я рею над райскими кущами, и кущи эти так похожи на сад доктора Иохельсона, только яблони повыше, и свисают с них не антоновки, не ранеты, а золотые слитки, и стая ангелов кружит над ними и садится на ветки, и я сажусь, и ангелы заводят со мной разговор на своем небесном языке о разных разностях, расспрашивают, кто я такой и откуда, и я рассказываю им про тюрьму и богадельню, про моего первого учителя господина Дамского и опекуна – могильщика, про доктора Иохельсона и его сына Шимена, который не верит, что человек может стать птицей, и ангелы слушают, раскрыв свои непорочные рты, и диву даются, а один даже начинает всхлипывать, и слезы его, как капли дождя, падают вниз, на далекую землю, которую я никогда больше не увижу.
Можно удивиться, как такой «религиозно-мистический» фрагмент мог появиться в советском издании 1978 года. А в сегодняшней Литве найдутся, наверное, такие читатели, у которых вызовут раздражение совсем другие строки этого романа, описывающие советскую оккупацию как освобождение:
Было время, когда меня с миром связывала одна дорога: от кладбища до местечка и от местечка до кладбища. Ничего особенного на ней не происходило. Ну что может произойти на дороге мертвых? Родственники плачут, покойник молчит…
В сороковом дорога мертвых ожила. По ней весело грохотали краснозвездные танки.
Я выходил на обочину, провожал их взглядом и однажды даже притронулся к гусеницам. Следы их напоминали таинственные письмена.
Но Канович ничего не менял и не меняет в своем тексте ради удовлетворения господствующей в данный момент точки зрения на историю.
В соответствии с советской теорией исторического романа, в нем непременно должны присутствовать известные исторические персонажи. Канович не придерживался этого правила, хотя некоторые его герои, как, например, Гирш Дудак, и имеют реальных прототипов. Как правило, действие происходит среди «маленьких людей», не оставивших следа в исторических анналах и сохранившихся лишь в недолгой и ненадежной памяти их младших современников и потомков. Отказываясь от укорененности в «большой» истории, Канович как бы подчеркивает эфемерность и хрупкость прошлого, но также и указывает на его близость к вечности, перед которой равны все люди. В исторической реальности всякое событие происходит однажды, однако оно оставляет многочисленные следы в пространстве памяти, преломляясь в сознании прямых и косвенных его участников. Отсюда возникает определенная цикличность, повторяемость прошлого, которая бросается в глаза при перечитывании произведений Кановича. Это происходит, конечно же, не от скудости творческого воображения автора. Отдельные детали, эпизоды, повороты сюжета переходят из одного произведения в другое подобно вариациям музыкальных тем. Возвращение к прошлому и его переписывание – результат постоянной работы памяти, отражающей сложность прошедшего и настоящего времени. Тема детства в довоенном литовском местечке, начавшаяся в «Птицах над кладбищем», исчезает на годы, чтобы снова возникнуть, в иной, автобиографической, вариации в «Местечковом романсе». Герой романа «Свечи на ветру» наследует кладбище как свое владение в момент разворачивания мировой катастрофы и оказывается в гетто, а герой «Местечкового романса», как и сам Канович, успевает спастись вслед за отступающей Красной армией, чтобы вновь встретиться с читателем в увиденном из Израиля Казахстане. Бабушка Роха, оставшаяся на кладбище в Йонаве, продолжает воспитывать своего внука в Казахстане, чтобы затем снова ожить главной фигурой в «Местечковом романсе».
Заключительные страницы «Местечкового романса» завершают цикл исторический и возвращают к началу автобиографического:
Каждый божий день эти смешные, эти щемящие воспоминания о временах минувших призрачными облаками клубились в нашей коммунальной квартире на проспекте имени генералиссимуса Сталина, куда Вильнюсский горисполком одним махом вселил три обездоленные семьи, вернувшиеся с безотрадной чужбины на родину. По вечерам недавние беженцы всласть вспоминали довоенную жизнь, воскрешали в памяти то, что вытесняло из головы беды, пережитые и новые, накатывавшие и с каждым днём усиливавшиеся страхи и тяготы. С голых, наспех перекрашенных стен, на которых не было ни картин, ни зеркал, казалось, гурьбой спускались в коммуналку пропавшие в войну земляки и соседи. Изо всех углов, заваленных нераспакованными баулами и вещмешками, из чудом сохранившихся фотоальбомов и разрозненных пожелтевших снимков, как из расстрельных рвов и ям, группками и поодиночке выныривали на свет божий убитые отцы и матери, братья и сёстры. Мёртвые спешили на долгожданную встречу со своими живыми родственниками, с теми, кто чудом уцелел на чужбине.
Тут удивительно переплетались разные судьбы, неизбывное горе и несбыточные надежды, смыкались прошлое и настоящее, которое сулило новые непредвиденные испытания и грозные непредсказуемые опасности. […]
По вечерам на проспекте имени генералиссимуса Сталина за общий стол усаживались воскресшие в этих воспоминаниях обе мои бабки и оба деда, все тетки и дядья и вместе с ними все канувшие в небытие земляки и соседи. Далёким эхом откликались их голоса, манера речи, которые с удовольствием копировала и воспроизводила неугомонная заводила и пересмешница – моя мама. Эти голоса и речи, бывало, не смолкали до самого рассвета.
Действие самых современных по времени повестей «Парк евреев» и «Продавец снов» происходит в момент очередного, на этот раз мирного, исторического перелома – конца советской империи. В системе координат пространства памяти Кановича это одновременно является и моментом переосмысления прошлого, причем происходит оно по двум различным направлениям. В Париже – как и вообще на Западе, и Израиле – литвацкая память становится товаром, за который можно получить неплохие деньги. Метафорический образ «продавца снов» несет в себе моральную проблему: позволено ли спекулировать на прошлом, участвовать в бизнес-проекте «Еврейская Литва», создаваемом из расхожих стереотипов «идишкайта». В противоположность Западу, где спрос на еврейское прошлое устойчиво растет, в самой Литве, обретающей свою независимость, несколько «забытых евреев» никому не нужны. День за днем они приходят в Бернардинский сад в Вильнюсе, в эту «общую, раскинувшуюся под открытым небом молельню, в которой каждый из собиравшихся был и богомольцем, и раввином, и старцем, и юнцом», подобно тому, как их отцы и деды, да и сами они в детстве, приходили на ежедневную молитву в синагогу. Их «вымокшие в крови и заметенные золой» воспоминания далеки от «товарной» местечковой ностальгии, за которой приезжает в Вильнюс американский профессор-идишист Фишман:









































