Читать книгу "Избранные сочинения в пяти томах. Том 1"
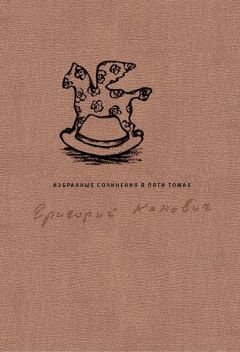
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дед схватил гусей и помчался к резнику. В дверях он чуть не сбил с ног парикмахера господина Дамского…
– Приболели в дороге? – пропел господин Дамский.
– Сквозняком в тюрьме прохватило, – сказала бабушка.
– Как вас встретил Саул?
– Прекрасно. Упал на грудь. Просил прощения.
– Поумнел в тюрьме, – ответил Дамский.
– И еще просил, чтобы вы про моего внука и его мизинец не забыли.
– Бабушка! – не вытерпел я.
– Достань, Даниил, из комода бритву для господина Дамского. Она бреет, как смерть.
Я открыл комод, достал оттуда подарок американского дядюшки и бережно подал парикмахеру.
– Поправляйтесь, – сказал Дамский.
– Приходите на похороны, – сказала бабушка.
– Да Бог с вами! – пристыдил ее мой будущий учитель.
– Я хочу, чтоб на моих похоронах собрались самые близкие люди и чтоб кто-нибудь пришел с гусем под мышкой.
– С гусем под мышкой? – У господина Дамского поползли, как червяки, вверх подкрашенные брови.
– Пусть гусь скосит глаз в яму и простит меня, злодейку… Приходите!
Парикмахер поклонился и вышел. Бабушка закрыла глаза, и я подумал, что больше она их никогда не откроет. Я подошел на цыпочках и ущипнул ее.
– Ты что делаешь, негодник? – напустилась на меня бабушка. – Человек умирает, а он щиплется…
Скрипнула дверь, и в комнату вошел могильщик с мешком в руке. Из мешка доносилось жалобное мяуканье.
– Я принес кошку, – сказал одноногий.
Кошка выскочила из мешка, огляделась и прыгнула на кровать к бабушке.
Старуха погладила кошку и сказала:
– Ты обещал отблагодарить меня, черт полосатый?
Иосиф промолчал.
– Я как-никак твоя бывшая невеста. Где же ты меня, Иосиф, похоронишь?
– Да ты всех нас переживешь, – пробормотал одноногий.
– Послушай! – сказала бабушка. – Похорони меня где-нибудь на пригорке. Там земля мягкая и теплая, как перина. И еще оттуда виден базар.
Бабушка, видать, бредила. О каком базаре она говорит? Разве она из-под земли его увидит?
– Хорошо, – сказал могильщик. – На пригорке так на пригорке.
– И глубоко меня не зарывай. Я и на том свете хотела бы услышать, почем в местечке пух и рыба.
– Хорошо, – сказал могильщик. – Отдыхай.
Неслышно вошел дед с прирезанными гусями.
– Господин резник тебе кланяется, – сказал он.
– Спасибо. Не теряйте времени, принимайтесь за работу. Мой бывший жених вам поможет. Поможешь, Иосиф? – обратилась она к могильщику.
– Не беспокойтесь, сейчас мы их ощиплем, – сказал одноногий.
Мы сидели и втроем щипали белых гусей. По комнате носился легкий, как первый снег, пух. Он падал на пожелтевшее лицо бабушки, но она его не смахивала.
– Это я ломала стенные часы, – вдруг произнесла она и шевельнула опущенными ресницами. – Прости, если можешь.
– Ну и что? – сказал дед. – Можешь их ломать сколько заблагорассудится.
– Я тебя не любила, – почти шепотом произнесла старуха.
– Ну и что? – как заведенный повторял дед. – Мало ли кто кого не любит.
Комнату заметало пухом. В белоснежной дымке были и лица, и мысли, и тишина, какая бывает зимним утром на речке или на лесной опушке.
Кошка сидела на кровати и от скуки играла тесемкой длинной бабушкиной сорочки.
– Брысь, – сказал дед.
– Брысь, – сказал могильщик.
– Брысь, – сказал я.
Только бабушка ничего не сказала.
Ее похоронили, как она и просила, на пригорке. Там и впрямь земля была мягкая и теплая, как перина. Оттуда видна была колокольня костела и наш дом, старый и опустевший, как заброшенное гнездо аиста.
Мы молча возвращались домой: я, дед и мой будущий учитель господин Дамский.
– С завтрашнего дня займемся твоим мизинцем, – сказал парикмахер.
Казалось, ничего не произошло, все осталось как было.
Я шел и думал: неужели ни жизнь человека, ни его смерть ничего не могут изменить на свете? Неужели?
II
Моего первого учителя, парикмахера Арона Дамского, побывавшего когда-то в далеком и, как он уверял, большом городе Париже, разбил паралич. Стоял человек перед зеркалом, стриг дремучую бороду владельца местечковой бензоколонки Эфраима Клингмана и вдруг среди бела дня, ни с того ни с сего, выронил из старых рук машинку, искривил рот со вставными заграничными зубами и рухнул на пол, словно всю жизнь не на ногах стоял, а на деревянных ходулях.
Так на белом свете сразу стало двумя брадобреями меньше, хотя, по правде сказать, я не то что бритву – помазок в руке не держал. С утра до вечера я околачивался в парикмахерской, подносил господину Дамскому теплую воду в оловянной мыльнице, подметал чужие волосы и тяжелой мокрой тряпкой, привязанной к палке, весело бил бессовестных мух, жужжавших над ухом всякие непристойности и гадивших на зеркала и обои.
Господин Дамский лежал посреди своей парикмахерской, и в двух огромных, потемневших от времени зеркалах тускло отражалось его окаменевшее тело в белоснежном, как саван, халате.
– Хозяин! Хозяин! – бросился к нему Лейбеле Паровозник, старший подмастерье (я был младшим!), только в прошлом году переставший бить мокрой тряпкой мух и подметать чужие волосы. – Вам плохо?
– Не задавай глупых вопросов, – ответил за господина Дамского владелец местечковой бензоколонки. Он повернулся в кресле, оглядел распластанного на полу парикмахера и добавил: – Лучше подними машинку и достриги меня до конца. Если, конечно, умеешь.
– Умею, – дрожащим голосом сказал Лейбеле.
– Реб Арон полежит и посмотрит на твое искусство, – сказал Эфраим Клингман.
Лейбеле Паровозник, только в прошлом году переставший бить мух, несмело нагнулся, поднял машинку и принялся стричь дремучую бороду владельца местечковой бензоколонки, то и дело косясь на застывшего на полу хозяина и ловя его взгляд. Я готов поклясться самой страшной клятвой, но во взгляде господина Дамского не было ни возмущения, ни злости, ни укоризны. Он с каким-то изумленным испугом, почти с ревностью следил, как в руке Лейбеле стрекочет машинка, как он ловко орудует длинными, наподобие ящерицы, ножницами, привезенными лет пятнадцать тому назад из того же большого и загадочного города Парижа.
– Не спеши, – сказал Эфраим Клингман. – Когда реб Арон меня стрижет, он никогда не спешит.
И мне показалось, будто глаза моего первого учителя господина Дамского одобрительно моргнули. Я не сводил с хозяина глаз, растерянный и повзрослевший.
Когда Лейбеле кончил стричь владельца бензоколонки, мы подняли господина Дамского с пола и по витой лестнице понесли на второй этаж, как на небо.
– Горе мне! Горе мне! – запричитала жена господина Дамского, Рохэ, при виде мужа. Она была высокая, сухопарая, с усами, едва тронутыми сединой, и большой бородавкой, приютившейся в тени крючковатого носа и напоминавшей спелую ягоду клубники. – Что будет со мной? С парикмахерской? Арон! Арон! Почему ты молчишь? Почему?
Господин Дамский молчал. Молчали и мы.
– Даст Бог – поправится, – утешил Рохэ владелец местечковой бензоколонки.
– У Бога без моего Арона полно клиентов, – огрызнулась Рохэ, и Эфраим Клингман откланялся.
Я шел домой и думал о господине Дамском, о параличе, о Боге, у которого, как у парикмахера, полно клиентов, и на душе у меня было пусто, словно зимой в скворечнике. Я не испытывал ни радости, ни печали. Только жалость, как мышь, скреблась в грудной клетке. Я и сам толком не знал, чего и кого я жалел. Моего первого учителя? Себя? Усатую Рохэ? Или, может, всех вместе? Даже Бога, у которого, как у парикмахера, полно клиентов…
Всю дорогу у меня из головы не выходил взгляд застывшего на полу господина Дамского, полный скорбного изумления и испуга. Я вдруг представил себя таким же старым брадобреем, как он, представил, как стригу другую дремучую бороду другого владельца местечковой бензоколонки, как ни с того ни с сего роняю из рук машинку и падаю навсегда, навеки… Я с какой-то щемящей ясностью вспомнил всех мертвых, и прежде всего бабушку, окатившую меня с головы до ног страданием и болью из своего бездонного ушата.
Я шел домой и думал, кому теперь достанется парикмахерская? Ну конечно же не Лейбеле Паровознику. После смерти господина Дамского Рохэ ее закроет, продаст загаженные мухами и взглядами зеркала, протертые грузными мужскими задницами кожаные кресла и, может быть, даже знаменитую американскую бритву. Зачем Рохэ бритва? Усы она все равно не бреет. Бритву у нее вполне мог бы купить наш резник. Лучшего покупателя и не придумаешь.
В смерти господина Дамского я почему-то не сомневался, хотя его хитрые глаза по-прежнему были живы. Но глаза, как я слышал, дольше всего и живут. Недаром покойнику их закрывают. В прошлом году паралич разбил нашего местечкового ксендза – упал во время мессы и не встал. Уж если Бог своему верному слуге не помог подняться, то на что мог рассчитывать господин Дамский, служивший всю жизнь своей усатой Рохэ?
– Что случилось, Даниил? Почему сегодня так рано? – встретил меня дед.
Дед был плох. Он еле передвигался, почти не выходил из дому, с каждым днем все хуже видел.
– Господина Дамского разбил паралич, – сказал я.
– Слава Богу, – пробормотал дед. – Судьбе угодно, чтобы ты был часовщиком.
Я промолчал. Ну что ему ответишь? Разве скажешь правду про его слепоту, про его уши, заваленные глухотой, как подвал камнями.
– Я тебя отведу к Пакельчику. Он единственный часовой мастер, которому я могу тебя доверить, – прошамкал дед. – Мне уж, видно, не придется…
– А я не хочу быть часовщиком.
– Кем же ты, Даниил, хочешь быть?
– Хочу быть свободным.
Дед впился костлявыми пальцами в бороду и рассмеялся. Смех его рассыпался по комнате мелко и невнятно, как крупа из мешка, и в доме стало еще неуютней, чем прежде. Казалось, из комнаты, как из прохудившейся камеры, выпустили воздух, и над всем повис трупный запах резины.
– Свободе у нас в местечке никто не обучает. Таких учителей в целом свете нет.
– К Пакельчику я все равно не пойду.
– Подумай, пока не поздно.
Угрозы старика, намеки на его близкую смерть меня совсем не страшили. Я привык к ним, как к его шаркающей походке, к задушенному старостью смеху, к его слепоте и кашлю, долгому и надрывному, пугавшему среди ночи клопов за обоями и шастающих по дому мышей.
– Приходили из общины, – тихо сказал дед.
– Ну и что?
– Хотят отправить меня в богадельню.
Он снова рассмеялся, и снова его смех рассыпался по комнате, но на сей раз звучал он внятно и зловеще.
– А тебя – в приют.
– Меня? В приют? Но я не сирота. У меня есть отец.
– Подумай, пока не поздно, – повторил дед. – Если поступишь к Пакельчику, тебя оставят. Пакельчик добрый человек.
– А ты, дед?
– Мне все равно. В богадельне даже веселей. Лучше всего, конечно, на кладбище… рядом с твоей бабушкой. Но на кладбище живых пока не везут.
У него слезились глаза. Но то были не слезы, а лишенные всякого смысла капли, так после дождя каплет с местечковых крыш – кап, кап, кап, пока солнце не взойдет и не высушит их. Видно, и дед ждал, когда взойдет его солнце – смерть – и высушит его глаза, но оно все не всходило.
– Никуда тебя не отправят, – пожалел я деда.
– Отправят. Не дадут умереть голодной смертью.
– Я заработаю на двоих.
– Ты добрый, – сказал дед. – Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь оглохну и ослепну?.. Кто бы мог подумать?.. Господи, зачем ты даешь человеку глаза? Чтобы отнять их? Зачем ты даешь ему ноги?.. Чтобы стреножить их путами, как ту лошадь на лугу? Неужто немощные угоднее тебе, чем сильные? Господи!..
За окном распускались почки. Была весна, и в голубом небе носились первые птицы.
– Отведи меня, Даниил, на кладбище, – сказал дед. – Я хочу поговорить с твоей бабушкой. Два года как мы с ней не говорили. На дворе мокро. Я надену галоши.
Он надел галоши, купленные бабушкой у цыгана-конокрада, и его непослушные ноги неожиданно обрели прежнюю упругость, но только на одно-единственное мгновение. Во дворе они снова подкосились.
Бабушка была похоронена, как она и просила, на пригорке, но базара оттуда не было видно. Над могилой качала ветвями старая и мудрая сосна. Только с ее верхушки виднелась рыночная площадь с неподвижными крестьянскими телегами, длинными торговыми рядами и непременными бабами, выискивавшими дешевую картошку или яйца.
Когда я был маленьким, дед рассказывал, будто на том свете, под землей, люди живут так же, как на земле: часовщики чинят часы, портные шьют штаны, торговки рыбой промышляют, только никто не ругается и никто ни на кого не кричит, потому что мертвые на веки вечные лишаются дара речи. Боже праведный, как мне тогда хотелось, чтобы все умерли!
– Ее сейчас нет, – сказал я деду, вспомнив про его рассказы.
Старик заморгал слезящимися глазами и спросил:
– Кого?
– Бабушки, – ответил я.
– Куда ж она делась?
– На базар ушла.
– Торопиться некуда. Подождем.
Дед присел на скамейку напротив бабушкиной могилы, а я стал смахивать с надгробного камня сосновые иглы, и от каждого прикосновения к нему во мне что-то вспыхивало, и дым застилал глаза, и сердце билось учащенней, и неколючие иглы мудрой сосны вонзались в него упрямо и больно.
– Слышишь? – сказал я деду.
– Что?
– Идет.
– Кто идет? – Старик все забыл.
– Бабушка.
Дед встрепенулся, встал со скамейки, подошел поближе к надгробию, облизал бескровные губы и издал странный, похожий на птичий крик, звук, заменивший и вздох, и стон, и рыдание. Он молча стоял над могилой, и во всем его облике – в высохшем, заросшем не щетиной, а как бы сосновыми иглами лице, в поношенном, затхлом пальто, в потускневших, соскучившихся по лужам галошах – не было ни печали, ни горя, а только сожаление о чем-то несбывшемся и безвозвратно ушедшем. Он словно прирос к маленькому клочку земли, как растрепанный куст малины или орешины, на которой не осталось ни одной завязи.
Дед что-то шептал. Он, видно, прощался с бабушкой, просил у нее прощения за то, что вовремя не умер и не лег рядом, как ложился изо дня в день без малого пятьдесят лет. Старик конечно же ничего не сказал ей про богадельню, потому что бабушка и вовсе перестала бы его уважать – не место в богадельне мастеру, даже если он и часовщик.
– Поговорили? – спросил я.
– Поговорили, – сказал дед. – Она со мной согласна.
– В чем?
– Ты должен поступить к Пакельчику. – Дед похлопал меня по плечу и улыбнулся.
Над кладбищем ликовали птицы.
– Я хочу быть не часовщиком, а птицей, – сказал я.
– Ты, Даниил, сумасшедший. Первый сумасшедший в нашем роду, – беззлобно ответил дед.
– Почему бы Господу не превратить всех стариков в птиц? Зачем Он отнимает у вас глаза и уши? Будь я Господь Бог, я превратил бы тебя, дед, в голубя, например.
– В голубя? – Слова мои польстили старику. От удовольствия он даже крякнул.
– Жил бы ты, дед, на крыше синагоги или под куполом костела, летал бы над местечком и никогда не попал бы в богадельню.
– Разве клюв ястреба лучше богадельни?
– Ты же, дед, мастер. Ты бы увернулся от ястреба.
– Положим, ты Господь Бог. В какую же птицу ты превратил бы бабушку?
– Бабушку?
– Да, да, бабушку. – Дед торжествовал. Он застал меня врасплох. – В ворону? – И старик кощунственно захихикал.
– В гуся, – сказал я с обидой.
– Хо-хо-хо, – стонал дед. – Назавтра же ее отнесли бы к резнику…
– Перестань! – закричал я. – Как тебе не стыдно?!.. Диких гусей никто к резнику не носит… Дикие гуси живут не на земле, а на озерах… Я знаю…
– Ладно, ладно, пусть будет по-твоему, Господь Бог!..
Мы бродили с ним по кладбищу. Дед то и дело останавливался, переводил дух, щурился на надгробия и приговаривал:
– Боже милостивый! Сколько знакомых птиц здесь зарыто!
Меня распирала злость на деда. Ну что я такого сказал, чтобы так надо мной подтрунивать и хихикать? Разве я виноват, что я не Господь Бог? Хотя и Он, как я успел убедиться, тоже не такой уж всемогущий. Приводит в мир человека и уводит обратно, но пока Бог является за ним, человек мучается где-нибудь в парикмахерской, часовой мастерской или в богадельне, будто вовсе и не Бог его создал. Мне за мои неполные двенадцать лет Всевышний, можно сказать, ни разу не помог, если не считать того случая, когда я тонул. Но спас меня не Господь Бог, а Пранас. Бога тогда на реке не было. Бабушка, правда, со мной не согласилась и в первую же субботу поволокла меня в синагогу, чтобы воздать спасителю благодарственный молебен.
– Это он Пранаса прислал на реку, – уверяла она.
После молебна я побежал к Пранасу и спросил:
– Тебя Бог послал?
– Куда?
– На реку.
– Меня послала мамка. За водой, – ответил Пранас и вытаращился, как будто видел меня впервые.
Когда мы уже уходили с кладбища, в деревянные, подгнившие ворота въехала телега, груженная тяжелыми серыми камнями. На камнях сидел Иосиф и покрикивал на плюгавую лошаденку, увязшую передними ногами в щедрой весенней грязи.
– Но, проклятая! Но! – Одноногий слез с телеги, уперся руками в тощий зад лошаденки и сказал: – Обоих бы вас в богадельню.
– Откуда ты знаешь про богадельню? – уязвленно прошамкал дед и еще более ссутулился.
– Я все знаю, – буркнул Иосиф. – А ну-ка, Даниил, зайди-ка сзади и покажи моей уродине, на что ты способен.
Я зашел сзади, но показать его уродине, на что я способен, так и не смог. Телега была как бы запечена в грязь.
– Болтуны в общине сидят, – пожаловался дед. – Делать им нечего, вот и чешут языками.
– Ты слишком высокого мнения о себе, – сказал одноногий. – Теперь у всех на языке кое-кто другой.
– Кто же такой?
– Гитлер! Но, проклятая! Но!
– Гитлер? Гитлер? – Дед задумался. – Он случайно не из Укмярге?
– Он не из Укмярге, а из Берлина.
– Ну и что?
– Замечательный человек, – насмешливо продолжал могильщик. – Первый друг евреев.
– У кого он остановился? У Клингмана или у Пьянко?
– Да ты что, с луны свалился? Гитлер – головорез, собака, сволочь последняя, – возмутился одноногий.
– То первый друг евреев, то головорез и сволочь последняя… Вот и пойми тебя.
– Гитлер первый в Германии, – подсказал я деду.
В парикмахерской моего учителя господина Арона Дамского о Гитлере судачили все, начиная с Лейбеле Паровозника и кончая тишайшим аптекарем. Даже жена господина Дамского сухопарая Рохэ спускалась со второго этажа и ввязывалась в спор. Она уверяла, будто Гитлер подкидыш, незаконнорожденный сын еврейской актрисы – «вот только фамилию забыла» – и австрийского графа, отданный на воспитание к маляру, мужлану и забулдыге. Рохэ клялась и божилась, но никто, кроме меня, ей почему-то не верил. Особенно ополчался на нее тишайший господин аптекарь. Он как вьюн вертелся в кресле, негодующе мотал лысой головой и выплевывал вместе с мыльной пеной изо рта не совсем аптекарские выражения. Мой первый учитель господин Арон Дамский рассказывал не столько о Гитлере, сколько о его парикмахере – «между прочим, нашего с вами вероисповедания», – о том, как у него, у того иудея, дрожат руки, когда он берется за знаменитые на весь мир усики. Я слушал и никак не мог взять в толк, за что же самый главный вождь в Германии так не любит нашего брата, если мать у него еврейская актриса, а парикмахер – нашего вероисповедания.
– Но, проклятая! Но! Чтобы черти твои кишки зажарили! – бесился Иосиф, но кляча и не думала двигаться. Она смотрела своими большими глазами в небо, на облако, напоминавшее другую лошадь, и, видно, завидовала ей, неземной, не знающей, что такое весенняя распутица и брань одноногого человека.
– Сбрось один камень с телеги, – посоветовал дед.
– А кто его потом поднимет? Ты? – огрызнулся могильщик. – Пусть стоит, проклятая, пока солнце не пригреет и земля не подсохнет.
Одноногий пригласил нас к себе в избу.
В избе было голо и пусто. В углу стояла незастеленная кровать, жесткая и непомерно широкая, как плот на реке. Грубый дубовый стол был без скатерти. На нем одиноко чернела глубокая глиняная миска с двумя картофелинами в мундире. Рядом валялись какие-то кости, не то селедки, не то сушеной рыбы. Я вспомнил, как на том же столе лежала костлявая, завернутая в саван бабушка, как тихо и заученно молились десять стариков, не считая меня и деда, и как после заупокойной молитвы приказчик Гедалье желчно сказал: «Все мы на этот стол ляжем».
Я глядел на стол, на глиняную миску, но видел совсем другое. Я видел на столе и себя, и деда, и самого могильщика, и мне хотелось бежать отсюда на чистый весенний воздух, к реке, вздувшейся, как живот беременной Суламифи, дочери нашего местечкового лавочника.
– Чем же вас угостить? – Иосиф открыл шкаф и оглядел его содержимое. – Может, выпьем по маленькой?
– Выпьем, – сказал дед.
Иосиф поставил на стол бутылку.
– Я хочу быть пьяным, – сказал дед.
Ну и ну! Ничего подобного я от него не слышал. Дед презирал пьяниц, считал их последними людьми.
– Ты будешь пьяным, – пообещал Иосиф и налил старику стакан.
Дед выпил и сразу же захмелел.
– Я хочу быть голубем, – сказал он нетвердо.
– Ты и так голубь, – сказал могильщик.
– Нет, нет, – замахал руками дед. – Ты меня не понял… Я хочу жить на крыше синагоги и летать над местечком…
Иосиф сочувственно пожевал губами, уставился на деда, на его беззубый, обожженный непривычно крепким напитком рот, на поникшие плечи, с остервенением осушил стакан и спокойно сказал:
– Даниила я беру к себе.
– Я не собираюсь жить на кладбище, – сказал я и поежился.
– Всю жизнь человек живет на кладбище, малыш, – сказал одноногий. – Разве мир – не огромное кладбище? Разве дома – не надгробия?
– Не отдам Даниила, – воспротивился дед.
– В богадельню он с тобой не поедет, – гнул свое Иосиф.
– Я и сам туда не поеду, – процедил дед. – Никто меня не заставит. А Даниила я завтра же отведу к Пакельчику.
– Дерьмо твой Пакельчик! – выругался одноногий и обратился ко мне: – Я слышал, ты с самим Богом соперничаешь, людей и зверей из глины лепишь?
«Откуда он все знает?» – поразился я.
– У меня тут глины столько, сколько у нашего племени бед. На твой век хватит. Лепи себе на здоровье. А еще я тебя, малыш, научу высекать на камне старинные письмена, – уговаривал меня одноногий.
– Твои письмена – дерьмо, и глина, и камни, – пьяный дед едва ворочал языком. – Не отдам я тебе Даниила. Ни за какие сокрови…
Старик не договорил, уронил голову на стол, где стояла глиняная миска с двумя картофелинами в мундире. Гладкая и тусклая дедова голова сама походила на прилежно очищенную картофелину со вздрагивающими голубоватыми прожилками.
Через неделю деда увезли. Старик, не желавший и слышать о богадельне, вдруг согласился. По правде говоря, я не сразу раскусил его хитрость. Когда председатель общины, владелец бензоколонки Эфраим Клингман, принес ему билет на поезд и объяснил, как туда добраться, дед сказал:
– Одну секундочку, реб Эфраим. Я только кое-что прихвачу с собой.
– Ради Бога, не беспокойтесь. Вы будете там всем обеспечены, – заверил владелец бензоколонки и погладил свою дремучую бороду.
– Сейчас, сейчас…
Дед прошел в свою комнату и вернулся с лупой.
– Лупа? – удивился Эфраим Клингман. – Зачем вам в богадельне лупа?
– Хороший часовщик, реб Эфраим, лупу с собой даже в могилу берет, чтобы не каждый паршивый червяк его кости глодал.
– Как вы можете? – поморщился владелец бензоколонки.
– Часовщик берет лупу, портной иголку, сапожник шило, а вы?
– Что я? – надулся Эфраим Клингман.
– Вы что возьмете? Запах бензина?
…На станции дед сказал провожавшему его могильщику:
– Посмотри за Даниилом. Я скоро вернусь.
Когда поезд отошел от станции, Иосиф подошел ко мне и пробасил:
– Судьбу не перехитришь.
– Что?
– Ты знаешь, малыш, почему твой дед поехал?
– Не знаю.
– Богадельня там же, где и тюрьма. В том же городе. Старик решил повидать Саула.
Я стоял ошарашенный и едва сдерживал слезы. Бедный дед! Он, видно, забыл, что отец бежал из тюрьмы, был пойман и сослан в другой город, где-то на севере Литвы. А может, бабушка не успела ему перед смертью сказать об этом.
Вдаль убегали умытые первым весенним дождем рельсы, такие бессмысленные без поезда, без гудка паровоза и чумазого лица машиниста.
– Он сбежит из богадельни, – сказал я, глядя на рельсы и мигая, чтобы не заплакать.
– Не те ноги, – буркнул могильщик. – Ну как, малыш, пойдешь ко мне в ученики?
– Нет.
Теперь рельсы были похожи на двух пустившихся наперегонки змей.
– Настоящий мужчина не должен спешить с ответом. Подумай.
– Нет.
– Еще раз подумай. Или, может, ты соскучился по приютским харчам?
Я бросился бежать со станции и опомнился, только когда влетел во двор Пранаса.
– А Пранукас на фабрике, – пропела тетка Тересе.
– На фабрике?
– С сегодняшнего дня он на жалованье. А ты небось голоден?
– Нет.
– Приходи вечером. Тогда и попрощаетесь.
– А я не прощаться.
– Разве ты остаешься в местечке? Я слышала, будто тебя забирают в приют, – снова пропела тетка Тересе.
– Никуда меня не забирают, – сказал я и уныло поплелся на мебельную фабрику.
Во дворе фабрики всегда пахло стружкой, столярным клеем и тайной. Я иногда лазил туда через забор за щепками для растопки. Перелезу, бывало, упаду на стружки и слушаю, как поют пилы, как снуют стамески и гудят оконные стекла. Я забывал про бабушку, про нашу облезшую печь и, затаив дыхание, глядел, как широкоплечие, молчаливые парни грузят на машины или на возы полированные стулья, шкафы и даже кровати. Никогда в жизни я не сидел на таком стуле, не спал в такой кровати. Я зажмуривался и мысленно растягивался на мягком матраце, накрывался пуховым шелковым одеялом или откидывался на блестящую спинку стула и давал разные сердитые распоряжения. Но больше всего мне на фабрике нравились сами столяры. Они не были похожи ни на деда, ни на могильщика, ни на господина Дамского. Молодые и сильные, столяры порой целыми сутками бездельничали, а дед ворчал на бабушку, когда та посылала меня за щепками:
– На фабрике полиция.
– Ну и что? – как ни в чем не бывало отвечала бабушка. – Даниил же не бастует.
– Бастуй, Даниил, бастуй! – кричал дед, но я не понимал, чего он от меня хочет.
Что такое забастовка, мы с Пранасом узнали от дяди Стасиса… Почему ни разу не бастовал дед, могильщик, господин Дамский?.. Неужто они всем довольны в жизни?.. Конечно же, нет. Бабушка терзала деда каждый божий день, тянула из него, как он сам говаривал, последние соки, но ему и в голову не приходило бастовать. Куда там! Я же довольно часто устраивал забастовки, и, надо сказать, успешно. Раньше я должен был с бабушкой ходить в молельню три раза на дню, а добился того, чтобы посещать синагогу только по праздникам, а после бабушкиной смерти даже в праздники перестал туда наведываться.
Тетка Тересе совсем расстроила меня. И до нее дошел слух про мою отправку в приют. Ничего удивительного, – местечко наше маленькое, и слух облетает его за полчаса, как бабочка-однодневка.
Я послонялся по двору мебельной фабрики в надежде встретить Пранаса, но его нигде не было.
Домой возвращаться мне не хотелось. После отъезда деда все в нем вдруг осиротело. Даже кошка почувствовала себя покинутой и никому не нужной. Она сидела на пороге и по-старушечьи чего-то ждала, изредка выгибая спину и мяукая на прохожих, спешивших к своим порогам и кошкам. Было время, когда я думал, что нашей кошке, кроме мышей и бабушкиной ласки, ничего не нужно, но сперва дом оставили мыши, а потом ушла и бабушка, но кошке, одинокой и беременной, некуда было деться. Из жалости я даже вылепил десяток глиняных мышей, рассовал их под стол, под топчан и под давно остывшую печку, но она недолго ими потешалась.
Нет, домой мне совсем не хотелось.
Вечерело. Местечко укутал теплый весенний туман. Он стлался низко над землей, заливая всю округу белесым козьим молоком.
Когда я вошел в синагогу, служка Хаим, зажигавший свечи, сказал:
– Правильно, Даниил. Перед отъездом тебе надо помолиться.
– Я не молиться пришел.
– В Божьем доме не шьют и не бреют, – сказал Хаим.
– Мне нужен господин Пьянко.
Господину Пьянко принадлежала мебельная фабрика в местечке. Он был тихий, набожный человек, с обожженным лицом, украшенным бакенбардами. Когда-то на фабрике случился пожар, и господин Пьянко здорово обгорел.
– Реб Натан придет к самой молитве, – сказал Хаим и зажег еще одну свечу. – Все равно он тебе не поможет.
Служка оказался прав. Господин Пьянко выслушал меня и, поглаживая бакенбарды, объяснил:
– Как член общины я не могу нарушить слово. Решено тебя отправить в приют. Для моей фабрики ты еще слишком молод.
– Через год вернется мой отец.
– Через год и поговорим. – Господин Пьянко погладил, как собачонку, свои баки и приступил к вечерней молитве.
Туман загнал кошку домой. Я тихонько отворил дверь и юркнул в свою комнату. Не зажигая света, я разделся и лег. Кошка выскользнула из темноты, прыгнула на кровать и свернулась у моих ног, не проявлявших доселе к ней ни должного терпения, ни справедливости. В ее незлобивом урчании мне слышались не только кошачьи жалобы на несчастную долю, но и голос бабушки, низкий, с хрипотцой, винившей во всех наших муках своего единственного сына арестанта Саула.
Я лежал и старался не думать о приюте. Я глядел то в потолок, то на рваные обои, за которыми осторожно шевелились клопы. По потолку ходил синагогальный служка Хаим и зажигал, как на небе, звезды, а под звездным сводом потолка летал дед, кувыркался, как витютень, и звезды опаляли его крылья.
Мое воображение рисовало на потолке не только деда и служку Хаима. Там совершал побег из тюрьмы мой отец, Саул Клейнас, чтобы только спасти меня от приюта.
Как я ни старался забыть о приюте, мои мысли возвращались то к нему, то к могильщику Иосифу, и тогда с потолка исчезали звезды и он нависал надо мной, как надгробный камень.
Среди ночи я вдруг услышал скрип. Вслед за скрипом раздались шаги. Я вскочил с кровати и в испуге прижался к стене, как будто недружелюбные клопы за обоями могли взять меня под защиту.
– Надо на ночь закрываться, – пророкотал чей-то голос, и я узнал могильщика. Он чиркнул спичкой, и комната на мгновение осветилась неверным светом. Казалось, залетел светлячок, огляделся и выпорхнул в оконце.
Меня знобило. Мелкая дрожь пронизывала тело. Я стучал зубами, как местечковый сторож колотушкой. Одноногий снова зажег спичку и сказал:
– Однако же ты, малыш, здорово перепугался. У тебя зуб на зуб не попадает.
Иосиф поднес зажженную спичку к лампе, и от занявшегося фитиля по комнате поплыл знакомый и жилой запах гари.
– Совсем я не перепугался, – ответил я, и меня снова заколотило.
– Да ты никак захворал? – Иосиф подошел ко мне и положил на лоб руку. – Точно. А ну-ка ложись, малыш. Я тебя накрою. – Он снял свой полушубок и, когда я лег, бросил его поверх одеяла. – Хорошо? – спросил Иосиф.
– Да, – ответил я глухо.
Озноб сменился жаром. Так жарко не бывает даже в середине лета, на солнцепеке. У меня горело лицо, глаза, брови, и я все ждал, когда вспыхнут волосы и по комнате поплывет запах, похожий на запах тлеющего фитиля.
– Я останусь с тобой до утра, а утром позовем доктора, – пробасил могильщик. – Если тебе, конечно, не станет лучше.









































