Текст книги "Избранные сочинения в пяти томах. Том 2"
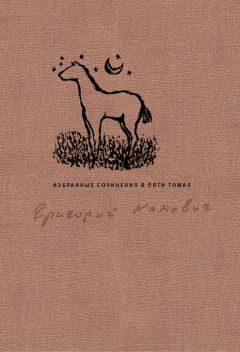
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Пока я не дал ответа, размышлял прыщавый Семен, урядник Нестерович может мне и не верить. Но стоит мне согласиться – и тому в ермолке несдобровать. Я ему что-нибудь придумаю.
Что же ему придумать?
Беглый солдат или каторжник?
Лучше – солдат. На каторжника он не похож. Каторжник в ермолке!
И прыщавый Семен рассмеялся. Смех прозвучал в пустой комнате зловеще и нелепо, и больной осекся. Куда же девалась Морта? Почему она не несет ему есть? У него как раз аппетит разыгрался.
– Морта! – позвал он.
Совсем распустилась, праведница, подумал Семен. Ее Бог, видишь ли, не позволяет ей лечь с евреем. Да разве у Бога надо спрашивать, с кем лечь в постель? У него надо спрашивать, с кем детей мастерить… Ну уж только не с безродной девкой!.. Безродная девка в матери не годится. Вот Зельда Фрадкина – она и в жены, и… Но ее, как Морту, не заарканишь. Маркус Фрадкин и аркан, и руки обрубит. Но и на него, на Маркуса Фрадкина, можно управу найти… Пусть не очень-то своим богатством кичится. Сорок тысяч саженей леса – это еще не богатство. А вот сорок… тысяч саженей пороков!.. Только нащупай его, Маркуса Фрадкина, порок и снимай урожай – Зельду.
– Морта!
Никто не отзывался.
IV
Был день как день: не пасмурный и не светлый, так, серединка на половинку. С самого утра парило, как всегда в конце июля, когда откуда-то, с того берега реки (из Германии, что ли?) вдруг хлынет духота, смешанная с влагой и испарениями, и деваться некуда, во дворе – ад, да и дома не райские кущи, сидишь и обливаешься потом. Господи милосердный, сколько его, этого пота, в человеке – реки целые!
Ночной сторож Рахмиэл сидел на столе, простоволосый, без рубахи, в одних подштанниках, и латал Казимерасову сермягу. Сермяга была старая, задубевшая, и иголка, понукаемая наперстком, то и дело спотыкалась о сукно, как о камень. После бессонной ночи полагалось бы Рахмиэлу отдохнуть, да разве в такой духоте уснешь? Только ляжешь, закроешь глаза, и – хоть выжимай. Ну откуда его столько, этого пота, в человеке? Отчего потеют в молодости, Рахмиэл, положим, знал – он сам когда-то был молодым. Но старость?
Рахмиэл сидел на столе, заложив ногу на ногу, и думал о том, отчего потеет старость. Он думал о силе и немощи, и мысли его спотыкались о задубевшую кору черепа, как игла о сукно сермяги.
Время от времени Рахмиэл давал своим мыслям передышку – начинал петь какую-нибудь песню, путая слова, но не огорчался, ибо слова никогда не имели для него значения. Слов в человеке больше, чем пота. Но если от пота, особенно на полке в бане, еще какой-то прок, то в словах ни проку, ни корысти. Бог свидетель, всю свою жизнь Рахмиэл обходился без них. Он не рабби Ури, который все еще верит в слова. Господь Бог наговорил столько, и что с того? Кто-нибудь послушался его? Хорошо говорить всякие слова, когда сидишь на облаке и смотришь сверху вниз. А вот когда копошишься внизу, в грязи и дерьме, тогда только эти два слова и знаешь. И тебе хватает их до самой могилы!
Рабби Ури всю жизнь просидел на облаке, на пыльном облаке Торы, а он, Рахмиэл, копошился внизу.
Пока был молод, прокладывал дороги. И эту вот, в Ковно, тоже проложил. Зимой и летом гнул спину на ковенском тракте, там ему и расплющило ногу, как блин. Полгода двигаться не мог. Повернется в постели и криком кричит. Полгода не вставал – брат на руках в нужник носил и усаживал, как куклу. Но Бог смилостивился. Столяр Генех Кац вытесал ему костыль, и он помаленьку да потихоньку стал передвигаться, сперва по дому, потом по двору, а когда окреп, и по местечку, кому – кастрюлю запаяет, кому – дырку на лапсердаке зашьет, кому – дужку к ведру приладит. Никакой работы не чурается, берет сколько дают, пугает костылем собак и девок. Иногда добредет до тракта, сядет на обочину и смотрит, как катят по нему возы или жандарм в пролетке мчится.
В один прекрасный день Рахмиэл исчез из местечка. Появился он снова через четыре года – не один, с женщиной. Она вела за руку чумазого мальчонку в нелепом картузе, надвинутом на преданные собачьи глаза, и в залатанном пиджаке без пуговиц и без подкладки. Поселились они на окраине, в заброшенном овине, от которого уцелели только стены и замшелая крыша. Под этой вот замшелой крышей и родила Рахмиэлова женщина первую девочку. А потом посыпались погодки. Сколько у Рахмиэла их было, никто в местечке не считал. Костлявые, долговязые, неумытые, они носились по округе, таскали в овин все, что попадалось на глаза, и люди, глядя на них, сокрушенно качали головами и приговаривали:
– Он их, видно, костылем делает.
Костылем не костылем, но овин кишел детьми, как пруд мальками.
Сам Рахмиэл кое-как перестроил развалюху, вырубил окна, залатал соломой крышу, настелил из неструганых досок пол, сколотил стол, стулья, кровати – руки-то золотые! – и не столько заботился о числе своих отпрысков, сколько о заработке. Он по-прежнему паял, чинил, вставлял стекла, но больше всего зарабатывал пением – сильным и высоким голосом, прорезавшимся у него еще тогда, когда он с расплющенной ногой лежал в постели. Не было в округе – от Юрбаркаса до Мемеля – ни одного еврейского праздника, ни одной свадьбы, на которых Рахмиэл бы не пел. Евреи слушали и диву давались: что это за птица цвенькает в его голодном горле?
Отправляясь на свадьбу, Рахмиэл брал с собой всю ораву, и, пока тешил своим удивительным пением скучающих молодоженов и застывших от счастья сватов и сватий, она дружно и без разбору уплетала за обе щеки, а потом непотребными звуками отравляла свадебное застолье или бегала по большой нужде во двор.
Так они все жили до тех пор, пока не случилось несчастье и все, кроме самого Рахмиэла и того мальчонки, в картузе и пиджаке без пуговиц и подкладки, вымахавшего почти до отчимова плеча, не слегли и в течение месяца не вымерли как мухи. То ли чем-то отравились на свадьбе, то ли другая неведомая напасть скосила, но Рахмиэл не успевал их хоронить.
Когда он похоронил последнего, к нему явились лесоторговец Фрадкин и урядник, не нынешний, Нестерович, а тот, которого не то в Молодечно, не то в Гродно перевели, и предложили они Рахмиэлу убираться на все четыре стороны, ибо – Господь упаси и помилуй! – зараза еще поползет по местечку, а из местечка – Господь упаси и помилуй – перебросится в уезд, из уезда в другие губернии.
– А как же изба? – только и спросил Рахмиэл.
– Избу чего жалеть? – заметил Фрадкин.
– Жалко, – сказал Рахмиэл.
Он потрепал по голове Арона – так звали мальчонку – и, как бы оправдываясь, выдавил:
– Больше нам не петь на чужих свадьбах.
И шагнул к двери.
– Мальчонку как-нибудь пристроим… – остановил его лесоторговец. – Когда все уладится, и ты сможешь вернуться.
– Да мы уж лучше вдвоем… – пробормотал Рахмиэл.
– Мальчонку оставь, – поддержал лесоторговца урядник. – На господина Фрадкина можно положиться.
Тогда он, дурак, не понял, куда Фрадкин клонит. Тогда поверил, что Арону у Фрадкина будет лучше. Фрадкин устроит куда-нибудь, определит…
Он и устроил, и определил!
– Рабби Ури, где мой Арон?.. Помните – бегал такой в картузе? – спросил Рахмиэл, когда через год вернулся.
– В рекруты сдан, – ответил рабби Ури.
– Фрадкин?
Рабби Ури молчал. Сидел на своем облаке и молчал.
– Фрадкин сдал его вместо своего Зелика?
– Никогда не вини других, – сказал рабби Ури, и изо рта его на Рахмиэла повеяло небесной стужей. – Давай лучше подумаем, в чем мы сами виноваты.
– А в чем я, ребе, виноват? В том, что я Рахмиэл, а не Маркус Фрадкин? В том, что не урядник?
…Рахмиэл тыкал иголкой в сермягу, и с каждым тычком у него в голове что-то вспыхивало, угасало и снова вспыхивало. Нет на свете ничего удушливее, чем мысли, думал он. От духоты хоть тень спасает. А какой тенью спастись от мыслей? Зачем рабби Ури зазвал его к себе – только ли затем, чтобы с ним чайку попить? Какой он, Рахмиэл, собеседник? Рабби Ури зря в стакан сахару не положит. Не потому что скуп, а потому что привык, чтобы с ним не сладость делили, а горечь. Интересно знать, что это за посланец Бога, о котором он допытывался, а потом перевел разговор на Арона, которого он, Рахмиэл, упрямо называл не пасынком, а сыном. А колотушка? С чего это такой праведный и такой благочестивый муж, как рабби Ури, вдруг у себя дома, среди ночи, станет стучать колотушкой? Что-то здесь не так.
Рахмиэл и не заметил, как в раскрытую дверь вошел человек в ермолке, приколотой булавкой к волосам, как постоял, огляделся и не спеша, как бы просеивая увиденное, направился к столу.
– Здравствуй, – сказал человек в ермолке, и Рахмиэл вздрогнул. Еще бы! Он не помнит такого случая, чтобы кто-нибудь здоровался с ним. В местечке вообще не очень принято здороваться. Скажешь: «Добрый день», а день совсем не добрый, спину ломит, дышать нечем, и на душе, как на опустевшей рыночной площади, один помет.
– Здравствуй, – ответил Рахмиэл и оглядел человека в ермолке с ног до головы. Не о нем ли говорил рабби Ури, когда они оба прихлебывали круто заваренный чай?
– Ты шей, шей! – не глядя на Рахмиэла, тихо произнес пришелец. – Я только напиться зашел… Где у тебя вода?
– В ведре, – выдохнул Рахмиэл и оторвал от сермяги иголку.
– Ты шей, шей, – снова сказал человек в ермолке и так же неспешно, как вошел, направился в прихожую.
Пока он туда ходил, Рахмиэл затянул сползающие подштанники пожелтевшей тесемкой и на всякий случай прикрыл шапчонкой вспотевшую голову.
– Вода зацвела. Пойду к реке и принесу свежую.
Пришелец стоял перед Рахмиэлом с ведром в руке, и старик еще больше растерялся.
– Зачем же ты сразу к реке не пошел? – прошамкал он.
– Тебе этого не понять, – любезно объяснил человек в ермолке и, позвякивая ведром, вышел из хаты.
От этого позвякивания Рахмиэл вспотел пуще прежнего, выскользнул во двор и долго смотрел вслед удаляющемуся пришельцу. Ему вдруг – непонятно почему – захотелось, чтобы человек в ермолке потопил ведро и никогда не вернулся.
Но пришелец вернулся, поставил у ног Рахмиэла ведро и молвил:
– Пей!
Рахмиэл медлил. Что-то его сковывало – то ли туго затянутые подштанники, то ли взгляд человека в ермолке, пристальный, полный равнодушного сострадания, то ли нахлынувшие вдруг воспоминания о мальчонке в картузе и пиджаке без пуговиц и подкладки.
– Пей, – повторил незнакомец.
Рахмиэл нагнулся, сунул голову в воду, и возникшие в его задубевшем мозгу видения расплескались, размылись, растаяли. Теперь с его лица, заросшего белесой свиной щетиной, струился не пот, а текла речная вода, такая понятная, такая свойская, что и дышалось легче.
– Хорошо? – спросил пришелец.
– Угу! – буркнул Рахмиэл. – Спасибо.
– Спасибо надо говорить не мне, а реке. Ты хоть когда-нибудь сказал ей спасибо?
– Нет, – опешил Рахмиэл.
– Почему?
– Никто не говорит, – пролопотал сторож.
– А ты пойди и скажи. И будешь первым в местечке.
– Засмеют, – возразил Рахмиэл, защищаясь от слов человека в ермолке. – Обзовут сумасшедшим.
– А по-твоему, лучше быть как все, чем сумасшедшим?
– Лучше – как все.
– Даже когда все сумасшедшие?
– У меня три курочки и петух, – взмолился Рахмиэл. – И картошка прошлогодняя… Может, говорю, отварить чугунок?.. Я быстро…
Рахмиэл по себе – да и не только по себе – знал: когда ешь, ни о чем не думаешь. Еда, если ее много и если вкусная, – лучшее спасение от всяких там мыслей. Как ни мудра голова, а куда ей до желудка. Желудок всегда берет верх. По правде говоря, Бог допустил оплошность – дал человеку два уха и два глаза и только один желудок. Его можно чем угодно набить – картошкой, яйцами, редькой. Хуже, когда голодна голова, – ничем ее не набьешь.
С тех пор как умерли жена и дети, а пасынка Арона забрали в рекруты, Рахмиэлова голова все время требовала какой-то пищи. Он пытался насытить ее забвением, но она все равно не давала ему покоя.
Еда еще и тем хороша, думал Рахмиэл, что почти не надо говорить. Черпаешь ложкой, хлебаешь, жуешь – и молчишь. Молчание, конечно, не золото, но для еврея – алтын: молчальника не сразу продашь и купишь. Особенно когда кругом чужие, когда то, что говоришь ты, уряднику переводят, а то, что говорит он, ты должен выполнять, даже если не бельмеса не понимаешь. Не потому ли он, Рахмиэл, и подался в сторожа: тишь, безмолвие, ходишь по местечку, поглядываешь на ставни, и сам ты – как ставня с железными ободами.
– Пусть будет картошка, – согласился человек в ермолке и понес ведро в избу.
– Как тебя зовут? – спросил Рахмиэл, когда картошка задымилась на столе рядом с сермягой.
– А как ты хочешь, чтобы меня звали?
Рахмиэл от неожиданности выронил картофелину. Она шлепнулась на пол и рассыпалась.
– Можешь называть меня каким угодно именем.
– Как же так? – удивился Рахмиэл. – У каждого свое имя. Меня, скажем, зовут Рахмиэл. А тебя?
– Выбирай любое. Разве тебе имя важно? Тебе важно что-то при этом имени вспомнить.
– А что вспомнить?
– А что вспоминают на закате дней? Грехи!
Пришелец сидел напротив Рахмиэла, неотрывно смотрел ему в глаза, и в глазах сторожа что-то плавилось и переливалось, пока крупная старческая слеза не упала на дряблую щеку и не застряла в щетине.
– Вот и называй меня именем своего греха, – гость разломил картофелину, обмакнул ее в серую слипшуюся соль и снова уставился на хозяина. – Грехи безымянными не бывают. – И отправил половинку в рот.
От него исходила какая-то засасывающая омутная сила, и Рахмиэл покорно следовал за ним, как нитка за иголкой.
– Арон, – выдохнул он, и новая струя пота залила его подбородок.
– Арон так Арон, – равнодушно сказал человек в ермолке. – Что же ты мне, Арону, расскажешь?
– А что рассказывать?
– Все. Торопиться некуда. День долог.
– Послушай, – вдруг встрепенулся Рахмиэл, – ты меня не знаешь, и я тебя не знаю. Поешь и ступай с миром. Мне еще до вечера надо сермягу залатать. Казимерас уж дважды приходил.
– Я уйду, по грех-то останется, – как ни в чем не бывало сказал человек в ермолке.
– А у меня нет грехов! Нет! – воскликнул Рахмиэл. – За грехами ступай к Фрадкину! В корчму к Ешуа!
– Придет и их черед, – спокойно ответил гость. – Грехов, говоришь, нет, а гонишь. Что ж, потрапезничаем и разойдемся.
Они ели молча, поглядывая друг на друга, и чем больше реб Рахмиэл смотрел на пришельца, тем изнурительней делалось молчание. Поди знай, кто нынче переступает твой порог, думал Рахмиэл, давясь обыкновенной, тысячи раз еденной картошкой. Безродный бродяга, каких полно во всех городах и весях, великовозрастный лентяй, нахватавшийся где-нибудь в ешиботе ученых премудростей и скорее из-за лени, чем из-за учености слегка повредившийся в рассудке? Или родной сын, угнанный много-много лет назад куда-нибудь на край света? А вдруг он сменил нелепый картуз на эту засаленную ермолку, приколотую булавкой к волосам, а пиджак без пуговиц и подкладки на этот дорожный балахон, от которого пахнет навозной жижей? Почему он сразу не напился из реки, а пришел сюда, в эту развалюху? Есть в местечке избы и покраше и побогаче, там в ведрах не цвелая вода, а мед и молоко. Чем же он прельстился? Нет, Рахмиэл не смеет его выгнать. Он должен его приютить, принять, как каждого сирого и бездомного, и не гадать, чей он посланник…
Разве тот, кто напоминает нам о наших грехах, не посланец Бога?
Так он вроде бы с виду человек разумный: сходил к реке, набрал свежей воды, принес, прежде чем взяться за еду, помолился и ест совсем не как сумасшедший, медленно, с достоинством, как в доме Фрадкина или братьев Спиваков, без остервенения, зубами не клацает, снимает с каждой картофелины шелуху, макает в соль, крошки смахивает с бороденки не на пол, а в ладонь – сразу видно: не мужлан, не обжора. А то, что путано говорит, так кто же в местечке, кроме урядника, выражается ясно? Все путаники, все норовят обвести вокруг пальца, пыль в глаза пустить.
Давно Рахмиэл не садился есть вдвоем: все один да одни. Когда один, и харч в горло не лезет.
– А сам ты где живешь? – спросил он, когда они вдоволь помолчали.
– Везде, – ответил человек в ермолке.
– Так не бывает, – осторожно заметил Рахмиэл. – У каждого своя крыша, как и имя.
– Небеса – моя крыша, – произнес гость и снял балахон.
– А осенью? Когда твоя крыша протекает?
– А осенью я живу там, – человек в ермолке поднял глаза к потолку.
– На чердаке?
– За облаками, – сказал гость. – Там светло и просторно. Думаешь, сказки тебе рассказываю? В чердак же ты веришь?
– В чердак? В чердак верю, – Рахмиэл покосился на пришельца, на его балахон, и навозная жижа ударила ему в раздутые ноздри. Когда реб Рахмиэл волновался, он всегда раздувал ноздри.
– Глупо верить в то, что можно ощупать руками. В урядника, в корчмаря, в лесоторговца Фрадкина. В картошку, которую мы с тобой только что навернули…
– А ты… ты и Фрадкина знаешь? – насторожился Рахмиэл.
– Знаю.
– Он здесь царь и бог, – быстро проговорил сторож, и у него отвисла нижняя губа.
– Богом может быть только тот, кого все любят, а царем – тот, кого хоть один боится. Ты боишься Фрадкина, и потому он для тебя царь. А я его не боюсь.
– Фрадкин сдал моего пасынка… Арона… в рекруты, – внезапно признался реб Рахмиэл. – Вместо своего Зелика. Пришел сюда и забрал.
– Это я помню, – сказал человек в ермолке.
– Ты?
– Я. Арон.
– Но ты… ты только назвался Ароном. У моего Арона родинка на правом плече… величиной со спелую земляничину.
– Выжгли эту родинку… Сорвали эту земляничину, – сказал человек в ермолке.
– Кто выжег… кто сорвал? – пробормотал Рахмиэл.
– Ты, – просто сказал гость. – Теперь каждый, кто к тебе придет, – Арон!
– Так не бывает, – защитил себя Рахмиэл. – Так не бывает. Ты мне родинку покажи! Рубец! След! – И мстительно улыбнулся.
– Покажу, – спокойно сказал пришелец. – Как это я забыл, что ты веришь только в то, что зришь и обоняешь. Но есть на свете и то, чего глазом не узреть и носом не учуять. Иначе богом был бы нюх. Вот ты сказал: «Фрадкин пришел и забрал». Но забрать можно только то, что отдают.
– Фрадкин приходил не один… с урядником… попробуй не отдай, – обмяк Рахмиэл.
– Ну и что? Приведи он всех солдат империи, ты отдавать не вправе. Скажешь: а что я мог сделать? Кто я по сравнению со всеми солдатами империи? Рахмиэл, песчиночка, пылинка, букашка! На это я тебе отвечу: если каждый на свете будет день-деньской твердить «я пылинка, песчиночка», то у нас заберут всех, кого мы любим… Даже Бога! Наверно, уже жалеешь, что накормил меня?
– А чего жалеть? Картошки не жалко. Скоро свежая поспеет… Раньше я больше сажал… четыре грядки… а теперь две Казимерасу отдал… он по субботам гасит у меня свечи… Иногда и козьего молочка принесет… Так и живем… Коза его каждый день о мой плетень трется… Козы хоть и глупые твари, но лучше людей… ей-богу, лучше… они и молоко дают, и сыр, и шерсть… А человек? Что дает человек? Урядников? Рекрутов? Сумасшедших?
Пришелец молчал и слушал, и удивление смягчало его случайные, как у пугала, черты.
V
За водкой корчмарь Ешуа обычно ездил в Ковно через Велюону и Юрбаркас. В Юрбаркасе – если отправлялся один, без Морты, – останавливался у своего дальнего родственника, содержателя лавки колониальных товаров Симхе Вильнера, распрягал лошадей, купал их в Немане, и сам, выбрав какую-нибудь отмель, окунался, но далеко в воду не забредал, места коварные, подхватит течение, закрутит, завертит, затянет в яму – и прощай! Симхе Вильнер был человек вспыльчивый, вздорный, долго с ним не рассидишься, все время на рожон лезет, не про изюм да чернослив толкует, а все больше про гонения и притеснения, там, знаете ли, еврея задушили, там – зарезали, там – бабу изнасиловали, ну просто кусок в горле застревает – да что он, Ешуа, баба, что ли? Малость передохнешь – и снова в путь. А путь не близкий, дай бог до вечера добраться, зато на винокурне Вайсфельда в Ковно водка намного дешевле, возьмешь эдак ведер пятьдесят, нагрузишь целую фуру – и, глядишь, червонец прибыли и набежал, ни одной бутылки не откупорил, а он червонец этот, уже у тебя в кармане смирнехонько лежит.
Правда, и страху натерпишься всласть, потому что дорога все лесом да лесом, смотри в оба, озирайся по сторонам, чтобы на кого-нибудь не нарваться, нынче их, охотников до чужого добра, хоть пруд пруди.
У Ешуа до сих пор волосы дыбом встают, когда он вспоминает свою поездку в Ковно позапрошлым летом, перед самым Ивановым днем.
Погода стояла дивная, на небе ни тучки, солнце лошадям глаза слепит, птицы поют, да так заливисто, будто у них самих праздник.
Ешуа осторожно правил лошадьми, прислушиваясь то к пению птиц, то к звону бутылок в ящиках, переложенных свежим сеном, объезжая ухабы и рытвины, и думал о доме, о себе, о том, что через полгода, как раз в канун Хануки, ему стукнет пятьдесят четыре, а у него ни одной сединки ни в бороде, ни в пейсах. И еще Ешуа, как и положено отцу, думал о сыне, прыщавом Семене, единственном своем наследнике. Дочь Хана прожила на белом свете всего восемь лет. Ах, Хана, Хана! Собаки, и те дольше живут.
Сын не радовал Ешуа. Не было в нем ничего от их рода, рода Манделей, славившихся своей хваткой и трудолюбием. Без гроша начинали, нищие, оборванцы, а чего добились? Все кабаки и постоялые дворы на тракте в их руках, заходи и пей, коли в мошне звенит! Старший из Манделей – семидесятилетний Натан – самого Муравьева у себя в горнице принимал и чокался с ним как равный – честь для еврея неслыханная!
А Семен? Кто с ним чокнется? Если с ним, с Ешуа, не приведи господь, что-нибудь случится, тот в два счета разбазарит корчму, из-за лишнего червонца в Ковно не потащится, не жди.
Что поделаешь, рассуждал под скрип колес Ешуа, бывают дети – прибыль и дети – убыток. Семен – убыток. Убыток можно возместить. Но разве с Хавой его возместишь? Хава теперь бесплодна, как пустырь за корчмой, хотя она и на пять лет моложе, чем Ешуа! А что толку в сеялке, если земля не родит? Ты ему, Ешуа, только подай чернозем, а уж он его вспашет и засеет.
Дочь лесоторговца Маркуса Фрадкина – вот чистый чернозем! Чистейший, без всяких примесей!.. Что с того, что разница – тридцать лет. Старый конь борозды не портит. А он еще не старый конь, он еще хоть куда! Но пока жива Хава, торчать ему в конюшне и если что и пахать, то не чернозем, а суглинок.
Хорошо бы породниться с Фрадкиным хотя бы через Семена. Но Семен дурака валяет, Семену и Морта хороша. В кого он только такой уродился? В мать, в Хаву. Господи, до чего же она опостылела ему, мужу своему благоверному, Богом избранному! Кукиш! Не Бог его избрал, а ее папаша, лавочник Иегуда Спивак: дал за Хаву корчму, и он, Ешуа, ее, корчму, и взял. Как-то Натан Мандель, глава их рода, спросил у него: «На ком ты, Ешуа, женат?» Он ему ответил: «На корчме, реб Натан!» – «Такому парню, как ты, Ешуа, надо было жениться на винокурне!»
Если Хава умрет, думал Ешуа под цокот конских копыт, я женюсь на винокурне или лучше на какой-нибудь дубовой роще. Сейчас дубовое дерево в цене. Надоело с утра до вечера торчать в корчме и видеть перед собой эти пьяные, ненасытные рожи! Надоело!
Господи, как хорошо в дороге! Птицы просто с ума сошли! Ну и ликуют! Ну и трезвонят! Тише, тише! Ну чего распелись? Чему радуетесь? Шестой десяток живу на свете и ни разу еще от воздуха не захмелел. Попели бы, пташечки, в корчме!.. В постели, когда под боком серая и остывшая, как зола, Хава!
– Стой! – раздалось из кустов, и корчмарь Ешуа обомлел.
Он натянул поводья, дернул их несколько раз, давая понять, что трусца не устраивает его. Но лошади его не поняли, они тоже о чем-то думали, внимая птичьему пению, и тогда Ешуа не своим голосом закричал:
– Но-о-о!
И впервые пожалел, что до сих пор обходился без кнута, хотя он и висел у него где-то в сарае. Корчмарь купил его у какого-то мужика за кружку водки, но не пользовался, потому что не выносил, когда батогом бьют скотину. «Сечь можно только человека, – говаривал он. – Не вол виноват, а погонщик».
– Но-о-о!
Лошади перешли на легкую рысцу, и крик догнал их:
– Стой, жид пархатый!
К дороге, продираясь сквозь заросли кустов и ломая валежник, бежал мужик.
– Стойте, пархатые!
Сейчас уж он взывал к лошадям, но лошади, не привыкшие к такому окрику, продолжали свой бег, прядая своими лопушными ушами.
– Быстрее, родненькие, быстрей! – упрашивал их Ешуа.
И когда казалось, что опасность миновала, в каких-нибудь пяти метрах от фуры на дорогу с шумом рухнула молодая сосна.
Конец, мелькнуло у Ешуа, и он остановил лошадей.
Из леса с топорами вышли еще двое. Они приблизились к фуре и приказали корчмарю слезть.
– Привяжи-ка, Юзеф, жида к дереву, – бросил один из них.
Тот, кого назвали Юзефом, подтолкнул Ешуа к обочине:
– Иди и не оглядывайся!
– За что? За что? – обалдело повторял корчмарь, выворачивая на ходу карманы, из которых вывалились какие-то крошки, гребень, расшитый носовой платок. – Клянусь Богом, ни одной копейки… ни одной копеечки… чтобы я так жил…
– Встань к дереву! Сюда, – бросил тот, кого назвали Юзефом, нагнулся, подобрал платок и гребень.
– Нет, нет! – завопил Ешуа, ничего не понимая. – Я не хочу к дереву… Не хочу…
Юзеф ударил его ногой в живот раз, еще раз, и Ешуа обмяк.
– Пожалейте! – тихо взмолился он. – Я буду вас поить… целый год… два года… даром… честное слово… Берите все… лошадей… водку… Только отпустите меня… Я никому ни слова не скажу… Ни слова…
Тот, кого назвали Юзефом, поставил его на ноги, прислонил к сосне и стал привязывать вожжами. Раз – обмотал вокруг живота, другой – завязал двойной узел.
– Ой! Мне больно! Больно! – Ешуа вертелся, хрипел, но Юзеф словно не слышал ни его хрипа, ни его мольбы. Он притащил охапку сучьев, бросил корчмарю под ноги, вытащил из кармана кремень и поджег.
– Что вы делаете? Мы же люди! – воскликнул Ешуа и заплакал.
– Люди, – откликнулось эхо. Молодой лисой заметался огонь.
– Юзеф! – крикнул кто-то с дороги.
– Иду, иду! – Юзеф оглядел костер и медленно поплелся к фуре.
Слезы заливали крупное бородатое лицо корчмаря.
– Плачь, Ешуа, плачь!.. Ты никогда в жизни не плакал, – шептал он. – Пусть твои слезы рекой текут… по бороде… по животу… по ногам… туда… на огонь… Только слезами его не погасишь… Только слезами… Господи, дай мне столько слез, сколько водки я разлил по кружкам… Господи!..
Внизу весело потрескивали сучья. Огонь уже подбирался к башмакам… сейчас запахнет горелым мясом…
– Люди! – закричал Ешуа.
– Люди, – откликнулось эхо.
– Господи, господи, за что мне такие муки?
– …уки, – повторило эхо.
А наверху, в ветках, безумствовали птицы.
– Птицы, птицы, – стонал Ешуа. – Неужели ничего не видите? Неужели и вам все равно?..
– …авно, – издевалось над ним эхо.
– Гавно… Все гавно… и птицы, и люди, и ты, Господи… прости и помилуй меня… – Ешуа попытался руками развязать узел, но не мог, крепко завязан, намертво. Так на Немане связывают в пучки плоты.
И вдруг он увидел свою лошадь, свою гнедую…
– Жена моя, – выдохнул Ешуа и подавился слезами.
Гнедая, почувствовав его дыхание, подошла к сосне и застыла перед огнем.
– Жена моя!.. – Ешуа высвободил руку, протянул…
Лошадь поверила, что рука не пустая, что на ней корка хлеба, и шагнула к сосне. Лошадь обнюхала его руку, ткнулась мордой в бороду, и Ешуа схватил ее за шею, привлек к себе, поцеловал, как бы прощаясь и благодаря за преданность. Но огонь, разгоравшийся все сильней и жарче, отпугнул гнедую, она громко, на весь лес, заржала, и эхо передразнило ее, как жеребенок. Печальная и осиротевшая лошадь долго еще кружила вокруг сосны, разгоняя хвостом лесных мух и летевшие искры.
Жариться бы Ешуа до вечера на разбойничьем огне, если бы на него не набрели лесорубы Маркуса Фрадкина, почуявшие запах дыма. Был среди них и Ицик Магид. Они отвязали корчмаря, затоптали огонь, уложили Ешуа на мягкий мох, сняли с него обгоревшие башмаки, осмотрели его ноги, грязные и зловонные, дали из фляги напиться, и, когда, корчмарь очнулся, Ицик Магид спросил у него по-еврейски:
– Вам дурно, реб Ешуа?
– Мне хорошо… хорошо, – прохрипел корчмарь, глядя на верхушку сосны, к которой совсем недавно был привязан, и ему вдруг стало до боли, до крика жалко себя, распластанного на мху, беспомощного и босого, жалко этого высокого терпеливого дерева и этого безоблачного неба, которое равнодушно висит над всеми – над корчмарями, разбойниками, лесорубами и ни в чем не повинными лошадьми…
– И кто же это решил зажарить вас, как цыпленка? – пытаясь все превратить в шутку, выдохнул Ицик.
– Юзеф, – простонал Ешуа. – А башмаки что – выбросить надо?.. Такие башмаки!.. Новые совсем…
Ешуа, кряхтя, поднялся, покосился на обгоревшие башмаки и босиком зашагал к фуре.
– Кузя, кузя, – позвал он, и гнедая послушно побрела за ним.
Лесорубы переглянулись, вылили остаток воды из фляги на угли и скрылись в чаще.
Фура была разграблена. Из разбитых ящиков на дорогу все еще капала водка, и воздух на десять шагов вокруг был пронизан ее крепким одуряющим духом.
Второй лошади нигде не было. Умыкнули, сволочи, угнали, видно. Или заблудилась, дура. Но он не станет ее искать. Пока не поздно, надо отсюда уносить ноги.
– Идем, – сказал он гнедой. – Пропади все пропадом! И телега, и упряжь, и твоя дура сестра!
И повел ее, босой и несчастный.
За что, думал он в тот ясный пригожий денек, за что мне такие муки? Чем я, Господи, перед тобой провинился? Тем, что родился евреем и торгую в этой треклятой дыре водкой? Не хотите – не пейте! Я вам что, насильно ее в глотки вливаю? Сами их разеваете… И дня без браги прожить не можете… Да что там дня – часу! Праздник не праздник, горе не горе – только успевай ставить на стол бутылки. Наливай, жид пархатый, пошевеливайся! И пархатый не в обиде, нет, нет… на обиде и гривенника не заработаешь… пархатый из кожи вон лезет и бежит с подносом к Юзефу… Пятрасу… Афиногену!.. А эти Юзефы, эти Пятрасы, эти Афиногены хоть когда-нибудь задумывались, почему он, пархатый, открыл свою корчму здесь, среди этих дремучих лесов и топких болот, а не где-нибудь на другом берегу Немана? Потому что немец пьет не до одури, а только так, для увеселения души. На немце шиш заработаешь. Открой кабак, и назавтра к тебе нагрянут жандармы и заколотят его крест-накрест досками. Ферботен! Дер Кайзер ерлаубт нихт… Император запрещает! А здесь… здесь тебя и пальцем не тронут ни урядник, ни император! Еще спасибо скажут, ибо нет лучшего острога, чем водка. Зачем на каторгу отправлять, когда можно послать к нему, к Ешуа! «Молодец, Мандель, отечеству служишь, престолу!» Пока они в корчме торчат, пока у них в глазах туман, они ничего не требуют, кроме лишней бутылки… Водка – их надзиратель и их конвоир… Белая, сладкая, горькая, она пребудет во веки веков… на ней, на матушке, вся империя держится, и дай бог ей держаться и дальше!.. Закройте лавку колониальных товаров Симхе Вильнера… москательную братьев Спиваков… мясную Перельмана… заколотите крест-накрест досками – ничего не изменится! Другое дело – корчма. Она вечна, как престол, как отечество! Умрет Ешуа, за стойку станет Семен, Семен удерет – Хава станет, Хава окочурится – Морта начнет разливать, Морту сожжете – лошадь встанет… вот эта гнедая… кто бы ни наливал, лишь бы наливал!..
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































