Текст книги "Избранные сочинения в пяти томах. Том 2"
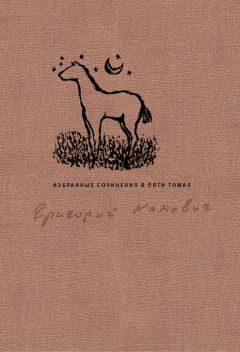
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Только про живот ни слова!
Окна распахнуты настежь, небо чистое, как весной. Где-то на ветке шебаршит галка, и соседский кот плотоядно выгибает спину.
– Я отблагодарю вас, рабби.
– Чем?
– Я поймаю вашу муху.
И Голда прыскает. Рабби Ури никогда еще не слышал, чтобы еврейка так громко и раскатисто смеялась. То и впрямь был смех счастливой блудницы, счастливой даже в своем несчастье, свободной, не морочащей себе голову неземными заботами, а земные заботы принимающей как радостное, хоть и тяжкое, бремя.
Он всегда завидовал ей и прощал то, что не прощал никому – ни себе, ни другим. Голда могла залиться смехом во время богослужения в молельне, нарушив стройное течение молитвы, захохотать у свежей могилы, и он на нее не обижался, потому что знал: Голда смеется назло всему – смерти, клевете, невзгодам, отстреливаясь смехом, как раненый солдат, не желающий угодить в плен к неприятелю.
– Я накормлю вас, рабби, и ступайте, – говорит Голда, смахивая куском старого, траченного молью и превращенного в обыкновенную тряпку талеса толстый слой пыли с комода.
– Куда?
– Куда-нибудь. Дом как загон, мир как пастбище.
– Поздно мне пастись на нем, поздно, – отвечает рабби Ури. – Траву мою потоптали, теленка прирезали.
– Глупости, – бросает Ошерова вдова. – Хватит еще и на ваш век травы. И телок, глядишь, какой-нибудь приблудится и уткнется головой в ваш сюртук. Ступайте! Или вы мне, рабби, не доверяете?
– Доверяю, доверяю, – шепчет растроганный рабби Ури. – Ты честная женщина.
– Спасибо, – пунцовеет Голда.
– Если тебе что-нибудь из моих пожитков нравится, забирай. В шкафу платья висят. Хорошие, почти не ношенные. Рахель их только по праздникам надевала. Бери! Не то моли достанутся… И фарфоровый сервиз прихвати. С кем из него чаи распивать? Придут чужие люди и растащат.
– И вам, рабби, не стыдно?
– Разве не растащат?
– Я говорю: не стыдно ли вам все время о смерти думать?
– Ты не бойся. Тебя никто воровкой не назовет. Я оставлю завещание.
– Мне? Завещание?
– Всем. Ты только скажи, чего хочешь?
– Ицика, – смеется Голда. – Завещайте мне, рабби, Ицика. Больше мне ничего не надо.
Улыбка плавает в ее глазах, как ломтик лимона в чае – только края золотятся.
– Есть у меня два обручальных кольца, – спокойно продолжает рабби Ури. – Одно мое, другое Рахели. Если Бог даст и ты пойдешь к венцу, они вам с Ициком сгодятся.
– Нет, нет, – отмахивается рваным талесом Голда, но глаза ее сверкают как у кошки.
– Нам их тесть подарил. Мои родители были бедняками. У них было только одно богатство – десять сыновей.
– Ого!
– Все они давно умерли, а я все еще живу.
– И живите, рабби, живите!
– По правде говоря, я уже насытился днями… Оба кольца в фарфоровом чайничке в буфете. Счастья они нам не принесли. Может, вам принесут.
– Да мне, рабби, для венчанья серебряной монетки хватило бы… копеечки… только бы Ицик согласился.
Голда усаживает старика в каталку, выкатывает ее во двор и на прощание говорит:
– К обеду возвращайтесь.
– Ты только не очень старайся. Вдвоем небось тяжело.
– Что вы, рабби, вдвоем легче.
– Может, говорю, не стоит ее с четырех месяцев к мытью полов приучать.
– А с чего вы, рабби, взяли, что у меня девочка? У меня будет мальчик.
– Дай-то Бог!
– У меня будет праведник!
И Голда снова смеется, и смех ее как бы подталкивает каталку.
Сосед-портной высовывается с утюгом в руке, плюет на раскаленное железо, здоровается со стариком.
Железо шипит, портной, как роженица, вздыхает и провожает взглядом рабби Ури.
Скорей бы миновать улицу, думает рабби Ури, и выехать на большак. По большаку до кладбища версты две, не больше. Можно, конечно, по проселку, так ближе, зато на каждом шагу выбоины и ухабы. Зазеваешься и – шлеп в яму, без посторонней помощи не выберешься, жди, когда кто-нибудь мимо проедет. Лучше по большаку, хоть и дальше, но вернее, никого не надо просить и беспокоить, кати себе до самого кладбища.
Рабби Ури давно не был у Рахели, давно. То дождь мешал, то хворь, то колесо у каталки по дороге на кладбище среди бела дня слетело, спасибо тележнику Эфраиму Винокуру, приладил. Эфраим Винокур и саму каталку соорудил, и рессоры раздобыл, и сиденье паклей выложил, и даже шкурой телячьей обтянул.
Рабби Ури в долгу перед Рахелью – перед живой и мертвой. Не для себя прожила жизнь, для него, состарилась в этой дыре, засохла, захирела. Он посвятил жизнь Богу, а Рахель – ему. Как ни крути, Богу легче служить, чем мужчине. От Бога потом не разит, Бог не наорет, не облает, для Бога три раза в день не варить, чулки и исподнее белье не стирать, обиды и несправедливости от него не терпеть. А Рахель от рабби Ури всласть натерпелась! Столько раз думала уходить, да куда уйдешь, на кого его бросишь? Никакой Бог не прощает столько, сколько женщина, и ни одна живая душа на свете – ни муж, ни сын – не в силах с ней расплатиться.
Рабби Ури приедет на кладбище и скажет:
– Хочешь ли ты, Рахель, чтобы я лег рядом с тобой, как в нашу первую брачную ночь? Я не хочу, Рахель, лежать с другими. Только с тобой, как в нашу первую брачную ночь. Лежать и говорить: «Будь всегда! Будь всегда – присно и вовеки веков со мной!»
День-деньской по большаку снуют возы, особенно к вечеру, но сейчас, слава богу, не вечер, сейчас утро, и если кто-нибудь и обгонит, то только верховой. Поравняется с каталкой, приподнимет запотелую шапку, тряхнет русой головой, бросит два-три слова по-литовски, ударит пятками гнедую в бока, и поминай как звали, проскакал, промчался, растаял в утреннем мареве.
Вон уже и кладбище виднеется.
Рабби Ури любит его больше, чем молельню. В молельню можно прийти в лохмотьях или в шубе с беличьим воротником, можно и вовсе не приходить, молиться в избе или в хоромах, а на кладбище придут все, ибо оно – единственный дом, где от тебя не требуют ничего, кроме наготы, и где Бог все делит поровну, каждому дает по камню, по слезе и по вороне.
Можно отказаться от фарфорового сервиза, от золотых обручальных колец, от собственного отца и сына, от веры своей и племени, но отказаться от него невозможно. Кладбище – приданое и наследство всех, и рабби Ури оставит его праведникам и грешникам, их внукам и правнукам, и каждое еврейское колено будет поминать в местечке того, кто огородил эти сосны, этот зеленый лоскуток земли и оплакал на нем своего необрезанного отпрыска, свою жену Рахель и себя.
И назовут его потомки – рабби Ури-Строитель.
Каталка скользит по большаку. Рабби Ури щурится от солнца, шуршание колес убаюкивает, веки тяжелеют, и он, задремав, летит на обочину, в глубокий, заросший будыльем и наполненный ржавой водой ров, и острая боль пронизывает сперва плечо, потом впалую грудь, а в голове, забрызганной жижей, как вспугнутые головастики, разбегаются мысли, и нет среди них ни одной связной, ни одной утешительной, хоть в голос вой.
Рахель не хочет лежать со мной рядом, наконец осеняет его, она хочет, чтобы я лежал здесь, в этой паршивой канаве, в этом трижды проклятом рву среди этих колючек и липкой грязи. Вот ее ответ на мои слова. Вот она – кара за то, что я исковеркал ее жизнь, не наградив ни детьми, ни любовью.
– Эй, вы! – слышит рабби Ури чей-то мужской голос.
Он поднимает голову и видит на краю рва человека в ермолке, приколотой булавкой к волосам. Того самого, о ком Ицик рассказывал ему всякие небылицы и кого он встретил по пути из синагоги. Господи, да он скорее похож на нищего, чем на посланца неба!
– Помогите, почтеннейший, – вежливо обращается к нему рабби Ури.
Человек в ермолке не двигается, словно дразнит его или упивается его бессилием.
– Сам Бог вас послал, – продолжает старик. – Вздремнул и вот – скатился в канаву.
– Святая правда – Бог меня послал, – соглашается пришелец, по-прежнему не двигаясь. – Иди, сказал он мне, и вытащи из грязи Ури. Но прежде, чем ты его вытащишь, задай ему три вопроса.
– Только три? – забыв про боль, неуместно хихикает рабби Ури.
– Три, – серьезно говорит человек в ермолке. – Начнем с первого. Рабби Ури, усомнился ли ты хоть раз в Моем могуществе?
Пришелец, конечно же, шутит. Но рабби Ури привык отвечать на все вопросы Господа – кто бы их ни задавал: мудрец или сумасшедший.
– Нет, – быстро отвечает он.
Но человек в ермолке не спешит со следующим вопросом, и рабби Ури злится на себя, сетует – зачем ввязался в дурацкую игру. Не лучше ли подождать, когда мимо проедет какой-нибудь крестьянин и вызволит его?
– Сердцем – никогда, – добавляет рабби Ури, подумав.
– А умом? – с прежней невозмутимостью допрашивает его пришелец.
– Умом? – Рабби Ури что-то прикидывает и выдыхает: – Умом – да. Господи, говорил я ему, если ты дал мне веру, почему не лишил разума? Разум подтачивает веру, как жучок комод. – И старик вдруг спохватывается.
Что с ним творится? Неужели он настолько перепугался, что первому попавшемуся бродяге готов открыть душу?
– Второй вопрос, – возвещает человек в ермолке, и взгляд его томит рабби Ури больше, чем боль и унижение. – Можешь ли ты пролить за свою веру чужую кровь?
Рабби Ури трет ушибленное плечо, вытирает испарину на лбу. Допрос пришельца все больше смущает его и волнует, и старик не находит в себе сил, чтобы оборвать его.
– Нет на земле такой веры, ради которой можно пролить хоть каплю чужой крови, – говорит он как будто самому себе. – Вера в крови хуже безверия.
– А как же тогда защитить ее?
– Это третий вопрос?
– Нет. Это только ступеньки к нему.
– Веру не могут защитить ни топор, ни плаха. Потому-то все на свете имеет плоть, кроме нее.
Слова завораживают рабби Ури, и он на мгновение забывает про канаву, про свою боль и пришельца. В конце концов разве нельзя из сточной канавы говорить с Господом? Говорил же с ним Иов на гноище…
– Ты уже поднялся по ступенькам? – спрашивает он человека в ермолке.
– Да. Последний вопрос. Рабби Ури, что лучше: рабство или безумие?
– Конечно безумие, – бормочет рабби Ури. – Безумие – это свобода.
– Почему же ты тогда выбрал рабство?
– Это, кажется, уже пятый вопрос, но я тебе отвечу. Есть две вещи, которые человеку не дано выбирать: время, в котором он живет, и безумие, в которое его Господь погружает.
– Ты ответил на все вопросы, – странно ликуя, говорит человек в ермолке. – Теперь я могу протянуть тебе руку. Твое место не в грязной канаве, а на небесах.
Пришелец спускается по склону, хлюпает башмаками по ржавой воде, помогает рабби выбраться из каталки, хватает его под руки и, легкого, почти бесплотного, выносит из канавы.
– В годовщину смерти моей матери я всегда отправляюсь на кладбище, чтобы постоять у ее могилы.
– Но на нашем кладбище твоей матери нет. Я знаю в округе всех живых и мертвых.
– Есть, – тихо говорит человек в ермолке.
– Матери обычно лежат там, где их хоронят.
– Все – кроме моей, – объясняет пришелец. – Моя мать покоится там, где есть хоть одна свежая могила.
– Самая свежая могила на нашем кладбище жены корчмаря Манделя. Хавы… Красивая была девушка.
– Значит, на мою мать похожа. Она была красавица. Парни из-за нее в молодости до крови дрались.
– Если хочешь, я отслужу по твоей матери заупокойный молебен-кадиш.
– Хорошо, – говорит пришелец.
Он плетется за каталкой, как за колесницей пророка Ильи, молчит, и рабби Ури молчит и думает о странной встрече, и чем больше он о ней думает, тем острей чувствует ее предопределенность.
– Послушай, – говорит он вдруг, и волнение стесняет его дыхание. – Где-то я уже видел твое лицо. Правда, сорок лет назад. Ты тогда был младенцем, качался в люльке, над тобой стояли две женщины – одна осунувшаяся, печальная, другая – дебелая, с полными великодушными грудями, и мужчина.
– Я никогда не качался в люльке.
– Ты просто этого не помнишь.
– Я помню все, – говорит человек в ермолке. – Все. Меня клали рядом с братом на топчан, и когда я заливался криком, он затыкал мне жеваной обмусоленной коркой рот. С тех пор, наверно, я возненавидел хлеб.
– Как же без хлеба?
– Что за прок в хлебе, если ты платишь за него дыханьем?
Каталка, скрипя рессорами, въезжает на пустое кладбище, сворачивает направо, к свежей могиле корчмарки Хавы.
Человек в ермолке наклоняется, зачерпывает горсть желтой сбившейся глины, просеивает между пальцами и что-то шепчет. Рабби Ури сидит в каталке и говорит кадиш.
С сосны на могилу осыпается хвоя, и каждая хвоинка как упавший волосок с головы еврейской матери: Хавы, и Рахели, и той, из-за которой парни в молодости дрались до крови.
XI
До того, как Ицик Магид, любимый ученик рабби Ури, бросил свои занятия Торой и подался в лесорубы, он вроде бы ничем от других одногодков не отличался. Господь Бог, правда, к семнадцати годам наградил его недюжинной силой, вызывавшей у каждого чахлого еврея в местечке зависть и восхищение. Ицик был широк в плечах, не по-еврейски высок ростом, рыжеволос и голубоглаз, как истый христианин, мог, скажем, запросто взвалить на спину годовалого теленка, схватив его за передние ноги, и десять раз на рыночной площади, при всем честном народе, крутануться вокруг своей оси, не выходя из очерченного круга, или заключить с кем-нибудь из местечковых парней странное, приковывавшее всеобщее внимание пари.
– Я взвалю на спину шесть пудов картошки, а ты три, – сказал он однажды Мейше-Беру Хасману, сыну мельника, и тот, увалень и завистник, вытаращил на него глаза.
– Шесть пудов картошки и я взвалю, – сказал Мейше-Бер.
– Погоди, погоди, – умерил его рвение Ицик. – Кто раньше дотащит свой мешок до окраины и обратно на базар, тот выиграл. Проигравший платит за оба мешка.
– Идет, – принял вызов сын мельника.
Они подошли к возу, договорились с крестьянином, Ицик покосился на Мейше-Бера и стал ждать, когда парикмахер Берштанский, острослов и заводила, изнывавший целыми днями от безделья, скомандует:
– Вперед!
Парикмахер Берштанский придирчиво ощупал мешки – не набиты ли опилками, поставил на весы, взвесил для порядка, и Ицик и Мойше-Бер по его команде пустились в путь.
Поначалу они шли рядом, не отставая друг от друга. Мейше-Бер, тот даже вырвался чуть вперед. За ними, как жеребенок, трусил Берштанский, гордый своими судейскими обязанностями и вспотевший больше, чем оба соперника, а за Берштанским следовала орава местечковых сорванцов и что есть мочи кричала:
– Давай, Ицик! Давай!
Где-то возле москательно-скобяной лавки братьев Спиваков он догнал Мейше-Бера и дохнул на него презрением победителя. Но сын мельника не сдавался. Багровый, неуклюжий, он рвался вперед, впиваясь глазами в Ицикову спину и ненавидя ее до крика.
Наконец Мейше-Бер остановился и, заранее признав свое поражение, сбросил со спины мешок, развязал его и принялся в сердцах швырять картофелины в ораву.
– Что, кишка тонка? – измывались над ним сорванцы, подбирая картофелины и запихивая за пазуху. – Куда тебе, пузырь, до Ицика!
Ицик дошел до окраины, у самого выезда из местечка повернул обратно, добрел до базара, прислонил мешок к крестьянской телеге и сказал:
– Сейчас тебе заплатят.
– Самсон! Библейский Самсон, – ворковал по-голубиному парикмахер Берштанский, жал Ицику, как царю, руку, заглядывал в глаза и, ловя прокуренным ртом воздух, на весь базар возглашал: – Евреи! Отныне у нас есть защита! Евреи, берите пример с Ицика! Я давно говорил вам: не Тора нам нужна, а сила!
Подавленный Мейше-Бер отсчитал хозяину за оба мешка и несолоно хлебавши вернулся на мельницу. Все местечко ликовало и радовалось победе Ицика. Только его учитель рабби Ури был мрачен как туча.
– Не подобает тому, кто изучает Священное Писание и готовится в пастыри, быть посмешищем в глазах паствы, – сказал рабби Ури, когда Ицик приволок в дом свой мешок. – Не лучше ли заработать на картошку молитвой?
– Разве я заработал ее нечестно? – весь сжался Ицик.
Тогда-то что-то и разладилось в их отношениях. Ицик затаил на рабби Ури какую-то неосознанную обиду. Она вставала между ними как стена, за которой он спал, и Ицик не мог отыскать в ней ни одной щелочки, ни одной прорехи. Он по-прежнему до поздней ночи просиживал с рабби Ури над какой-нибудь строкой Писания или вел с ним бесконечные споры по поводу будущего евреев, но в них уже не было той захлестывавшей его страсти, того сжигавшего его плоть пыла и уверенности в правоте учителя. Но не обида и не удивлявшая всех сила толкнула его в лес, на фрадкинские делянки.
Ицика угнетала замкнутость его жизни, ограничивавшейся какими-то старческими заботами, каким-то заколдованным, смущавшим его кругом. Неужели на свете ничего, кроме Священного Писания, кроме псалтыря, кроме постов и редких праздников, нет? Иногда до Ицика доходили слухи о другом, не очень понятном, но привлекательном мире. Правда, и он, тот мир, был далек от него, как и какая-нибудь Ниневия или Вавилон. Но само его существование наполняло душу смутной и безотчетной тревогой.
– Мы здесь погибнем, – шептал ему Элханон Зайдбург, такой же ученик рабби Ури, как он. – Пора понять одну простую вещь: мы живем с тобой в России. Понимаешь, в России, а не где-нибудь под ливанскими кедрами, и нечего превращать ее в Израиль. Бежим отсюда, пока не поздно!
– Куда?
– В Вильно! В Москву! В Петербург! К черту на кулички!
– А правожительство?
– Правожительство – не эполеты. Как-нибудь добудем его – не дураки, – уговаривал Элханон.
– Я хочу остаться евреем, – простодушно ответил Зайдбургу Ицик.
– А разве тебя кто-нибудь тянет за уши в иноверцы? Хочешь оставаться евреем – оставайся на здоровье. Но крышу… крышу же можно сменить, чтобы не капало, чтобы ветер не задувал…
– Какую крышу?
– Некоторые принимают православие и…
– И что?
– До гроба остаются евреями.
– Я не согласен жить под такой крышей. Не согласен, – твердо сказал Ицик. – Лучше на морозе. Лучше на ветру.
– Ты только не подумай, будто я подбиваю тебя на что-то дурное. Я говорю с тобой как с другом. Или ты, может, собираешься всю жизнь спать за ширмой у рабби Ури?
– Не собираюсь.
– Старика, конечно, жалко. Но у каждого своя судьба. Тебе, пойми, легче. Ты сирота. А у меня родители… Они спят и видят во сне своего сына раввином…
– Зачем же их будить?
– По-твоему, я должен залезть под одеяло и видеть те же сны… Сны, сны, сны!.. Вечные еврейские спутники!..
Речи Элханона Зайдбурга пугали Ицика и странно влекли. Он восхищался его сметливостью, житейской хваткой, непреклонностью, доходившей до исступления. Но было в нем что-то скользкое, неуловимое, как озерная рябь. Он никогда не говорил громко, всегда шепотом, никогда не ходил прямо, а все время сутулился, словно его только что отхлестали розгами, никогда не глядел в глаза, а всегда в рот собеседника.
Больше всего Ицика коробила постоянная готовность Элханона к предательству, для оправдания которого он находил тысячи причин в прошлом и настоящем. На кого он только не ссылался: и на Моисея, выведшего еврейский народ из египетского плена, и на знакомого мирового судью, бывшего еврея, и на отступника Баруха Спинозу.
– Человек всегда кого-нибудь предает, – уверял Зайдбург. – Себя или других. Другого выхода у него нет. Единственное, во что можно верить, не обманывая себя и своих ближних, – это смерть.
Когда Зайдбург уехал из местечка, – а уехал он первым, – Ицик почувствовал и облегчение, и жалость. С одной стороны, он как бы избавился от искуса, освободился от ласковой, обволакивающей все его существо паутины, застившей глаза, но, с другой стороны, лишился того, с кем он мог, хотя бы тайком, хотя бы урывками, впадая в смертный грех, помечтать о другом, запретном и заповедном мире. Прыщавый Семен, оставшийся с ним у рабби Ури, не был в состоянии заполнить образовавшуюся пустоту, возместить неизбежную, больно ранившую Ицика утрату. У прыщавого Семена, несмотря на все его дружелюбие и бесшабашность, были иные мерки. Чаще всего они определялись не Богом и не дьяволом, а четырьмя стенами корчмы, и были пусть не такие мелкие, как у его отца Ешуа, но и не намного выше, чем кабацкая стойка.
После бегства Элханона и ухода Семена Манделя пребывание Ицика в доме рабби Ури с каждым днем становилось все более тягостным и двусмысленным. Порой Ицик ловил себя на мысли, что рабби Ури пригрел его вовсе не для того, чтобы сделать из него пастыря, а превратить в своего крепостного, в служанку Рахели. Ицик и воду таскал, и дрова колол, и полы мыл, и – если жена рабби хворала – горшки из-под нее во двор выносил, давясь от отвращения.
После того как из местечка уехали его товарищи, в Ицике вдруг проснулся дух отца, необузданного, дикого житомирского еврея Габриэля Магида, порешившего на родине урядника. Господи, подумал Ицик, что было бы, если бы отец застал меня ползающим по чужой избе и вылизывающим каждую соринку, каждый плевок? Да он, наверно, придушил бы меня собственными руками, порешил бы топором, как урядника. Он не посмотрел бы на то, что рабби Ури и его жена Рахель двенадцать лет кормили меня, сироту, одевали, учили и готовили в пастыри. Отец не посчитался бы ни с какими доводами разума, ибо породил на свет сына не для того, чтобы он, его сын, стал рабом и ползал по земле на четвереньках. Плевать мне на вашу одежду, на все ваши харчи и веру, сказал бы отец Габриэль Магид. Нет такого хлеба, нет такой одежды, будь она из парчи или золота, нет такой веры, ради которых мой сын стал бы рабом. Лучше топор и лес, чем сытое рабство, так сказал бы отец Габриэль Магид.
Но как же, вот так, сразу, после двенадцати лет, уйти из дома, где столько для тебя сделали?
Ицик не мог предать рабби Ури, как Элханон, оставить, как Семен Мандель, устремивший якобы свои стопы в ешибот, а попавший в дом терпимости на Сафьянке, где щекотал шлюхам пятки, пока Ешуа не привез его из Вильно домой.
Ицик искал повод.
И повод подвернулся.
Его звали Гурий Андронов.
В местечке потом подтрунивали над Ициком: сменил, мол, рабби Ури на рабби Гурия.
– Послушай, милок, ты, часом, не родич того Габриэля?
– Кого? – У Ицика дыхание свело.
– Которого в лесу нашли.
– Родич.
– То-то, ядрена вошь, вижу, как вылитый! Сынок, значит.
– Сын. А вы что, знали его?
– Маленько. В сопливом возрасте. Вот это был еврей! Сроду таких не видывал! Плечи – во! Ручищи – во! Глотка что колокол! По-русски – ни в зуб ногой, только по матушке… Белую хлестал – батюшки-светы, ну просто загляденье. А ты… как тебя величают… балуешься?
– Меня зовут Ицик.
– Балуешься, Ицик?
– Нет.
– Значит, не в батю. Помню, Габриэль, когда по-нашему научился, говаривал: «Слова, Гурий, как овощи, их поливать надо, чтобы не засохли». Может, говорю, заглянем к Ешуа и по стаканчику?
Ицик хмельного в рот не брал. Хлебнет на Пасху медовой настойки и морщится.
– Ешуа в долг даст, – успокоил Ицика Андронов. – Заработаем – рассчитаемся.
– Вы пейте, а я с вами посижу, – сказал Ицик.
– А ты знаешь, почему вашего брата недолюбливают?
– Не знаю.
– Потому что все трезвые. Помню, жили мы тогда под Борисовом, братья Бунеевы, сволочи, возьми да погром учини. Всех пощипали, только одного не тронули. Сапожника Меера… С утра пьяным валялся. Пьяный – всегда брат. С пьяного какой спрос? Бутылка всех на Руси братает.
Чего я стою и выслушиваю его бредни, рассердился на самого себя Ицик и все же поплелся за ним в корчму. Авось расскажет что-нибудь про отца. В лесу чего только не наслушаешься, даже в сопливом возрасте.
Они пристроились в углу корчмы, Андронов кликнул Ешуа, попросил штоф водки, налил два толстых граненых стакана, один себе, другой – Ицику, положил на дубовый стол узловатые сучья-руки и сказал:
– Ежели хочешь дознаться, кто твоего отца пристукнул, ступай в лесорубы. Я, конечно, не против молитвы. Сам на Благовещенье или на Покров в церковь хожу, одно время даже певчим был… пока, значит, не осип. И отец твой… Габриэль, значит, какой там ни был, а три раза на дню аккуратно молился. Отойдет в сторону и что-то шепчет по-вашему. После вечерней молитвы и нашли его мертвого.
– А вы… вы сами ничего не слышали?
– Всякое болтали. Говорили, будто Фрадкин на него взъелся.
– За что?
– А бес его знает. Придешь в лес – стариков расспросишь. Хотя и у них рот на замке.
Гурий выпил, повеселел, придвинул стакан Ицику, пожал плечами, когда тот отказался, но сам к чужому не притронулся.
Больше Ицик в тот день от Андронова ничего не узнал. Тайна гибели отца не приблизилась к нему ни на воробьиный скок, но мысль о лесе запала ему в сердце. Ицик и сам не раз слышал о причастности Маркуса Фрадкина к убийству, но поди докажи, поймай его за руку. В том, что отца убил не сам Фрадкин, он почти не сомневался. Но Фрадкин и ни одного дерева сам не рубит.
Когда Ицик объявил рабби Ури о своем решении пойти в лесорубы, старика чуть не хватил удар. Но он совладал с собой и тихо, но твердо сказал:
– Ты болен, Ицик.
И, помолчав, добавил:
– Кто же меняет молитву на топор? Опомнись! Ты все равно ничего не узнаешь.
– Узнаю, рабби.
– Положим, ты узнаешь, сын мой. Что от этого изменится? Убьешь того, кто убил твоего отца? Сошлешь его на каторгу? Не слишком ли дорого ты собираешься заплатить за истину? Лучше неведение, чем истина, оплаченная злодеянием.
– На все у вас, рабби, готовый ответ. Но я хочу жить своим умом. Понимаете, своим!.. Сколько лет живу с вами и слышу: молись, и справедливость восторжествует. Но для того, чтобы она восторжествовала, надо совершить зло.
– Зло?
– Да, да… Ибо зло, рабби, это зубы справедливости. Без них ничего не разгрызешь.
– Я не держу тебя, Ицик. Я буду молиться за тебя.
И они расстались. Расстались, но не поссорились. Ицик снял угол у коробейника Ошера – тогда тот еще был жив, перетащил свои манатки и нанялся в лесорубы к Фрадкину.
Работал он, как и его отец, лихо, с веселой ненавистью, с утра до ночи валил деревья, обрубал сучья, грузил на возы, не чурался выпивки, правда, пил умеренно, закусывая без восторга и жадности, большей частью со старыми лесорубами, ни о чем их не расспрашивал, чтобы не вспугнуть, ждал, когда они сами приподнимут завесу над загадочной смертью его отца Габриэля Магида. Но завеса висела плотно, и стоило ткнуться в нее, как она отодвигалась, как обманчивая линия горизонта. Со временем желание разгадать мучившую его тайну притуплялось, глохло, вытеснялось другими чувствами, томившими скорее тело, чем душу.
В двадцать пять лет Ицику впервые приснилась женщина. Она мыла в реке ноги, и ее икры белели, как головки сахара, сахар таял в воде, и Ицик припадал к ней губами и пил ее. Пил и пьянел больше, чем от водки. Вся река была сладкая, весь мир был сладкий-сладкий.
Потом Ицик подобрал для той, кто ему снилась, лицо.
То было лицо Зельды, дочери лесоторговца Фрадкина, того самого Фрадкина, причастного якобы к убийству его отца Габриэля.
Перед Рождеством они все прикатили на лесосеку: Фрадкин, его сын Зелик и она, Зельда.
Из санок выгрузили подарки.
Фрадкин в сопровождении сына и дочери шел от одной делянки к другой и, по-весеннему улыбаясь, протягивал лесорубам праздничные дары.
Братья Андроновы – Гурий и Афиноген – получили по новой хрустящей поддевке.
Старик Моркунас – причудливую, покрытую лаком трубку.
Верзила Ряуба – башмаки с высоким верхом.
Гости одаривали всех.
– С праздником! – рокотал сияющий Фрадкин. – Спасибо, братцы, за работу.
В просеке заливалась ржанием запряженная в санки лошадь.
Хозяин и его дети собрались было в обратный путь, но тут Зельда увидела прислонившегося к березе Ицика.
– Папа! – воскликнула она. – Одного ты забыл!
– Он – еврей, – объяснил Фрадкин.
– Ну и что? – удивилась Зельда, и Ицик слышал ее звонкий, почти детский голос.
– У евреев нет Рождества, – заметил лесоторговец.
– Все равно, – не унималась Зельда. – Надо и ему что-то дать.
– В другой раз, детка, – одернул ее Фрадкин. – Нам надо ехать. Нас еще в Вилькии ждут.
– Ну, папа!
– Зелик, – наконец снизошел хозяин. – Наскреби горсть монет и отнеси нашему сородичу.
Зелик потопал к березке, сунул руку в карман, но, поймав взгляд Ицика, так и не вытащил ее оттуда.
Фрадкин и Зельда зашагали к саням.
Когда Зелик догнал их, сестра спросила:
– Что он сказал?
Зелик мялся.
– Что он сказал? – сверкнул на него глазами Фрадкин.
– Он сказал: подачки мне не нужны. Мне нужна… – И Зелик осекся.
– Договаривай, – приказал Фрадкин.
– Ему нужна Зельда.
– Нахал! – возмутилась она.
– В отца весь, – буркнул Фрадкин. – Недаром я его брать не хотел. Но рук не хватает.
– Лучший подарок, говорит, для меня ваша сестра Зельда. Так что, милая, в старых девах не останешься!..
И мужчины громко засмеялись.
Только через четыре года Зельда снова появилась в местечке. Она томилась в доме отца и оттуда почти не выходила. Придет в синагогу, помолится – и обратно. Или изредка, когда Ицик обливается потом в лесу, выгуливает собаку.
Если бы не похороны жены корчмаря Хавы, Ицик еще долго бы ее не увидел. Не пойдешь же к ней и не постучишься.
Пока зарывали Хаву, Ицик стоял сзади Зельды и дышал ей в затылок. На миг ему показалось, что от его дыхания волосы ее заколыхались, закудрявились, заколосились, как рожь, дунь еще раз – и осыплются зерна.
Зельда зябла от его близости, старалась не смотреть на него, рыла носком ботинка глину, изредка поднимала глаза, и тогда их взгляды встречались, как две молнии, перекрещивались, и в ее груди что-то грохотало, как дальний громок. Ицик парил над ней, высоченный, ладно сколоченный, нетерпеливый.
– Не смотрите на меня так, – взмолилась она. – Ради бога, не смотрите. Не забывайте, где вы…
Но кладбище не могло его остановить.
Ицик следовал за ней до самого местечка как тень. Иногда он бросался к Зельде, хватал ее за руки и шептал:
– Осторожно! Там впереди яма!
Но впереди никакой ямы не было. Он сам был как яма, которую надо обходить стороной, чтобы не свалиться в нее.
Прыщавый Семен и Морта косились на них, и Зельда уже жалела, что легкомысленно согласилась пойти на кладбище. Но скука гнала ее из дома, и даже похороны казались развлечением.
– Мы с вами одной грудью вскормлены, одним молоком вспоены, – сказал Ицик, когда большак оборвался и замаячили избы, окрашенные сусальным осенним золотом.
Зельда вздрогнула, но не показала виду.
– Моя мать служила в вашем доме сперва нянькой, потом кормилицей, – не давал ей Ицик передышки.
Так вот в чьи слезы она макала палец, вот у кого спрашивала, когда же ее, Зельдины, глаза будут солеными! Что это – случайность или рок? Его мать – ее кормилица – как бы воскресла из мертвых, чтобы бросить их друг к другу, свести в этом местечке, на этом кладбище, на этом большаке, связать и соединить. Боже мой, какая нелепость! Ицик и она, – что может быть между ними общего? Да никакое молоко, сгусти его в самый крепкий клей, не прилепит их друг к другу.
Но как раз то, что казалось несбыточным, нелепым, невозможным, не отталкивало ее от Ицика, а тянуло к нему. Еще ни о чем не догадываясь и ничего не зная, она каждый раз искала его в синагоге и, когда он появлялся, искренне благодарила Бога. В Вильно или в Вилькии ее, бывало, и калачом в молельню не заманишь. Как и Верочка Карсавина, Зельда была безбожницей и всех богомолов, в том числе и родного отца, считала ханжами. Бог, если он настоящий, требует не молитв, не преклонения, а самопожертвования. Куда легче, конечно, жертвовать слова. Когда-то в детстве она мечтала о том, чтобы на свете жили одни глухонемые. Зельда представляла себе свой город, населенный глухонемыми людьми, от которых никогда не услышишь ни одного злого, ни одного неверного слова. Ходишь по такому городу и не чувствуешь себя ни чужой, ни лишней. Соседский мальчишка Антек не заорет на тебя:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































