Текст книги "Избранные сочинения в пяти томах. Том 2"
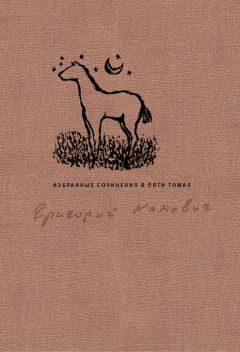
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Жидовка!
Городовой не гаркнет:
– Пархатый!
Папа не скажет:
– Погромщики! Свиньи! Быдло!
У глухонемого Бога в мире Зельды должны были быть глухонемые подданные. Разве не жила она в местечке как глухонемая? Перебросится несколькими словечками с Голдой или Каином и молчит. Целыми неделями, целыми месяцами.
Ей и с Ициком не о чем было говорить. В породах древесины она не разбирается, а он слыхом не слыхивал о том, чему ее учили в Виленской гимназии.
Проще всего было бы дать ему от ворот поворот, надерзить, отбрить, высмеять, пусть знает свое место, пусть не ходит перед ней тетеревом. Не такие тетерева токовали вокруг нее – она и ухом не повела. Хватит с него, молодого бычка, и Голды. Голда так и назвала его: молодой бычок.
Они и не заметили, как остались одни на местечковой улице.
– Помните, как приезжали с отцом и братом на лесосеку? – сказал Ицик, желая ее задержать. – Это было перед Новым годом. На вас была еще такая легкая беличья шубка.
Ицик волновался. Ему хотелось чем-то заинтересовать ее, но он, бедняга, не знал чем, только чувствовал спиной, затылком: сейчас что-то решится. Так бывает весной, когда на Немане трогаются льды, сперва с краю, с берега, медленно, тяжко, безнадежно, потом все дальше и дальше к середине, и вот наконец высветилась полынья, и с грохотом двинулась одна льдина, другая, и освобожденная, разрешившаяся от бремени река потекла вдаль, к морю.
– Помню, – ответила Зельда.
Да будет благословенна первая тронувшаяся льдина!
– И сами вы были похожи на белку, – оживляясь, продолжал Ицик. – И я первый раз в жизни пожалел… только вы надо мной не смейтесь… пожалел, что родился двуногим.
– А вам что, хотелось бы родиться волком?
– Нет. Я просто подумал: если бы я родился белкой, мы бы гонялись друг за другом по снегу, перепрыгивали бы с одного дерева на другое, жили бы в одном дупле.
Ицик уловил в ее взгляде насмешку и замолк. Господи, что я за чушь порю – уши вянут. Какая белка? Какое дупло? Передо мной – дочь хозяина, лесоторговца Фрадкина, богачка. Молчать, молчать! Только молчанием можно привязать к себе женщину. Молчание – цепь, слова – нитки, потянешь – и рвутся.
– А дальше? – внезапно подстегнула его Зельда.
– Жили бы в дупле, – обрадованно сказал Ицик.
– Это вы уже говорили.
– Гонялись бы друг за другом по снегу.
– И это говорили.
– Перепрыгивали бы с одного дерева на другое.
– Слышали, слышали. – Зельда улыбнулась краешком рта, и Ицик совсем растерялся. – А дальше?
Ее охватил какой-то странный азарт. Ответы Ицика забавляли ее, как детская игра, и Зельда окунулась в ее водоворот, забыв про все предосторожности и беды. Ей стало вдруг удивительно легко, как будто легкие наполнились свежим луговым воздухом, а из головы – неба каждого человека – улетучились тучи. Местечко вдруг раздвинулось, расширило свои границы, утлые избы уплыли куда-то, и перед глазами открылся голубой, дотоле невиданный простор.
– Дальше? – промямлил Ицик. – Орешки бы грызли.
– Я не люблю орехи, – все еще грея улыбкой рот, сказала Зельда.
– Они вкусные, – заверил Ицик.
– Но от них зубы портятся.
И Зельда показала Ицику свои зубы.
– «Зубы твои как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят и бесплодной нет между ними», – прошептал Ицик.
– Да у вас все зверьки да скотина на уме, – вставила Зельда.
– Это «Песнь Песней», – обиделся он.
– Что?
– «Песнь Песней» царя Соломона. Я ее всю наизусть знаю, – похвастался Ицик.
– А я только Пушкина знаю, – выдохнула Зельда. – «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам», – продекламировала она по-русски.
– Красиво, – подтвердил Ицик. – Но у царя Соломона лучше. Хотите – все прочту.
– Когда-нибудь в другой раз, – кивком поблагодарила его Зельда.
– Могу и Моисеево Пятикнижие… Книгу судей израилевых… – стрекотал он как весенний грач.
– Спасибо, спасибо, – испытывая какую-то предосудительную неловкость, сказала она. – Зачем себя утруждать?
– А мне совсем не трудно.
– Все равно из меня уже ничего не выйдет. Отец пробовал еще меня для приличия приобщить, но и он махнул рукой.
– К чему приобщить?
– Ко всему еврейскому.
– А разве птицу надо приобщать к лесу?
– Белая ворона – не птица, – погрустнела Зельда.
– Вы мне того… Пушкина, а я вам – царя Соломона. И не будете белой вороной, – вызвался Ицик.
– Пора домой, – сказала Зельда.
– Можно, я провожу вас?
– Не надо.
Но Ицик все-таки увязался за ней.
Они шли по местечку, и прохожие с любопытством оглядывали их, а парикмахер Берштанский прильнул к окну и даже помахал им салфеткой.
– Я думала: вы только сильны, а вы, оказывается, вон какой, – сказала Зельда, когда они подошли к фрадкинскому дому.
– Какой? – спросил он, предвкушая что-то лестное и неслыханное.
– Такой, – обронила Зельда.
– Когда мы снова увидимся? – с напускной деловитостью поинтересовался он.
– Никогда.
– Почему?
– Я уезжаю… в Вилькию… Потом, может быть, в Вильно.
– Не уезжайте, – простодушно сказал Ицик. – Приходите на лесосеку.
– Сосны валить?
– Грибы собирать. Столько рыжиков давно не было. Весь лес усыпан ими, как медовыми пряниками.
– С Голдой надоело пряники собирать? – вдруг спросила Зельда и вся съежилась.
– С Голдой?
– Я про вас все знаю, – мстительно добавила она, упиваясь его растерянностью.
– Голда, – пробормотал Ицик, – моя хозяйка. Я у нее живу.
– А я вас ни о чем не спрашиваю. Прощайте.
– Постойте, – Ицик схватил ее за руку.
– Отпустите!.. Мне больно…
– Не спешите… выслушайте меня… я хочу, чтобы вы знали… Может, то, что я скажу, глупо, но я скажу, я обязательно скажу. – Он отпустил ее руку, весь выпрямился, зажмурился, как перед прыжком в реку. – Куда бы вы ни уехали… в Вилькию… в Вильно… на край света, я все равно буду ждать… жить и молить Бога, чтобы он выдолбил для нас дупло. Больше мне от него ничего не надо. Ничего. Он все у нас отнял, кроме любви. И ни Голда, ни ваш отец…
На языке у него вертелось страшное слово, но Ицик сдержался.
– Мой отец ваш хозяин, но не мой, – сказала Зельда. – И счеты у нас с ним разные. Прощайте!
Она вошла в калитку.
– Зельда!
– Ну что вам еще? – Она обернулась, почти жалея его, но не остановилась.
Кровь ударила в лицо Ицику, жар обиды и бессилия захлестнул грудь, мозг словно вытек по капле, осталась только одна-единственная, спасительная в своей пагубности, и он, поддавшись искушению, пролил ее потому, что верил: соединить его с Зельдой могут еще общий грех и общая тайна.
– Говорят, ваш отец… мой хозяин… Маркус Фрадкин… убийца, – выдавил он.
Зельда остановилась, еще раз оглянулась не столько на Ицика, сколько на его слова. Но в воздухе никаких слов уже не было. Реяла осенняя паутина, и кружились взбодренные слабым ветром жухлые листья.
– Что?
– Говорят, ваш отец… когда-то… в молодости… убил моего… Габриэля Магида.
Зельда разглядывала его как диковинное, неожиданно выросшее во дворе растение с манящими, но ядовитыми плодами. Сейчас она жалела его еще больше, чем прежде, и в жалости ее не было и намека на укоризну. Казалось, то, что было для него такой тайной, нисколько ее не удивило. Подумаешь – тоже мне новость.
– Ну и что? – спросила Зельда. – С отца и спрашивайте за его грехи.
– Мой учитель рабби Ури говорил: «Грехи отцов своих искупайте, дети мои, любовью…»
– Дай Бог, – сказала Зельда, – чтобы ее хватило на любовь.
– Кого хватило?
– Любви.
И скрылась в доме.
Ицик долго стоял у калитки, бессмысленно скрипел засовом, заглядывал в окна, но Зельды не было видно. Каин лаял на него, вставал на задние лапы, метался на цепи, словно стыдил его или предостерегал.
В голове было пусто. Зельда как бы выгребла из нее все, кроме стыда и сожаления. Вот и все, думал Ицик, ничего не помогло – ни тайна, ни грех, ни его мольба и увещевания. Через денек-другой прикатит фрадкинская бричка и увезет Зельду в Вилькию, потом, может быть, в Вильно или на край света, на самый-самый край, где нет ни рыжиков, ни леса, ни его, Ицика. Так оно и должно быть, ибо у каждого свой путь, предначертанный свыше. Если на что-то и остается надеяться, то только на чудо. Но разве он один на земле ждет чуда? Чуда ждут все, даже те, кому оно не поможет.
Куда пойти? С кем посоветоваться? К рабби Ури? Но с ним можно говорить о чем угодно – только не о любви.
Господи, как мало людей на белом свете, которые любят! Если выйти на рыночную площадь и во всю мочь своих легких крикнуть: «Эй, кто любит, отзовись!», кто отзовется?
Разве что Манделева Морта?
Или Голда.
Про нее он совсем забыл, как будто ее и не существовало. Голда любит его, но на кой ему ее любовь? Да и любовь ли это, когда к тебе в постель лезут?
Странно, но он ни разу себя не видел в постели с Зельдой. Почему? Боялся ей сделать больно? Не смел, даже в мыслях, снять с нее сорочку и уронить на белый упругий живот голову? Ицик и сам не мог объяснить почему.
С Голдой все было проще. Нора – это все-таки не дупло. Тем паче что не он, Ицик, первый вырыл ее.
Он и чувствовал себя как в норе, когда Голда осыпала его своими как бы заученными ласками.
Первое время Голда тешилась с ним в своей постели, но Ицик не выдержал.
– Я не могу в твоей постели… Не могу, – жаловался он.
– Ну почему? Почему? Постель как постель, – удивлялась она и все приписывала его неопытности.
– Ты что, ничего не слышишь?
– Ничего, ничего, – обвивая руками его шею, приговаривала она, млея от его близости.
– Ошер дышит, – говорил Ицик.
– Дурачок! Ошер давно в могиле… Как же он может дышать?
– Дышит, дышит, – повторил он. – Ты только послушай.
Голда прислушивалась к тишине, откидывала голову, принюхивалась и, довольная, тихо хихикала:
– Мерещится тебе, Ицик!
– Я не могу… Понимаешь, не могу!..
– Если ты уж такой неженка, давай перетащим постель наверх, – потакала она каждой его прихоти.
Но и там, наверху, в его холостяцкой постели, в которой коробейник Ошер никогда не спал, Ицика преследовало дыхание покойного.
Когда под утро Голда уходила от него, он открывал настежь окна и долго проветривал комнатушку. Но даже ветер приносил сюда дыхание Ошера.
– Хочешь, я летом буду приходить к тебе в лес, – верещала Голда. – Чем мы с тобой хуже косуль и лосей?
– Да ты, Голда, не косуля… ты… грязная кабаниха…
Но она все терпела.
Ему не хотелось возвращаться к ней, к грязной кабанихе. Что, снова в постель? В постель, в постель, утром и вечером, днем и ночью, в постель, будь она проклята! Будь проклят тот час, когда сатана взял его за руки и повел по лестнице вниз и бросил рядом с Голдой туда, где столько лет, томясь от бессилия, ворочался коробейник Ошер!
Пора кончать, думал он, скрипя фрадкинской калиткой, слушая лай Каина и подстерегая свою косулю. Что ее напрасно подстерегать – сверкнула копытами, убежала в чащу, и никаким топором эти заросли не вырубишь. Пора кончать.
Надо сегодня же перебраться от Голды в какое-нибудь другое место. Рабби Ури зла не таит. Рабби Ури примет его с распростертыми объятиями. Он собирался ему даже избу отказать – других наследников у старика нет. Можно и к ночному сторожу Рахмиэлу, просторно и до леса близко, но у него, кажется, живет тот… с булавкой. На худой конец парикмахер Берштанский уступит угол – много ли ему, Ицику, нужно, только бы где-нибудь в лютый мороз голову приклонить.
А если Голда не отвяжется, то прощай, местечко! Работа для него всегда найдется. Только переплыви Неман, и ты в Германии, нанимайся к какому-нибудь Гансу в пакгауз, таскай мешки и слушай: «Шнеллер! Шнеллер!» Не захочешь в Германии бороду сбрить, валяй дальше, в Америку, там они сами, как евреи, бородатые, не понравится Америка – чеши, как водонос Озер Блюм, на землю праотцов, в Эрец Исроел. Конечно, жаль покидать родину… Пора кончать.
Ицик последний раз глянул в окно Зельды и поплелся домой.
– Ицик, – радостно встретила его Голда. – Где это ты столько шатался? Похороны давно кончились.
Она каким-то безошибочным бабьим чутьем уловила в нем перемену и преднамеренной грубостью попыталась скрыть свое волнение.
– Есть будешь? – смягчилась Голда.
– Нет.
– Я тебе яичницу зажарю. Куры несутся, словно завтра конец света. По два яичка за день.
– Голда, – сказал Ицик, и по тону, каким он обратился к ней, она почувствовала что-то неладное, положила на живот руки, вскинула голову, как будто подставила под удар лицо. – Я ухожу от тебя.
– Куда?
– Пока я еще сам не знаю. Может, к рабби Ури… Может, к Берштанскому.
– Господи! – выдохнула она. – А я-то думала: к женщине!.. Садись, сейчас я принесу яичницу.
И Голда исчезла.
Ицик слышал, как она разбивала о кухонный стол яйца, как они шкварились на сковороде.
Как долго, думал он, как долго! Чего она столько возится? Да у него сейчас кусок в горле застрянет. С Голдой всегда так: ни о чем у нее не просишь, а она вдруг кинется что-то жарить, варить, печь, и от ее рвения, от ее отчаянной расторопности глохнут обиды и недовольство.
– Ешь, – сказала она и поставила яичницу на стол.
Но Ицик и не притрагивался к еде.
– Ешь, – повторила она. – Поешь и… уйдешь. От меня еще никто не уходил голодным.
Яичница желтела, как огромная водяная лилия.
– Во всем я сам виноват, – пробормотал Ицик. – Сам.
– Вот соль, – прошептала Голда.
– Господь Бог создал мужчину не для того, чтобы он уступал женщине.
– Посоли, – сказала Голда и придвинула к нему солонку.
– Я должен был уйти от тебя в тот день, когда ты постелила постель, взбила подушки…
– Дай я сама посолю, – Голда взяла двумя пальцами щепотку соли и посыпала яичницу. Крупные кристаллики сверкали на желтках как иней.
– С тех пор твоя постель превратилась для меня в могилу.
– Хлеб маслом намазать? – спросила она и, не дожидаясь ответа, принялась намазывать краюху. Нож чуть дрожал в ее мужской руке, но Ицик не заметил.
– Постель без любви – могила, – продолжал он, желая выговориться до конца, до донышка и не щадя ее. – В ней назавтра… даже после первой брачной ночи… заводятся черви. Они выползают в темноте и пожирают наши души.
– Может, малосольный огурец принести? Я мигом, – сказала Голда и бросилась в сени.
Ицик и возразить не успел.
– Я целую бочку на зиму засолила, – некстати похвасталась она. – Они нынче дешевые. Полкопейки ведро.
Что она говорит, думал Ицик. Кому интересно знать, почем на базаре огурцы и сколько она засолила их на зиму. Не будет больше зимы. Не будет.
– Ты хоть слышишь, что я тебе говорю? – набычился он.
– Слышу, – ответила Голда. – Ешь, ешь!
– Я ухожу от тебя… навсегда, – с нажимом повторил он.
– Хорошо, хорошо. Но ты сперва поешь.
– Поешь, поешь, – передразнил он ее. – Спасибо! Сыт по горло!
Сорвался на крик, спохватился, схватил ложку и давай пихать в рот яичницу.
– Соли достаточно?
– Достаточно! – Его душила глухая ярость.
– Вот так вы, мужики, и любите, – тихо сказала Голда.
– Как?
– Пихаете в себя что попало, а потом благим матом кричите, что вас червями накормили.
Она отрезала ломтик огурца и, облизывая его кончиком языка, добавила:
– Что-то меня последнее время на кислое тянет.
Ицик молчал – хмуро, обиженно. Он ждал от Голды всего – ругани, проклятий, крика, но она была спокойна, сдержанна, даже холодна, как будто ее подменили. Ему хотелось, чтобы в его распаленную решительность, как в печку, подбрасывали не сырые чурки, а сухие березовые дрова. Голда же вопреки всем его ожиданиям посыпала огонь песочком.
– Ну вот… теперь, когда поел, ты можешь уходить.
Ицик навострил уши, чтобы уловить в ее словах неправду, но то ли от того, что он был слишком занят своими мыслями, то ли от того, что ложь его не устраивала, не почувствовал ни натуги, ни горечи.
– Я благодарна тебе, Ицик, – сказала она.
– Благодарна? За что?
– За то, что ты столько… столько, – Голда подыскивала подходящее слово, – был со мной… грязной кабанихой… У грязной кабанихи тоже есть душа… пусть маленькая… пусть мокренькая, как и ее рыльце… но есть… Все на свете не могут быть счастливыми… Кто-то должен быть и несчастным… Так вот… Господь Бог, когда произвел меня на свет, склонился надо мной и сказал: «Голда, ты будешь очень и очень несчастливой. Но знай: только для несчастных и существует Бог, счастливым Бог не нужен… я буду всегда с тобой…»
Она закусила нижнюю губу, чтобы не заплакать.
– Когда Ошер умер и ты первый раз спустился вниз и лег рядом со мной, я подумала: Господь сдержал свое слово… забрался ко мне в постель и обнял меня своими всемогущими руками… осыпал меня своими бесконечными ласками, – сказала Голда, загнав внутрь озноб и слезы. – Ты говоришь: наши души пожирали черви. Твою, Ицик, может быть… А мою… Моя росла по ночам как дерево и шелестела ветвями… и ты, Ицик, по ошибке принимал ее шелест за дыхание Ошера…
Ицик слушал, обомлев от неожиданности, готовый сам зареветь, досадуя на свою откровенность и чувствительность. Но не мог же он уйти как вор, ничего не объяснив.
– Что поделаешь, – вздохнула Голда. – Мужчина всегда лесоруб, даже если он парикмахер. Подрубит дерево, и ни шелеста, ни звука, только корни… корни никому не подвластны. Никому.
Она подошла к нему вплотную, заглянула в глаза, обвила его шею руками и сказала:
– Поцелуй меня, Ицик.
– Не надо… Не надо, – пробормотал он, пятясь, но руки Голды были крепки, как путы.
– Поцелуй.
Он быстро прильнул к ней и так же быстро чмокнул в омертвевшие губы.
– Ты первый раз пришел ко мне утром и навсегда уйдешь утром, – промолвила она.
– Нет, Голда.
– Да.
– Нет… нет…
– Да, да, да… Утром, утром…
И слова ее шелестели над ним, как ветви, и ползли по ним не черви, а стыли куколки, которые под утро расправят крылышки и взлетят.
XII
Страстью Ардальона Игнатьича Нестеровича были грибы. Весь год он нетерпеливо ждал осени, теплых грибных дождей, когда он, его жена Лукерья Пантелеймоновна и дети вооружались кузовками собственного плетения и отправлялись в лес. В округе все знали так называемые «места Нестеровича», и ни одна душа не отваживалась там промышлять. Ардальон Игнатьич, человек добрый и незлопамятный, мог простить любую провинность – кражу, поджог, мордобой, но только не это.
Грибные угодья Нестеровича простирались до самой Вилькии – дальше он не забирался. Не потому, что боялся заплутать или встретить конкурента, урядник везде урядник, а потому, что мог ни с того ни с сего понадобиться начальству для какой-нибудь важной государственной цели. А начальству, как известно, что осень, что зима, что грибы, что яблоки – все одно. Раз нужен, будь без всяких разговоров.
Целыми днями Ардальон Игнатьич с семьей рыскал по лесу. Бывало, и заночуют где-нибудь в курной избе, приютившейся на опушке, но домой, упаси господь, с пустыми руками никогда не возвращались. Иногда даже при луне промышляли. Уложат Катюшу и Ивана и айда в ельник.
Слава о соленьях и маринадах Лукерьи Пантелеймоновны шла по всему уезду, да что там уезду, по всему Северо-Западному краю.
Был Ардальон Игнатьич в грибном деле справедлив и щепетилен. Взяток грибами никогда не брал, хотя басурмане-евреи, зная его слабость, не раз пытались всучить купленное у кого-нибудь лукошко. Сами, канальи, грибов не потребляют, Бог их, вишь, не велит, а ему подсовывают.
Однажды всех взбудоражил слух, будто вскорости по ковенскому тракту в Тильзит в гости к кайзеру проедет царь Всея Белыя и Малыя со своей сиятельной свитой, и уездный начальник послал к Нестеровичу исправника Нуйкина, чтобы тот незамедлительно раздобыл у Ардальона Игнатьича кадочку грибов – ведра для такого случая может и не хватить.
Нестеровичу, конечно, было жалко расставаться с кадкой, но чего для государя-императора не сделаешь? Для него, ежели потребуется, и жизнь отдашь.
– Сам царь-государь отведает наших грибочков, – радовался Ардальон Игнатьич.
И Лукерья Пантелеймоновна радовалась. Она представляла себе, как государь-император поддевает золотой вилкой боровичок или подосиновик, подносит его ко рту и, расплываясь в счастливой улыбке, спрашивает:
– Чьи эти замечательные грибы?
– Урядника Ардальона Игнатьича Нестеровича, – отвечают ему хором в уезде.
– Представить оного Нестеровича к награде, – говорит государь-император, закусывая их грибочками пшеничную водку.
Но Ардальон Игнатьич и Лукерья Пантелеймоновна зря радовались. Урядник не только награды не получил, но и кадки. Такую кадку присвоили, ну просто сердце кровью обливалось.
А государь-император взял да проехал стороной. Или, может, вообще в гости к кайзеру не пожаловал. Кто их там разберет, сегодня милуются, завтра ссорятся, друг на друга войной идут.
– А может, еще проедет? – утешала мужа Лукерья Пантелеймоновна.
– Может, – неуверенно цедил Нестерович.
И они каждый год ставили царскую кадку. Съедали ее и снова ставили.
Не был для Ардальона Игнатьича исключением и нынешний год. Осень выдалась на удивление, старожилы не припомнят такой, дни стояли светлые, погожие, только изредка купол неба марали тучки, проливавшиеся благодатным грибным дождем. Грибов в угодьях Нестеровича было видимо-невидимо: рыжики высовывали из мха свои оранжевые рожицы, чванливые боровики и грузди сами просились в кузовок, а уж подосиновиков и подберезовиков развелось столько, что только успевай нагибаться и срезать.
Но Нестерович знал: через недельку-другую задует северный ветер, ударят заморозки, и грибы, если их не собрать вовремя, зачервивеют, сморщатся, кабаны потопчут их своими копытами, и тогда даже царской кадки не засолить. А без солений и жизнь не жизнь, жди следующей осени. А до следующей осени мало ли что может случиться – хворь в постель уложит или начальство в другое место переведет, куда-нибудь в степь, к калмыкам. Россия велика. Ничего не попишешь, такова доля служивого люда – мотаться из одного конца в другой, только обоснуешься, пустишь корни, а тебе: «Собирайся, братец, не мешкай!»
До сих пор – не сглазить бы – все шло как по маслу: в округе никаких происшествий, никаких волнений, живи себе в свое удовольствие, дыши, радуйся, стройся, граф Муравьев всех усмирил, показал бунтовщикам кузькину мать, сидят смирнехонько, не рыпаются.
Пока все шло тихо-гладко, Ардальон Игнатьич мог отлучаться из дому без всякой опаски. И вот надо же, в самый грибосбор, в самую страду, когда каждый час на вес золота, обрушилась на него такая морока, никуда и шагу не шагни, гляди в оба, докладывай. А докладывать-то не о чем.
Есть о чем или не о чем, без доклада не обойдешься. Исправник Нуйкин все жилы из тебя вытянет, никакой царской кадкой не откупишься. Скажешь: «Никого, ваше высокоблагородие, не нашел!» – плохо, побелеет весь, напустится на тебя, ногами затопает, заорет: «Ищи, бестия!»; скажешь: «Нашел!» – еще хуже, потребует преступника, живого или мертвого. А где его, преступника этого, возьмешь? Преступник – не груздь, в лес не сходишь, ножом не срежешь. Выкручивайся как умеешь, ворочай мозгами, не плошай. И уж не дай бог ляпнуть: «Никакого преступника, ваше высокоблагородие, в нашей округе нет!» – исправник совсем озвереет. «Запомни, бестия, заруби себе на носу: преступник есть в каждой округе! Может, не тот, кого ищем, другой, но есть. Понял?»
Что ему ответишь? «Понял, ваше высокоблагородие!»
Попробуй не пойми.
Исправник Нуйкин без преступников и дня прожить не может. Сидит в своем кабинете и только ждет, когда к нему какого-нибудь голубчика приведут. Для Нуйкина весь уезд – сплошное угодье преступников.
Однажды исправник ему сказал:
– Ты сам, бестия, часом не преступник? Почему в глаза мне прямо не смотришь?
– Ваше высокоблагородие! – ужаснулся Нестерович.
– С жидами запанибрата. С литвинами на дружеской ноге. А?
– Христом Богом клянусь.
– А ты, бестия, не клянись. Я тебя насквозь вижу.
Ардальон Игнатьич вернулся тогда из уезда черный, как головешка, заперся в своей комнате и три дня кряду пил белую, никого к себе не подпускал, даже Лукерью Пантелеймоновну.
– Преступник я… А ты жена преступника. А Иван и Катька дети преступника. И место наше в Сибири!..
– Ардаша! Ардаша! – стыла от испуга Лукерья Пантелеймоновна.
– С жидами запанибрата. С литвинами на дружеской ноге. А?
– Кто?
– Я… Кто ж еще? Поди, Лукерья, резника кликни!
– Какого еще резника?
– Ну того… как его… Бенцинона… Пусть оттяпает у меня крайнюю плоть…
– Царица небесная! Пресвятая богородица!
– И заодно у Ивана…
– Ардаша!
– А когда Бенцинон оттяпает, за ксендзом сходи… Аницетасом.
– А ксендз-то зачем?
– Меняю, Лукерья, веру!..
Ну и страху он тогда на всех нагнал.
Лукерья Пантелеймоновна плюхнулась перед святой иконой на колени и отмолила Ардальона Игнатьича у евреев, ксендза Аницетаса и Сибири.
Но свой разговор с исправником Нуйкиным Нестерович запомнил на всю жизнь. Он стал хитрей и осмотрительней, старался не ссориться с евреями, однако и в дружбу не лез, на литовцев покрикивал, особенно при чужаках или проезжих, исправнику Нуйкину каждый год из своего сада яблоки посылал – Нуйкин обожал ранеты! – свежую землянику и непременно ведро черной ягоды, потому что исправник страдал желудком.
С тех пор Ардальон Игнатьич пуще мора и огня боялся вызова в уезд, и каждая депеша оттуда повергала его в ледяное уныние. Но уж если Нестерович, получал их осенью, в самый грибостой, он просто приходил в бешенство и не щадил никого, даже домочадцев.
– Тятенька, а тятенька, скоро мы в лес пойдем? – донимала его Катюша.
– Скоро, скоро, – уверял Ардальон Игнатьич, мрачнея.
Разве объяснишь дочери, какая осечка вышла? От депеши просто так не отделаешься, не выбросишь ее, не повесишь на гвоздь в нужнике, не спалишь. Такие бумаги не горят, хоть на костре их сжигай. Ну что в них за сила кроется? Сатанинская, и только. Получишь такой листок, и вся твоя жизнь кувырком летит, и скулить не вздумай. Тебе же не за грибы платят, а за бдение. Первым делом – долг. А бумага и есть твой долг, заглядывай и запоминай, как молитву. Ежели бы он, Ардальон, сын Игнатьев, Нестерович, дожил до того дня, когда сам выпускал бы такие депеши, он бы, конечно, мог делать все, что душе угодно. Но ему до такого дня не дожить, годы не те, да и поумней грибники сыщутся. А жаль, жаль… Бумага с гербовой печатью нынче как ключ: запирай что тебе заблагорассудится и отпирай. Бумага всему голова.
Эх, получить бы от государя императора бумагу, в которой черным по белому были бы начертаны таковы слова: «Предъявителю сей грамоты, нижнему чину Ардальону, сыну Игнатия, Нестеровичу, разрешить во славу Российской империи собирать, солить и мариновать грибы в служебное время. Всем лицам, в том числе уездному исправнику Гавриилу Николаевичу Нуйкину, не чинить оному никаких препон и оказывать всякое полезное и благосклонное содействие!»
Шиш ты такую бумагу получишь, шиш. Пусть Лукерья Пантелеймоновна отправляется с детьми в чащу, а он, хотя бы для виду, что-то предпримет.
Но что? Что?
Заглянет на всякий случай в костел, покрутится на рыночной площади, зайдет в корчму.
Раз тот, кто покушался на жизнь его высокопревосходительства вице-губернатора, еврей, то что ему, еврею, делать в костеле? В костеле никто его не приютит и не спрячет, рассуждал Нестерович. В шестьдесят третьем местный ксендз не только своих бунтовщиков прятал, но и сам бунтовщиком был, в отличие от нынешнего, нынешний свой человек – Аницетас Иванович.
Пойти на рыночную площадь? В базарный день там яблоку негде упасть: евреи, литовцы, русские и даже цыгане. Цыгане – конокрады, они в вице-губернаторов не стреляют. Хороший конь – вот кто их государь!
А корчма закрыта. Прыщавый Семен и Ешуа сидят дома и по обычаю поминают Хаву.
Не вовремя она умерла, не вовремя.
Ардальон Игнатьич уже договорился было с Семеном, и вдруг на́ тебе – Хава!
Мысли Нестеровича перекинулись на покойницу.
Это она, Хава, принимала у его Лукерьи Пантелеймоновны Ивана и Катюшу. Лучшей повитухи во всей округе не было.
Если бы не исправник Нуйкин и те страшные его слова, Ардальон Игнатьич всенепременно на похороны пошел бы, проводил бы Хаву в последний путь, но смалодушничал, только издали рукой ей помахал.
Срам-то какой! Здоровый мужичище, а Нуйкина боится даже на расстоянии.
Нестерович еще раньше слышал, будто не то немцы, не то французы придумали такую подзорную трубу, приставишь к глазам – и за сорок верст видно. А от Нуйкина до местечка и сорока верст-то нет. Вдруг у него такая подзорная штука?
Ардальон Игнатьич перебрал в памяти места, куда он мог бы пойти, чтобы выполнить свой многотрудный долг, но ничего путного не вспомнил.
У евреев, подумал он, лучше не спрашивать. Кроме прыщавого Семена да ночного сторожа Рахмиэла, никто ему ничего не скажет. Странный народ, разрази его гром! Загадочный, дружный, как лисички в лесу: вроде все врозь и в то же самое время – вместе. С другими легче, другие понятнее, открытей, распалятся и лезут на рожон, кто с дубьем, кто с вилами, а эти щиплют пейсы, сидят молятся, шу-шу-шу да шу-шу-шу, а что у них в голове, сам черт не поймет. А уж тайну хранят как могила.
Взять Фрадкина: богач, по-русски шпарит как какой-нибудь иерей, на словах как будто предан и царю и престолу, а попробуй что-нибудь из него выжми. По́том обольешься, глаза на лоб вылезут, ничего не выудишь.
Или рабби Ури, ученый, можно сказать, мудрец, божий человек. Заговори с ним – на все вопросы ответит, о Христе тебе расскажет, о Моисее, а случись что – как крот в землю, не выцарапаешь. То же самое Ешуа. Он тебе и чарку нальет, и ветчинки из-под стойки вытащит, и обхаживать будет, точно жених, а спроси у него:
– Ешуа, ты не знаешь, кто стрелял в вице-губернатора?
И он тебе ответит:
– Не я, господин урядник, не я.
А ведь у каждого на уме какая-нибудь каверза, черт бы их побрал, и эта каверза, пожалуй, похуже, чем дубье и вилы. Против дубья и вил ружье годится, пушки, а вот против каверзы никакого оружия нет, в подзорную французскую трубу ее не разглядишь.
По правде говоря, и прыщавый Семен, и ночной сторож Рахмиэл ненадежны, но старика еще чем-то приманить можно, а того – только запугать.
Откуда они только взялись?
Этот их рабби говорит:
– Из Испании.
А спроси у него – чего в Испании не остались? – он тут же тебе, неучу, ответит:
– Выгнали. Король издал указ.
Из Испании, видишь ли, выгнали, а отсюда что, нельзя? У нас что, короля нет? Некому указы писать? Была бы только бумага, в два счета и справились бы. А то пустили к себе, пригрели, кров дали и сейчас гоняемся за ними как гончие, ищем, кто стрелял в его превосходительство вице-губернатора, дай бог ему скорее поправиться!
Он, Ардальон Игнатьич Нестерович, лично к ним ничего не имеет, пусть живут, плодятся, шушукаются, торгуют, шьют, бреют, пожалуйста. Но он же не только Ардальон Игнатьич Нестерович. Он еще урядник. А уряднику, как и каждому чиновному лицу, небезразлично, о чем они шушукаются и кого бреют, чем торгуют и что шьют.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































