Текст книги "Избранные сочинения в пяти томах. Том 2"
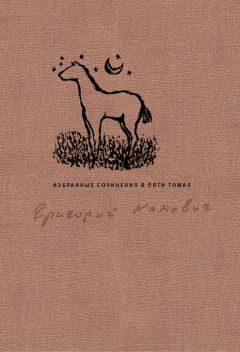
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Морта принесла еду в тот момент, когда прыщавый Семен примеривал у восточной стены жандармский лапсердак.
Ел он под удары грома, докатывавшегося откуда-то из-за леса, вяло черпая ложкой щавелевый суп, забеленный сметаной. Через окно было видно, как молнии полосуют небо: вспыхнут, зальют все до самого горизонта и погаснут. Прыщавому Семену вдруг пришла в голову безотрадная мысль, что и сам он похож на молнию, только без грома и без неба, и что если он кого-то и может поджечь, то только самого себя, незадачливого, никого не любящего и нелюбимого. Прожил на свете больше тридцати лет – и что он видел, чего добился? Нахлебник, ухажер крепостной девки, сообщник урядника, тупицы и солдафона. А ведь совсем недавно, каких-нибудь десять лет тому назад, он еще мечтал стать великим раввином, наподобие Виленского Гаона Элиаху мечтал посвятить себя избавлению евреев от пороков и унизительного раболепия перед каждым городовым, вывести их из неволи, как Моисей из Египта.
Как часто видел он себя во главе толпы и слышал свой громоподобный голос:
– Евреи! Я зову вас на землю праотцев. Все, в ком осталась хоть капля чести и достоинства, за мной! За мной, сыны и дщери Израиля!
А чем все кончилось?
Все кончилось тем же: равнодушием и страхом. Трижды проклятым еврейским страхом. Оказалось, собственная задрипанная лавка, собственная корчма и парикмахерская дороже, чем камни иерусалимского храма.
Даже родной отец, отдавший его в учение к рабби Ури и позже пославший его в Тельшяй, в ешибот, сказал ему:
– Семен! Брось свои бредни, займись лучше торговлей. Пока евреи соберутся на Земле обетованной, твои кости сгниют. Вот тебе для начала двести рублей, открой лавку и продавай не камни иерусалимского храма, а селедку.
И он послушался, открыл лавку и сгорел потому, что евреи покупали селедку не у него, а у его соседа.
Когда прыщавый Семен вернулся в местечко, ему уже ничего не хотелось: ни Иерусалима, ни селедки. От селедки его просто мутило, и с тех пор в доме не держали ее, хотя корчмарь Ешуа терпел на этом большие убытки.
Прыщавый Семен кончил есть, поставил миску на стол и лег.
За лесом по-прежнему гремело, и молнии, необычайно яркие и недолговечные, вспыхивали в окне, как дурное предзнаменование.
Наконец зарядил дождь. Крупные капли клевали стекло, как куры хлебные крошки.
На цыпочках в комнату вошел корчмарь Ешуа.
– Ты не спишь? – спросил он.
– Чего тебе надо? – грубо одернул отца прыщавый Семен.
– Ничего.
– Раз ничего, зачем пришел?
Прыщавый Семен искал ссоры, но Ешуа был начеку.
– Тебе привет от Вайсфельда, – начал издалека корчмарь.
– Так я тебе и поверил.
– Ей-богу… О твоем здоровье справлялся… И еще тебе привет от Симхе Вильнера…
– Тоже о моем здоровье справлялся? – сверкнул глазами прыщавый Семен.
– Он всегда справляется… хоть и дальний, но все-таки родственник.
– Все?
– Что все?
– Все приветы?
– Вроде бы все…
– Тронут. – Прыщавый Семен вдруг встал с кровати, подошел к отцу, взял за плечи, повернул к двери и властно прохрипел: – Иди! А то, не дай бог, еще заразишься.
Ешуа и эту обиду снес.
– Да, – задумчиво протянул корчмарь. – Весь дом горит… от пола до крыши… и чад от нас идет по всему местечку…
– Что ты мелешь?
– Я видел его… того… в ермолке…
– Где? – оживился сын.
– Я его до Рахмиэлова овина довез.
– Ты… довез?
– А что? Еврею приходится ладить даже с нечистой силой.
– И что же ты узнал?
– Сирота… мать погромщики убили… кровь, говорит, еще не засохла…
– Чья?
– Матери… на булавке…
– Брешет, собака!
– Проехали мы с ним от развилки до окраины, а я до сих пор опомниться не могу… всю ночь ворочался… не спал…
– Говоришь, у Рахмиэлова овина слез?
– Да, – сказал корчмарь. – Ты его, Семен, не трогай! Может, в твоей хворобе он и не виноват. Я даже его к нам пригласил. Накормим, дадим денег на дорогу, и пусть едет с миром…
Прыщавый Семен молчал и что-то обдумывал.
– А если не придет?
– Тем лучше, – ответил корчмарь.
– Нет, – возразил сын. – Так легко он не отделается…
– Зачем еще один грех брать на душу?
– Один или сто… Кто виноват в одном, тот виноват во всех.
– Что же, по-твоему получается, я и за грехи урядника отвечаю? – поддел сына Ешуа.
– Отвечаешь! – воскликнул прыщавый Семен. – Разве ты хватаешь его за руки, когда он кого-нибудь порет или лезет в чужой карман? Все мы грешники… И этот твой несчастненький в ермолке тоже… только до его греха докопаться надо… И я кровь из носу – докопаюсь… Праведник вшивый нашелся… посланец Бога… все мы посланцы дьявола, все… Иди!
– Господи! Горим, горим, – пробормотал Ешуа.
– Горим, – согласился прыщавый Семен. – Горим и водкой тушим.
У двери корчмарь Ешуа обернулся:
– Зачем к тебе Нестерович приходил?
– Приветы передал, – усмехнулся прыщавый Семен. – От уездного исправника Нуйкина… от виленского вице-губернатора, от царя-государя Александра Второго… справляются о моем здравии, спрашивают, не нужно ли чего-нибудь мещанину Семену Манделю…
– Не связывался бы ты с ним, – посоветовал корчмарь.
– А с кем прикажешь связаться? С Маркусом Фрадкиным? С братьями Спиваками? Да я для них трактирный ублюдок, от меня за версту твоей водкой разит.
– Можно отсюда уехать.
– Куда? В Ковно? В Вильно?
– В Америку.
– Торговать селедкой? И там на мещанина Семена Манделя какой-нибудь урядник или исправник найдется. Зачем менять исправников?
– Умному еврею и исправник – не помеха.
– А я не умный… Я дурак. А дураку даже собственный отец – помеха.
– Ты еще болен, Семен.
– А я никогда не был здоров.
– И все же мой совет: держись подальше от Нестеровича. Если еврей чего-то и может добиться в жизни, то не чужими наручниками, а своими руками…
Через три дня прыщавый Семен впервые вышел из дому. Он слонялся по двору, вокруг корчмы, дышал полной грудью и ни о чем не думал. Он подолгу сидел под дикой грушей и глядел на крохотные сморщенные плоды, на корявый ствол, на чистое, как будто выстиранное небо, по которому куда-то плыло единственное заблудившееся облако, быстрое и легкое, как детское сновидение. Прыщавый Семен провожал его печально-завистливым взглядом, и оно, просвеченное чужой болью, как бы замедляло свой бег.
– Чего здесь сидишь? – спросила у него Морта.
– Смотрю…
Прыщавый Семен помолчал и добавил:
– Вон на то облачко… На что оно, по-твоему, похоже?
– На что? – Морта вскинула голову. – На кошку… Вон – мордочка, а вон – хвост…
– На кошку, говоришь, – разочарованно протянул Семен. – А я подумал… это, конечно, глупо… Я подумал, что оно похоже на мою душу… Ха-ха-ха… Маленькое белое пятнышко в неоглядной пустоте… мечется… летит… тает… и никому, ни Богу, ни черту, нет до нее дела…
– Чем сидеть, пошли лучше коней поить, – неожиданно предложила Морта. – Я поведу каурого, а ты – гнедую.
– Пошли, – столь же неожиданно согласился Семен.
Они шли лесом: Морта впереди, ведя за поводья каурого, а Семен с гнедой чуть сзади. Лошади едва трусили, отряхивая с грив сосновую хвою.
Прыщавый Семен смотрел на загорелую шею Морты, на ее крепкие шуршавшие в траве ноги и чувствовал, как с каждым шагом к нему возвращаются силы и бунтует изголодавшаяся, не укрощенная болезнью плоть.
– Я буду купаться, – сказала Морта, когда лошади напились.
– И я буду, – подхватил Семен.
– Тебе нельзя… Отвернись!..
– Ладно.
– Отвернись!
– Господи! Вторая дева Мария! – выдохнул он и отвернулся.
Морта быстро сбросила с себя юбку, потом блузку и плюхнулась в сорочке в воду.
Волосы ее качались, как водоросли, и груди светили из-под рядна, как две спелые груши.
– Теперь смотри! – крикнула она, все дальше отплывая от берега.
Каурый и гнедая стояли в воде, касаясь крупными усталыми головами, гривы их перепутались, ноги их переплелись, ноздри расширились, и из них что-то прорастало, как прорастает колос из земли: неслышно, грешно и упрямо.
Морта вышла из воды, схватила одежду, бросилась в кусты и, не выжав волосы, оделась.
– Ты красивая, – сказал сын корчмаря.
– Все-то ты выдумываешь, Симонас!
– Красивая, – пробормотал он. – И я знаешь чего хочу…
– Не знаю, – опасливо пролепетала Морта.
– Хочу, как они… как наши лошади… чтобы одна грива… одни ноги… один рот…
– Не надо, Симонас!.. Ради всех святых!..
Морта бросилась к реке, выгнала из воды каурого и гнедую, вцепилась в поводья и не оглядываясь зашагала прочь. Она вспомнила, как десять лет назад, возвращаясь с водопоя, забрели они с Семеном на отцовское подворье. Изба развалилась, а пруд ряской затянуло. Морта обошла двор, заглянула в крест-накрест заколоченное окно, подняла с земли прогнивший деревянный башмак, напялила на босу ногу и похоронно сказала:
– Мамин башмак… мамин…
Прыщавый Семен сидел на кауром, тогда еще молодом и норовистом, и ждал, пока Морта наплачется всласть. Он никак не мог взять в толк, зачем затащила она его на этот пустырь, на это разоренное и богом забытое подворье, где даже ветру делать нечего: ставни сорваны, деревья срублены, трава не растет.
– Конура Саргиса! – обрадованно воскликнула Морта. – И цепь… Можно, – обратилась она к Семену, – я возьму ее?..
– Далась она тебе… ржавая вся, – не слезая с лошади, буркнул сын корчмаря.
– Можно?
– По мне – забирай все: и цепь, и башмак, и конуру.
– Я только цепь, Симонас.
Его коробила ее безоглядная просительность и уничиженность.
– Да возьми ты ее!.. Возьми!.. – отмахнулся он. Не сказав ни слова, Морта перекинула цепь через круп гнедой, еще раз оглядела осиротевшую вотчину и дернула повод.
– Иногда я вам завидую, – сказал прыщавый Семен, когда лошади поравнялись.
– Нам?
– Твоему отцу… твоим братьям… тебе… вообще литовцам.
– А чего нам завидовать? У нас ничего нет.
– У вас есть цепь, которой вы привязаны к этому небу, к этому полю, к этой конуре. А у нас ее нет. Понимаешь, нет!..
– Но у вас есть деньги. За деньги все можно купить.
– Такую цепь за деньги не купишь… За нее кровью платят… каторгой.
Странно, чего ей вспомнились и та пора, и тот разговор, и та цепь? Уцелело ли что-нибудь от отцовской хаты? Морту вдруг потянуло туда, потянуло властно, неудержимо, как будто все там снова ожило: и колодец, и ставни, и корова, как будто снова – через столько-то лет! – распахнулись крест-накрест заколоченные окна и в крайнее из них, в то, что выходит в сад, выглянула мать в цветастом платке и громко, кажется, на всю землю крикнула:
– М-о-о-р-т-а-а-а!
– Дальше ступай одна, – ворвался в ее воспоминания хриплый баритон Семена. У Рахмиэлова овина он отдал ей лошадь и сказал: – У меня к ночному сторожу дело… Ежели отец спросит, где я, скажи: у реки.
– А ты скоро?
– Скоро.
Ночного сторожа Рахмиэла прыщавый Семен дома не застал. За домом, на огороде, возился Казимерас, тот самый Казимерас, который у всех евреев местечка гасил по субботам свечи.
– А хозяин где?
– Ушел.
– Один?
– Один.
– Говорят, у него какой-то побродяга живет.
– Арон, – охотно объяснил Казимерас.
– Арон?
– Пасынок его.
– А ты, часом, не путаешь?
– Может, и путаю. – Казимерас снова взялся за лопату. Долгие разговоры его утомляли, и он от слов уставал скорее, чем от вил или серпа. – Подожди, придет Рахмиэл, он тебе сам все растолкует.
VII
Когда же он придет, когда же, когда?..
Зельда Фрадкина сидит за пианино и играет фугу Баха. Дома, кроме Ошеровой вдовы Голды – кухарки и поломойки, – никого нет. Отец в глуши не засиживается (на то он и лесоторговец), разъезжает по Северо-Западному краю, ругается с плотогонами, пропадает на лесопильнях. Старший брат Зелик с женой и слабоумной тещей живет в Вилькии, хозяйничает на спичечной фабрике. Если и приезжают сюда, то ненадолго, на недельку, от силы на две, хлебают ложками липовый мед, едят пригоршнями землянику или чернику, а брат Зелик охотится на перепелов и вальдшнепов, приносит их в ягдташе домой, бросает на кухонный стол и победительно говорит Голде:
– Ощипай!
Голда ощипывает их, и Зельде по ночам снятся сны, в которых летают ощипанные птицы.
Время от времени отец привозит ей женихов, тихих и нетребовательных, как огородные пугала. Он заставляет Зельду играть, читать русские стихи, и женихи млеют от неискреннего припадочного восторга. После их отъезда в доме остается запах глупости и породистого пота, и Голда по ее просьбе долго проветривает комнаты. Зельда, может быть, и вышла бы за кого-нибудь из них замуж, но ей не хочется рожать евреев. Родишь и приговоришь своих детей к черте оседлости, как к каторге, век не простят. А за инородца отец никогда ее не отдаст. Никогда. Инородец может быть кем угодно – другом, покупателем, компаньоном, но только не родственником, тем паче мужем.
Зельда сидит за клавесином, и мнится ей, будто она вовсе не Фрадкина, а какая-нибудь княгиня Трубецкая, отправившаяся в бессрочную ссылку к мужу-декабристу, и роль верной жены-мученицы льстит ей до слез, хотя ни брат Зелик, ни сын корчмаря Семен, ни урядник Нестерович не похожи на опальных князей и кандалами-цепью гремит только Каин, старая охотничья собака.
Зельда нажимает на клавиши и вся погружается в какое-то зыбкое и сладостное забытье. Из разноголосицы звуков и мыслей и складываются, лепятся, возникают и исчезают лица мучеников и героев, и среди них лицо Верочки Карсавиной, ее лучшей гимназической подруги. Вместе с ней собиралась Зельда поехать сестрой милосердия «на холеру» в Саратовскую губернию, кажется, в Ртищево, но отец встал на дыбы.
– Это их холера, – сказал он. – Верочка поедет в Саратов, а ты в Петербург.
Верочка поехала в Ртищево, заболела и не вернулась, а ее, Зельду, в Петербурге на Высшие женские курсы не приняли.
Зельда помнит, как они с Верочкой Карсавиной играли эту фугу в четыре руки, помнит ее тонкие и длинные, как праздничные леденцы, пальцы.
И еще Зельда помнит выпускной бал в большом и светлом гимназическом зале. В нарядном платье и в черных лакированных туфельках стоит она у стены, на которой висит портрет государя-императора Александра Второго, его величество смотрит на нее по-отечески строго, подбадривает, и она улыбается ему и Верочке Карсавиной, проносящейся мимо в вихревом искрометном вальсе. Верочка откидывает свою изящную легкую головку, смеется, и смех ее звенит беззаботно и заразительно.
– Ты почему не танцуешь, Зельда? – спрашивает Верочка сквозь смех.
Почему? Зельда только разводит руками. Она единственная еврейка на балу. Был еще, правда, Ноах Берман, сын адвоката, но в прошлом году помер. Когда Ноах был жив, он всегда приглашал ее и прижимался к ней своей впалой, изъеденной чахоткой грудью. Ноах ее любил. Ее любили все мертвые: и мама, и бабушка. Но зачем ей, Зельде, любовь мертвых? Зачем?
Она с завистью смотрит на подругу, на государя-императора, и ей кажется, будто сошел он с портрета, щелкнул перед ней каблуками, крутанул гусарские усы, закружил ее в танце. Все расступаются перед ними, а царь кружит ее и кружит.
– Я еврейка, ваше величество, – говорит Зельда.
– Неужели? – диву дается царь. – Ни за что бы не поверил.
– Еврейка, еврейка, еврейка, – в такт праздничной музыке твердит она. Но царь прижимается к ней, как чахоточный Ноах Берман.
– На балу все равны, – роняет государь.
И за ним, за владыкой Всея Великыя, Белыя и Малыя, нараспев повторяют: и директор гимназии Аристарх Федорович Богоявленский, и антисемит учитель латыни Коренев, и отец Георгий в длиннополой шелковой рясе.
– На балу все равны… на балу все равны… на балу все равны…
Когда же придет отец, когда же, когда?..
Зельда вдруг переходит с фуги Баха на вальс. Господи, как скучно! Ваше величество, почему так скучно после бала? Отец небось сейчас торгуется с кем-нибудь, считает убытки и прибыль. Что за радость в прибыли? Построит еще один дом, купит еще сорок серебряных ложек и вилок, сошьет у самого модного ковенского портного новый камзол, повесит в шкаф и отдаст на съедение моли. Напрасно отец так уповает на деньги. Разве они открыли ей двери на Высшие женские курсы в Петербурге?
Верочка Карсавина уговаривала ее креститься.
– Ты же русская, – жарко убеждала она Зельду. – Какая из тебя еврейка? У тебя только имя еврейское и, может быть, глаза, и то только чуточку, когда ты грустная… Хочешь, я поговорю с отцом Георгием?..
В самом деле, какая она еврейка? Кроме паспорта и сострадания к своему племени, ничего еврейского в ней не осталось. Язык? Да она по-русски говорит в тысячу раз лучше. Во всяком случае никто еще ни разу не посмеялся над ее произношением.
– Карл у Клары украл кораллы! – торжествующе выкрикивала она на переменах в гимназии.
Отец и Зелик еще цепляются за еврейство, но и то скорее из приличия, чем из преданности. Россия – море, еврейство – пруд, речушка, заросшая кугой, топь, трясина.
И все же что-то удерживает Зельду от такого шага. Разве быть «православной из жидов» лучше? Докопается кто-нибудь до ее бабушки Гинды, до ее матери Сарры, до ее отца Маркуса Фрадкина и брата Зелика, и море-океан тотчас превратится в ту же мелководную речушку, кишащую пиявками и родными лягушками.
Когда они несолоно хлебавши вернулись из Петербурга, отец предложил ей место в своей конторе в Вилькии, но и от конторы Зельда отказалась. Какое ей дело, сколько леса сплавляют росплывью и сколько плотами? Корпеть над бумагами, проверять счета, выуживать из купчих ошибки – это тоже сменить веру. Зельда Фрадкина – торгового вероисповедания! Весело, ох как весело после бала!..
Когда же он приедет, когда же, когда?..
Отец обещал привезти из Ковно настройщика.
Когда он привезет его, Зельда подойдет и скажет:
– Милостивый государь! В первую очередь соблаговолите настроить меня! У меня что-то там оборвалось…
Глупости, глупости… Ничего она ему не скажет… Она никому ничего не скажет. У всех что-то там оборвалось. У всех. Потому, наверно, счастье – скучно, а несчастье – возвышенно.
Скоро Успенье. На Успенье Зельда сходит в костел и подаст нищим.
– Доброта вашей дочери безгранична. Но подобает ли еврейке подавать в притворе иноверцам? – жалуется на нее отцу молодой рабби Гилель.
Пусть рабби Гилель не беспокоится: и добро можно творить от скуки. Она и еврейкой останется потому, что и русским скучно. И литовцам, и калмыкам, и, как их там, ногайцам… Ах, как скучно после бала, рабби Гилель! Как там в Писании сказано: «И сотворил Бог скучного человека из праха земного, и вдунул в ноздри его скуку, и стал человек существом скучным. И насадил Господь скучный сад в Эдеме… и поместил там человека, которого от скуки сотворил».
В комнату с половой тряпкой в руке входит Голда.
– Все играете, барышня? – искренне сетует она. – Погуляли бы, пока полы помою и пока ваши ученички не пришли.
– Мой, – отвечает Зельда, откидывается на спинку стула и долго трет озябшие от музыки руки.
– Вы уж, барышня, не сердитесь, по мне, лучшая музыка – это мужчина, – Голда прыскает и мочит тряпку в ведре.
– А у тебя… много их у тебя было? – неожиданно спрашивает Зельда.
– Боже упаси! – машет тряпкой Ошерова вдова, и грязные брызги летят на умолкший клавесин.
– А когда не любишь? – не оборачиваясь, допытывается хозяйка. – Тогда какая музыка?
– Что правда, то правда. Когда не любишь, тогда не музыка, а вы уж, барышня, не сердитесь, скрип… как будто во дворе сырые дрова пилят…
Голда снова прыскает и принимается с веселым остервенением натирать половицы.
– А твой жилец, – продолжает Зельда, – он кто?
– Ицик, – но-кошачьи выгибает спину Голда. – Лесоруб.
– Еврей – лесоруб?
– У вашего папаши в работниках. Играйте, барышня, играйте. Под музыку полы мыть приятней.
Но Зельда не притрагивается к клавишам. Она смотрит на Голду, на ее всклокоченные волосы, подоткнутую домотканую юбку, на тяжелые голени.
– Твой жилец с меня глаз не сводит в синагоге.
– Молодой бычок на все стадо смотрит, – орудуя у ног хозяйки тряпкой, говорит Ошерова вдова. – Поднимите, пожалуйста, ноги. Господи, какие они у вас худющие!..
– Ноги как ноги, – защищается Зельда и почему-то вся съеживается. «Лучшая музыка – это мужчина». Грубо, но, пожалуй, верно. Не воздух исцеляет от хандры, не Бах и не Шопен, а любовь и смерть. На свете, говорила Верочка Карсавина, есть один тиран, перед которым все бессильны, этот тиран – любовь.
– Придут ваши погромщики и наследят, – ворчит Голда.
– Никакие они не погромщики.
– Каков отец, таковы и дети.
– И отец не таков. Урядник – чин, а не вина.
– Вы уж барышня, но вы совсем людей не знаете. Урядник и чин, и вина.
Может, Голда права. Может, не стоило связываться с Нестеровичем. Но он слезно умолял:
– До ближайшей школы, почитай, верст пятнадцать. Детишки совсем одичают.
Я не учительница, возражала Зельда. Я обыкновенный человек… к тому же еврейка.
– А что, еврей должен непременно научить дурному? – умасливал ее урядник.
– Коли не боитесь, приводите, – уступила Зельда.
– А чего бояться? Фрадкины люди добродетельные и благонадежные.
Пока благонадежность устанавливают урядники, благонадежных нет и никогда не будет, подумала Зельда, но смолчала.
– Идите, барышня, идите, – не унимается Голда. – Бесенята вас подождут. А я полы помою и баньку натоплю. Может, даст бог, роб Маркус и Зелик на охоту приедут. Давненько не щипала дичь… давненько.
Зельда выходит в сад.
Она подходит к конуре, треплет Каина по шерстке, тот садится на задние лапы и благодарно скулит. Морда у него усталая и умная, как у человека. Коричневые, слезящиеся от яркого света глаза смотрят сочувственно и выжидающе.
– Ну что, Каин, в путь?
Собака сияет от счастья.
Обычно они уходят из дому до вечера, бродят по полям, по перелескам. Каин пугает птиц, а Зельда думает о своей жизни, где, кроме бала, не было ничего хорошего. Каин заменяет ей однокашников и учителей, и она часто обращается к нему не по кличке, а по чьему-нибудь имени:
– Аристарх Федорович! Зарецкий подбросил мне в парту ужа!
Или:
– Трубицин! Карсавина просила тебе передать, что она тебя нисколечко не любит.
Каин отзывается на все имена, даже женские. Иногда Зельда спускается с ним к Неману, садится на мокрый песок и что-то чертит лозинкой. Пес, навострив уши, следит, как она гладит нарисованного неживого мужчину, и в коричневых собачьих глазах посверкивает терпеливое удивление.
У Рахмиэлова овина Зельда сталкивается с прыщавым Семеном.
– Здравствуйте, – радостно говорит сын корчмаря.
– Здравствуйте!
– Все с собакой да с собакой. Не надоело?
– Нет, – отрезает Зельда и собирается пройти мимо, но прыщавый Семен пристраивается к ней, забыв про бродягу в ермолке и про свою лошадь.
– Можно, я заменю его? – предлагает сын корчмаря и умывает угрюмое лицо улыбкой.
– Кого?
– Пса вашего.
– Вы его не можете заменить, – отмахивается от него Зельда.
– Почему? Я умею кусаться… ходить на задних лапах… сидеть на цепи… Что еще требуется от пса?
– Чтобы он молчал.
– И только? Молчу! Молчу!
И прыщавый Семен замолкает.
– Ну как, годится? – нарушает он через миг свой обет. – Приходите вечером к старой груше, я покажу, какой лозиночкой надо мужчин рисовать…
Зельда краснеет и убегает.
– Приходите, – вдогонку, как камень, швыряет прыщавый Семен и заливается лаем: – Гав! Гав! Гав!
Нахал! Почему его все называют Прыщавым? У него же ни одного прыщика нет. Когда Семен молчит, он даже красив – лицо мужественное, особенно складки у рта – как будто резцом по камню, – глаза печальные, с диковатым отливом, губы сжатые, обиженные, только зубы подвели – кривые и жадные.
Вот и лес. Сквозь кроны струится солнце – бабушкина прялка прядет золотую пряжу.
– Семен! – окликает собаку Зельда.
Гончая ластится, и не поймешь, то ли слеза, то ли солнечный луч брызнул у нее из глаз.
– Скажи, Семен, тебе все равно, какие у меня ноги?
Каин-Семен виляет хвостом и, заслышав в можжевельнике шорох, бросается в густые дымчатые заросли.
Зельда нагибается, срывает кустик перезрелой земляники, вертит в руке, подносит к губам и откусывает ягоды.
В лесу все переливается и благоухает, как за свадебным столом.
Зельда приваливается к сосне, отыскивает взглядом голубой лоскуток неба и, словно в забытьи, бормочет:
– Господи! Чем я хуже Голды? Я не могу… я не хочу лозинкой по песку… Господи!..
Она всхлипывает, смахивает со щеки слезу.
– Для кого ты меня бережешь, Господи?
Вокруг тишина. Лист и тот не шелохнется.
Прибежал Каин.
Тычется в юбку, зовет ее.
Куда ты меня, пес, зовешь? Разве ты не видишь: я с Господом разговариваю?
Собака скулит и поглядывает на можжевельник. Ну что ты там, дуралей, увидел?
Зельда бредет за Каином, приближается к можжевельнику, замечает распластанного человека, ермолку, вскрикивает и пускается наутек.
– Каин! Каин! – кричит она, продираясь через кустарник.
Гончая догоняет ее на опушке, высовывает розовый язык и выталкивает из себя можжевеловый воздух.
– Кто там? – безотчетно спрашивает Зельда. – Кто там?
…– Что с вами, барышня? На вас лица нет. – Голда стоит во дворе и по-мужски, короткими сильными замахами, колет дрова. – Кто за вами гнался?
– Никто по гнался, никто… Просто утомилась, – отвечает Зельда.
Она входит к себе, плюхается на обитую плюшем софу, утыкается в мшистое изголовье, пытается вздремнуть, но не может, ложится на спину, пялится на затейливую висячую лампу, купленную отцом у какого-то разорившегося шляхтича, в резной потолок, напоминающий шахматную доску, только без фигур, вскакивает, открывает буфет, достает бутылку ликера, припасенного Зеликом на случай удачной охоты, наливает полную серебряную рюмку и выпивает до дна.
Голда стучится в дверь, зовет хозяйку, но Зельда не отзывается. Она стоит, скрестив на груди руки, и смотрит в сад, на беременные деревья, на пичугу, перепрыгивающую с одной ветки на другую, – ну что ей неймется, чего она мечется, все ветки одинаковы. В ушах Зельды отдается шорох можжевельника и топот ее худых ног по проселку. Она сама не понимает, почему бросилась наутек. Стыд ее прогнал или страх? Стыд, конечно, стыд. Что, если тот… в ермолке… жив и разнесет по всему местечку: знайте, люди, дочь Маркуса Фрадкина Бога о грехе молила, просила, чтобы он послал ей какого-нибудь жеребчика, он, прыщавый Семен, кидай Морту, выходи на подмогу!
Зельда снова наливает себе полную рюмку. Ликер горячит кровь, ликер успокаивает.
– Сперва помоетесь или сперва покушаете? – из-за двери гудит Голда.
– Покушаю.
Голда приносит бульон с клецками и куриные котлеты.
– Приятного аппетита, барышня. А я пошла мыться. Вторую неделю груди чешутся…
– Иди, иди!
Когда Голда уходит, Зельда снова наливает себе рюмку, подносит к губам и, не отведав, ставит на стол. У нее и от двух рюмок голова кружится.
Когда же приедет отец, когда же, когда?..
Привез ее сюда, нанял Голду, и живи как в раю. Свежий воздух. Парное молоко. Музыка. Музыка? Рай? Не рай, а неволя, плен! Зельда пленница родного отца! В Вилькии она еще может подцепить какого-нибудь инородца. А здесь? Чернь, голытьба и единственный инородец – урядник Ардальон Нестерович. На него-то Зельда уж точно не позарится. Маркус Фрадкин – человек дальновидный. Лучшее лекарство от блажи – глушь и одиночество. Сам он небось ублажает свою плоть и душу другим. Зельда знает, к кому он ездит, когда свободен от дел. «У папы в Вильно женщина, – сказал ей Зелик, – ты, наверно, дурочка, думала: к тебе на свиданье каждое воскресенье мчится, а он – к ней!.. Папаша ей даже дом построил. А ты знаешь, дорогая сестрица, кто его избранница? Полька!.. Чистокровная!.. Бывшая графиня!.. Наш богомольный отец спит с польской графиней!» Графиня, графиня… А мама была дочерью торговки рыбой. В доме бабушки всегда пахло линями. А чем пахнет в доме графини?
Когда отец приедет, Зельда обязательно спросит у него:
– Папа, чем пахнет в доме графини?
Над банькой клубится тонкий, как мышиный хвост, дымок.
Зельда прячет в буфет бутылку – скоро на урок придут Нестеровичи.
Что с ними будет, когда она отсюда уедет? Кто их будет учить? А может, Голда права? Может, их и учить не надо – еще вырастут погромщиками, такими, как учитель латыни Коренев.
– Чего вы все время жалуетесь и клевещете на Россию? Да вы ей ноги должны целовать, что приютила!
Как все сейчас далеко: и учитель латыни Коренев, и отец, у которого в Вильно женщина-дом, бывшая графиня. Только от баньки дымок – вон он, размашистый, как подпись директора гимназии Аристарха Федоровича Богоявленского.
Из сада в комнату через открытое окно струится запах прелой листвы и отгоревших пионов.
– Я помылась, – сладострастно говорит Голда. – Попаришься на полке, и словно новорожденная. – Она приподнимает обеими руками разморенные груди и, крутя бедрами, враждующими с тесной домотканой юбкой, собирает посуду. – А вы, барышня, выпили!
– Выпила.
– Зачем?
– Говорят, от ликера ноги толстеют.
– Неужели?
– Да. От каждой рюмки на два вершка.
– Шутите, барышня.
– Не шучу.
– Вы уж, барышня, не сердитесь, но я вам один бабий секрет выдам.
– Выдай.
– Главное у бабы не ноги.
– А что?
– Пряник. И сколько в него Господь Бог меду положил, – Голда прыскает и уносит посуду. На пороге она оборачивается: – Когда помоетесь, не забудьте на угли воду плеснуть. В такую сушь одна искра – и беда! И закройте все двери на ключ.
– А кто сюда, кроме Нестеровичей, придет?
– Мало ли кому в голову взбредет. А поживиться есть чем. Одних серебряных вилок и ложек сорок штук. Говорят, в местечке какой-то бродяга объявился. Выдает себя за посланца Бога. Но я-то знаю: на словах посланец, а на деле вор.
– А как он выглядит?
– Сама я его не видела. Мне Ицик рассказывал.
– Ицик?
– Говорит, коренастый… в ермолке, приколотой булавкой к волосам… Будьте, барышня, осторожны. Такой и обокрасть может, и на пряник позариться, – сыплет скороговоркой Голда и, гремя посудой, уходит.
Смеркается. Над банькой по-прежнему вьется витиеватый дымок. Что делать?
Нет сил ни мыться, ни гасить огонь.
Зельда запирает на ключ двери, поднимается на второй этаж в комнату Зелика, снимает с оленьего рога ружье брата, спускается вниз и от нечего делать начинает целиться в окна, в клавесин, в висячую лампу, купленную за бесценок у разорившегося шляхтича, в большую фотографию деда и бабушки. И кажется Зельде, будто бабушка побелела от страха и чуть повернула влево голову.
– Вот что делает русская гимназия с еврейскими детьми, – ворчит старуха на фотографии, и Зельда как бы слышит ее голос, пропахший линями.
Дзинь, дзинь, дзинь, захлебывается колокольчик.
Отец!
Зельда бежит к двери.
А где же его ключ?
– Кто там?
Дзинь, дзинь.
Нестеровичи?
– Кто там?
– Откройте!
Голос незнакомый, с хрипотцой и мольбой.
Зельда медлит. Если суждено случиться несчастью, оно выломает дверь.
Она поворачивает ключ и впускает того… из можжевельника… в ермолке…
– У вас пол помыт, – говорит пришелец. – Я сниму башмаки. На них грязь налипла.
Зельда стоит и смотрит, как он расшнуровывает бечевку, как стаскивает с ног покоробившуюся обувь, как аккуратно ставит ее в угол.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































