Текст книги "Избранные сочинения в пяти томах. Том 2"
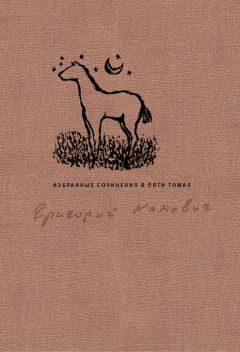
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Сегодня Зельда была особенно хороша. Она вся светилась и трепетала, как субботняя свеча, и от ее блеска и трепета у Ицика кружилась голова.
Господи, думал он, какое счастье видеть ее, дышать с ней одним воздухом, молиться одному Богу.
Однажды после вечерней молитвы прыщавый Семен взял его под руку и сказал:
– Гони три червонца, и я тебе устрою с ней свиданье.
– С кем?
– Не притворяйся дурачком. Зельда стоит трех червонцев.
Ицик отдернул руку.
– Можно в рассрочку, – предложил Семен.
– Пошел вон, – зло бросил Ицик.
– Не хочешь – не надо, – прыщавый Семен и ухом не повел. – Голда, конечно, обходится дешевле. Сама, видать, приплачивает тебе. – И рассмеялся, оскалив свои тусклые, кривые, смахивающие на дольки чеснока зубы.
Ицику хотелось схватить его за грудки и разок-другой тряхнуть. Но он сдержался, только сплюнул и растер сапогом плевок: негоже поганить порог божьего дома.
И все же слова прыщавого Семена застряли у него в памяти. Три червонца – почти полгода работы, и не какой-нибудь, не с иглой и не с бритвой, а с топором и пилой, под дождем, а то и в снегу. Но на Зельду ни полгода, ни года, ни десяти лет не жалко. Если разобраться, Ицик и так работает на нее. Она же Фрадкина! Сама Фрадкина! Дочь лесоторговца Маркуса Фрадкина.
А может, Ицика так к ней тянет потому, что она поена молоком его матери?
Вот и корчмарь Ешуа с женой Хавой пришел. Обычно они приходят раньше других. К Богу, как к уряднику Нестеровичу, лучше приходить вовремя – зачем их гневить? Из-за сына, видно, задержались, из-за Семочки.
Сейчас начнется молебен. Молодой рабби Гилель, праведник и оратор, взошел на амвон и раскрыл свиток – ставни в небеса.
А его нет. Ицик еще раз оглянулся на дверь. Нет.
Рабби Ури подкатил к самому амвону, и колеса его коляски прошуршали в наступившей тишине, как крылья ангела.
Синагога старая, деревянная. Она дважды горела. В шестьдесят третьем ее подожгли солдаты. Искали какого-то Мицкевичюса или Мацкявичюса, бунтаря и государственного преступника. В чем заключалось его преступление, никто в местечке не знал. Испокон веков в нем не было ни одного бунтаря и преступника, если не считать мужа вдовы Голды Ошера, пытавшегося среди бела дня повеситься на местечковой каланче. Кто-то донес генералу Муравьеву, что оный Мицкевичюс или Мацкявичюс скрывается в жидовской церкви. Жидовскую церковь спалили, а бунтаря не нашли. Долго не было в местечке синагоги – люди молились в наспех прибранном гумне, снятом в аренду, – но после, когда все успокоилось, Маркус Фрадкин расщедрился и пожертвовал на строительство молельни леса. Его хватило с лихвой и на синагогу, и на дом для раввина, и даже на отхожее место. В самом деле – не бегать же почтенным богомольцам по нужде за версту! С тех пор божий дом называли именем благодетеля – синагогой Маркуса Фрадкина. Сгорит она – сгорит и его имя, как ни дорога Фрадкину честь, но сотки дороже.
– Ребейношелейлом! – упивался собственным голосом молодой рабби Гилель, а старый рабби Ури положил высохшие руки на края коляски, закрыл глаза и своими увядшими ушами слушал молитву – он знал ее наизусть, как все молитвы, которые когда-либо евреи обращали к Господу Богу, рабби Ури слушал то, что никто, кроме него, в молельне не слышал, – шаги смерти. В последнее время он слышал их так отчетливо и ясно, как поступь возлюбленной в молодости, когда уши напоминают ущелье: каждому звуку вторит стозвонное эхо. Смерть шла за ним по местечку, как когда-то его жена Рахель, и шаги у нее были точно такие – неровные, вприпрыжку. Иногда она забегала к кому-нибудь и оставляла его посреди дороги, по вскоре возвращалась, и они оба снова были вместе.
Вот и сейчас она стоит и молится у него за спиной. Рабби Ури до сих пор не задумывался – за кого же молится смерть? За живых? За мертвых? За живых ей вроде бы не подобает молиться, а за мертвых – за мертвых живые молятся. Она молится за самое себя, подумал рабби Ури. Глупо, глупо. Он никогда за самого себя не молился. Всегда за других. И сегодня он молится не за себя, а за нее.
Рабби Ури приоткрыл глаза, но у него не было сил обернуться, и он снова закрыл их – захлопнул веками, как табакерку.
Чего, спрашивается, он сюда приехал? Мог бы помолиться дома. Неужто и он поверил в кабацкого мессию? Он – рабби Ури, мудрейший из мудрых, ученейший из ученых. Кто, кто, а он-то знает, что Бог велик, но чудес не совершает. Во всяком случае – Бог евреев. Совершил чудо – создал их и забыл, презрел, бросил на произвол судьбы, отдал на съеденье царям и урядникам. За все время существования иудейского племени – от наших праотцев Авраама и Иакова до ночного сторожа Рахмиэла – Всевышний ни разу не явил ему свою милость. Разве погромы – милость? Разве черта оседлости – милость? Нельзя сказать, что он, Бог евреев, обошел всех. Кого-то он – порой неизвестно за что – все же избрал и одарил своими благами. Но если один счастлив (да счастлив ли он?), значит ли это, что может возрадоваться все племя?
Рабби Ури тяжело дышал. В молельне было душно. Шутка сказать – столько ртов, выдыхающих свои жалобы и надежды. За его спиной молится смерть, а чуть поодаль шевелит губами его ученик Ицик Магид. Чему он его научил? Лес рубить. Рабби Ури имеет в виду не топор лесоруба, а мысли Ицика. Они острее чем топор и валят каждую минуту не дерево, а кого-то. Рабби Ури знает, кого своими мыслями рубит под корень Ицик. Лесоторговца Маркуса Фрадкина. А за что? За мать, поившую его дочь грудным молоком, за своего брата, не успевшего притронуться к соскам матери? А может, за то, что никогда не будет мужем Зельды?
Мир, размышлял рабби Ури под журчание молитвы, вместилище зла и пороков. И уж если Бог их не искоренил, что может сделать какой-то самозванец?
И все же любопытство и ревность снедали рабби Ури. Оказывается, можно и к Богу ревновать. Ревновать, как к женщине.
Рабби Ури не сомневался, что тот, о ком ему вчера рассказывал Ицик, шарлатан и проходимец. Чтобы догадаться о пороках отпрыска корчмаря, не надо быть ясновидцем. У прыщавого Семена все пороки видны на лице, как веснушки. Бросишь взгляд – и заковывай в кандалы, веди в острог, не ошибешься.
Рабби Ури уже жалел, что попросил Ицика свести его со странным пришельцем. Что он может от него услышать? Какое напутствие? Какой приговор?
Как бы угадав мысли учителя, Ицик наклонился над ним и прошептал:
– Странно. В синагоге его нет.
– Для посланца Бога весь мир молельня, – прошамкал рабби Ури и удивился собственному ответу. Только что он клял его, называл проходимцем и шарлатаном, и вдруг такие высокие, такие обязывающие слова, и Всевышний не замкнул ему уста, как делал всегда, когда рабби Ури испытывал его терпение глупостями или кощунством.
Он мог бы сейчас избавить Ицика от лишних хлопот, мог бы без всяких обиняков сказать, чтобы тот не приводил никого, но почему-то этого делать не стал. В конце концов пусть приходит – мало ли сумасшедших прошло через его дом. И сумасшедший может быть отрадой на старости лет, ибо, если хорошенько поразмыслить, что такое старость? Разве не тихое – без мятежей и просветов – сумасшествие? Одиночество и безумие всегда в родстве. Пусть приходит. Двери у рабби Ури открыты для всех.
– Ночью я, кажется, его видел, – снова прошептал Ицик.
А чего он, Ицик, хочет от чужака, подумал рабби Ури. Ему и посланец Бога не поможет. Не Бог стелет постель, а женщина. Кому – Голда, кому – Зельда, и ничего не поделаешь.
– Знаете, рабби, о чем я ночью подумал? – неожиданно сказал Ицик.
– Разве ты по ночам думаешь? – пробормотал рабби Ури.
– Иногда… иногда думаю.
– О чем же, сын мой, ты ночью думал? – снизошел рабби Ури.
Корчмарь Ешуа покосился на него: кто, кто, а рабби Ури должен знать, как себя вести во время молитвы, раскукарекались, как петухи, коли охота языком чесать – милости просим в корчму. Рабби Ури недолюбливал корчмаря. От него всегда несло чужим перегаром, даже от его талеса и ермолки.
– А может, он беглый солдат?
Рабби Ури молчал.
– А может, он беглый солдат? – повторил Ицик.
– Беглые солдаты по корчмам не шатаются, – сердито проворчал рабби Ури. – Молчи. Ты мешаешь реб Ешуа беседовать с Богом.
– А он с ним обо всем договорился. С завтрашнего дня водка на две копейки подорожает, – огрызнулся Ицик.
– Фармазон, – ругнулся Ешуа, иногда употреблявший диковинные ругательства.
Евреи помолились и начали не спеша расходиться. Ицик взглядом гончей собаки проводил Зельду, а та, к великому его удивлению, оглянулась и смутила его не то насмешливой гримасой, не то улыбкой, от которой он на мгновение словно ног лишился – земля подбросила его вверх, и он повис на облаке, как на частоколе.
Ицик наконец спохватился, впрягся в коляску, и она затарахтела по немощеной улице. Рабби Ури щурился от солнца и что-то бормотал под нос, и это бормотание было похоже на хрип и на заклинание одновременно.
Ицик оглянулся и увидел издали у синагоги фигуру человека в ермолке, в дорожном балахоне, какие носят обычно балагулы или плотогоны, и вскрикнул:
– Он! Он!
Он быстро развернул коляску, но рабби Ури остановил его:
– Не стоит за ним гоняться. Если он и впрямь послан Богом, он сам к каждому придет. Отвези меня домой!
И его любимый ученик Ицик не посмел ослушаться.
Человек в ермолке и дорожном балахоне осторожно открыл дверь синагоги и вошел внутрь.
В молельне никого, кроме служки, не было. Служка подметал пол, и пришелец долго смотрел на сутулую спину, на метлу, на крохотную кучку пыли, на совок и снова на сутулую спину. Вдруг служка обернулся, увидел незнакомца и вздрогнул.
– Чего испугался? – спросил у него пришелец. – Разве в храме можно кого-то бояться? Кроме собственных грехов. А грех у тебя один – ты скверно подметаешь.
– Откуда вы знаете… Вы же не здешний…
– Я всюдошний – сказал тот.
Слово-то какое чудное, промелькнуло у служки.
– Если душа подметена, то пыль на полу небольшой грех, – сказал человек в ермолке.
– Молебен кончился, – промямлил служка, сбитый с толку странными речами пришельца.
– Молебны кончатся, когда кончится мир.
– Ваша правда. Молитесь! Я потом подмету. Молитесь!
– Спасибо, – сказал человек в ермолке, приколотой к волосам булавкой, и стал тихо и невнятно молиться.
Служка, затаив дыхание, смотрел на него, наступив на совок и рассыпав пыль, собранную с дощатого скрипучего пола. Речь пришельца не вязалась с его затрапезным видом – холщовым балахоном в дырах и пятнах не то от свечного воска, не то от масла, с бархатной, изрядно поношенной ермолкой, с этой ржавой булавкой, смахивающей на стрекозу, кажется, дунь – и она улетит с головы, с тяжелыми, не для лета, башмаками, завязанными не шнурками, а бечевкой, с жиденькой бородкой – пригоршней седины. Зато глаза были такими же таинственными, лихорадочно горящими, как и его речь. Было что-то в них от приворотного зелья, особенно в белках, каких-то голубоватых, с темными беспокойными прожилками…
Когда пришелец кончил молиться, служка сказал:
– Приходите вечером! Вместе и молиться, и плакать лучше. Так велит Бог.
– А что ты знаешь о Боге?
– Ничего.
– Ничего. А говоришь: велит.
– Я человек маленький… темный, – стал оправдываться служка.
– Человек не бывает маленький. Или он человек, или нечеловек. Бог велит различать плач человека от слез нечеловека. И молитву, и смех, и каждое деянье. Ты, например, плачешь слезами, а ваш корчмарь – помоями.
– Как же так – помоями!..
Служка чувствовал, как пришелец завораживает его, опутывает своими дремучими речами. У него не было сил ни возражать, ни слушать. Он желал только одного – чтобы пришелец скорее убрался, потому что нагрянет молодой рабби Гилель и устроит ему взбучку. Молодой рабби – чистюля, синагога у него должна сверкать как лысина!
– Помоями, – сказал пришелец. – И с ним вместе плакать я не хочу. От его слез воняет.
– Я никогда не видел, как реб Ешуа плачет, – сказал ошарашенный служка.
– И я не видел, – сказал пришелец.
– Откуда же вы знаете?
– Там, – незнакомец воздел палец к небу, – все известно. Мы заставим его заплакать, и ты подойдешь к нему, понюхаешь и убедишься, чем пахнут его слезы.
Вроде бы говорил как нормальный, отметил про себя служка, а кончил как сумасшедший. Господи боже мой, столько времени потратить на сумасшедшего!
– Мы заставим его заплакать, – снова пообещал пришелец и откланялся.
III
Лихоманка трясла прыщавого Семена две недели. Целые две недели – от первой звезды шестого июля до первой звезды двадцатого июля – провалялся он на перине, набитой, казалось, не гусиными перьями, а языками пламени, лизавшими его с утра до ночи. Он метался, сбрасывал с себя одеяло, но приставленная к нему Морта, освобожденная от всех прочих работ по дому – стирки, мойки полов и посуды, – обнимала его своими тяжелыми, натруженными руками, укладывала, как дитя, и круглые сутки не отходила от его постели. Морта кормила его, поила лекарствами, а корчмарь Ешуа и его жена Хава боялись притронуться к сыну: если все заразятся, кто же будет водку разливать? Дважды из Германии приезжал пруссак в пенсне, переправлялся через Неман, осматривал больного, качал птичьей головой, совал, не пересчитывая, в карман новехонькие марки (у Ешуа водились не только рубли) и уезжал. Во второй раз он чуть не утонул, налетела среди бела дня буря, на самом стрежне перевернуло лодку, и служить бы по доктору поминки, если бы не плотогоны, вытащившие его из реки, как рыбу. Мокрый, перепуганный насмерть, он все-таки исполнил свой долг, отправился к больному и долго, нахохленный, сидел за ширмой, пока не высохли вещи и пока Морта не выгладила его подштанники, сорочку и пиджак в клетку. От брюк Ешуа он наотрез отказался – упаси бог от одежды еврея!
Униженный ожиданием, немец торопливо ощупывал белый и упругий живот Семена, скользил пальцами вниз, мимо пупа, без всякого стеснения, и спрашивал:
– Здесь не болит?
– Не-е-е, – вздыхал Семен, содрогаясь от неловкости.
– А здесь?
– Не-е-е.
– А что вы перед болезнью ели?
Прыщавый Семен едва удерживал голову на плечах. Еще движение, и она упадет и расколется, как глиняный кувшин. А тут еще этот немец, эта рыба без чешуи, мучает его своими дурацкими вопросами.
– Рыбу ел, – выдавил больной.
– Какую? – не унимался доктор.
– Речную…
– Я спрашиваю: вареную или жареную?
– Морта, скажи доктору, какую я ел рыбу, – обессиленно пробормотал прыщавый Семен.
– Рыбу он, господин доктор, не ел. Он ел мясо с жареной картошкой, – сообщила Морта. – Он рыбу не любит.
– Так, так. – Немец потрогал брюки – сухие ли? – и продолжал: – Говорите, мясо с жареной картошкой. А на каком жире ее жарили?
– Как всегда. На гусином.
– Гусином, гусином, – повторил немец и снова пощупал мошонку прыщавого Семена.
– Ну чего, дура, уставилась? – поймав взгляд Морты, вскрикнул сын корчмаря. – Отвернись! А вы, доктор, перестаньте, как у нас, у евреев, говорят, крутить мне корень… Меня просто сглазили.
– Что значит «сглазили»?
– Дурной взгляд бросили, – объяснил корчмарь Ешуа, стоявший все время в стороне и прикрывавший большим носовым платком крючковатый нос.
– Ну и что? – повернулся к нему немец.
– Отсюда и хворь, – вежливо заметил корчмарь.
– Это унмёглих! Наш организм не боится никаких взглядов. Нет взглядов, зажаренных на плохом масле. Во всяком случае мне такие не попадались. Есть микробы…
– Вшей у нас нету, – промямлил корчмарь. – Господь свидетель!
Доктор поморщился. Левый глаз у него дрогнул, и пенсне повисло на серебряной цепочке.
– Есть взгляды хуже ваших микробов и вшей! – взъярился прыщавый Семен и даже привстал с кровати. – И слова есть. Я покажу ему, сволочи, лихоманку! Я его из-под земли выкопаю!
Немец повертел в руке пенсне, как бы взвешивая его, и сочувственно процедил:
– Я лечу болезни, а не причуды.
Оседлав нос пенсне, он прописал какую-то микстуру и уехал.
После его отъезда прыщавому Семену стало еще хуже. Он впадал в беспамятство, бредил, что-то кричал, и Морта прикладывала ему ко лбу смоченную в студеной воде тряпицу и шептала:
– Не умирай, Симонас. Не умирай!
Она сбегала к какой-то троюродной бабке, слывшей знахаркой, выпросила у нее настоянное на травах зелье и тайком от корчмаря Ешуа и Хавы насильно вливала больному в его красное, как бы подернутое плевой заката, горло. Прыщавый Семен вгрызался беспамятливыми зубами в Мортину руку, кусал ее, и сиделка вскрикивала от жалости и боли.
Напоив Семена – Симонаса – целебным зельем, Морта садилась в изножье кровати и издали смотрела на него. Пусть болеет, сладко думала она, пусть болеет подольше, только не умирает. Болезнь Симонаса была для нее и мукой, и радостью. Это не то что день-деньской мыть и перемывать горы посуды, ползать на четвереньках по полу и вылизывать каждый плевок, подбирать объедки и блевотину. В этой большой, с двумя высокими окнами, комнате Морта – хоть ненадолго – чувствовала себя хозяйкой. Она подходила к окну, раздвигала занавеску и глядела во двор – на крестьянские повозки, подкатившие к шинку, на легкие дрожки какого-нибудь захмелевшего шляхтича, легкого и воздушного, как сон, на урядника Нестеровича, спешившего в корчму не за стаканом белой, а за своей ежедневной мздой (Ешуа не зря платил ему деньги!), следила за бабами и детишками, оставшимися на возах в ожидании своих загулявших кормильцев. Это было прекрасное, щемящее и до сих пор не изведанное ею чувство. Даже походка у нее изменилась: в ногах появилась какая-то легкость, как у того залетного шляхтича, бедра неожиданно округлились, так не выпирали, как раньше, а груди, впитавшие столько тепла, налились, и под платьем ныло и свербило до замирания сердца.
Девочкой – тринадцатилетней козой – привезли ее родители из деревни и отдали в услужение к Ешуа. Корчмарь платил им за нее водкой и заботой – не обижал Морту, кормил, одевал и оберегал от пьяных жеребцов, норовивших своими неверными руками залезть ей под юбку. После мятежа шестьдесят третьего года родителей Морты, трех сестер и двух братьев-близнецов угнали в Сибирь вроде бы за то, что раза два позволили бунтовщикам выдоить корову. Корова уцелела. Когда пришли солдаты, она паслась на выгоне, вдали от дома, и ее не тронули. Морта пригнала буренку в корчму.
Корчмарь Ешуа поначалу ни за что не соглашался.
– Что если узнают? – напустился он на Морту.
– А что узнают?
– Узнают, что ее доили те самые… Да мы на каторгу угодим! – кипятился Ешуа. – Лучше продать ее и деньги положить на твое имя.
Но тут заупрямилась Морта:
– Раз так, то я ухожу вместе с ней. Корова не виновата.
– С каких пор доить корову – преступление? – неожиданно вмешалась Хава, женщина тихая, как Господь Бог.
И корчмарь Ешуа первый раз в жизни внял голосу своей жены.
Корова осталась, а с ней и Морта.
Пока корова была жива, Морта чувствовала себя не только служанкой. Это было все, что ей принадлежало в этой чужой корчме.
Не прошло и года, как буренка пала. Морта долго оплакивала ее – больше оплакивать было некого…
– Отец отравил ее, – сказал как-то семнадцатилетний Семен. – Если ты не будешь меня слушаться, он и тебя отравит.
Сказал и повалил на солому.
По воскресеньям и праздникам Морту отпускали в костел – помолиться или на исповедь. Она сидела где-нибудь на задней скамье, не сводила глаз с ксендза и с большого позолоченного распятия, на котором беспомощно и картинно склонял голову Иисус-Спаситель, такой же, как уверял корчмарь Ешуа, еврей, как он, – только молодой, никогда не торговавший водкой, с лицом и волосами панича, промотавшего все свое состояние в каком-нибудь придорожном шинке и промчавшегося мимо местечка, где, кроме дешевого хмеля, нет ничего достойного внимания.
Морта съеживалась под застывшим взглядом Спасителя, сжимала махонький крестик, сверкавший прыткой уклейкой в белой и непорочной ложбине между тугими, налитыми тревожной спелостью холмиками грудей, шептала какие-то слова, бессвязные, невразумительные, суеверные, покусывала здоровыми и жадными зубами нижнюю, чуть припухшую от той же неугомонной спелости губу и воровато оглядывалась по сторонам на спины баб и мужиков, ослепленных и обезличенных молитвой. И хотя Морта ни в чем не погрешила против Господа, она все-таки чувствовала себя жалкой и неисправимой грешницей.
– Жидмерге! Жидовская шлюшка! – обжег ее однажды чей-то хрип в притворе.
Люди злы, подумала она. Но стоит ли кому-нибудь, кроме Господа, доказывать свою добродетель? Вседержитель знает все: и про тех, кто чист как слеза, и про тех, кто грешен. Он и только он ее единственный судия.
Жить рядом с грехом – еще не значит жить во грехе. Корчма день-деньской кишит забулдыгами и пьяницами, каждый, выпив, норовит потискать, задрать юбку, особенно сейчас, когда ей, Морте, не тринадцать, когда все в ней, как по осени, поспело и налилось неукротимым, рвущим одежду соком.
Да и Семен наглеет от поста и одиночества – нашел бы себе еврейку и собирал бы с каждой ее грядки, с каждой ее веточки…
Почему, думала она, сидя в изножье широкой хозяйской кровати, одному на свете суждено торговать водкой, а другому ни за что ни про что топать в Сибирь? Какой мерой там, на небесах, Господь меряет наши судьбы? Если мера для всех одна, то почему солдат безгрешнее того, кто позволил мятежникам подоить корову? Подоить корову, и только. Разве у захотевшего испить молока надо прежде, чем налить кружку, спросить: а что у тебя, мил человек, на уме? Ты за царя или против?
Прыщавый Семен продрал больные глаза, похмельно огляделся, увидел Морту, облизал пересохшие губы и спросил:
– Давно сидишь?
– Давно.
– Ух ты, – удивился он и тряхнул тяжелой, как бы отчужденной, головой. – Будто всю отцову водку вылакал.
– Лежи, – сказала Морта, боясь, что он встанет и ей придется вернуться в опостылевшую корчму. – На, попей!
– А что там?
– Зелье такое, – Морта осторожно протянула ему стакан. – Тетка дала.
– Какая еще тетка?
– Антосе… Пусть, говорит, выпьет – назавтра полегчает… А лекарство немца я в помойное ведро вылила…
– Немца?
– Отец в Германию за лекарем ездил.
Прыщавый Семен уставился на Морту, подсек взглядом крестик, потрогал рукой горячий лоб, но от зелья отказался: поверишь такой тетке Антосе, и заказывай поминальный молебен.
– Ступай!.. Отца позови!..
– Господин в городе. Водка кончилась.
– Я здесь подыхаю, а он за водкой разъезжает, – огрызнулся Семен.
– Люди требуют, – защитила хозяина Морта. – Праздники скоро. Успенье. Как же на Успенье без водки?
– До Успенья еще далеко… А ты… ты лучше сядь поближе, – пробормотал Семен и уперся ступней в ее упругую, чуткую, как зверь, ягодицу.
Морта вздрогнула от прикосновения, напряглась вся, одернула толстую домотканую юбку и против воли подвинулась.
– Ближе! Еще ближе! – зачастил Семен и откинул одеяло. Ноги у него были длинные и волосатые.
– Не бойся! – подстегнул он ее. – Не съем.
И осклабился, и снова болезненным пронзительным взглядом, как рыболовным крючком, подсек уклейку-крестик, и засучил голыми ногами.
– Ну?
Морта зажмурилась, подвинулась, тяжко и стыдно задышала. Прыщавый Семен наклонился к ней, сжал крестик до хруста, до тошноты и негромко, каким-то гортанным скорбным голосом сказал:
– Сними ты его!.. Да сними!..
– Никогда! – жарко выдохнула Морта. – Почему вы, евреи, такие?
– Какие?
– Бога не боитесь?
– А чего его, старого, бояться? Он – там, а ты… ты вот… только руку протяни…
– Нет, нет, – встрепенулась она. – Недаром говорят: от вас все беды.
– А от вас? – беззлобно полюбопытствовал Семен, упиваясь ее растерянностью.
– От нас?.. Молоко… хлеб… ягоды… земля…
– Глупости! – улыбнулся он и попытался ее обнять.
– Не надо…
– Дура!.. Для кого себя бережешь?
Прыщавый Семен оттолкнул ее, уронил тяжелую голову на подушку и долго лежал молча, брезгливый, непривычно смирный, великодушный. Лицо его, разрумяненное лихорадкой, обрело вдруг странную притягательность. Только мохнатые брови портили его и придавали ему угрюмую решимость да обметанные белесой плевой губы изнывали не столько от жара, сколько от неодолимого вожделения.
– Все равно ты для всех шлюха, – складно, как библейский стих, произнес прыщавый Семен.
– Нет! – вскрикнула Морта.
– Шлюха! Кто поверит, что ты со мной не спишь?
– Бог! Он все видит и слышит!..
– Вздор! – Прыщавый Семен вскочил, схватил Морту за плечи, привлек к себе и впился в ее мягкие припухлые губы. – Нет Бога, нет… Все мы батрачим у дьявола, – твердил он, целуя ее, как слепой.
Морта вырвалась из его непристойных, истощенных болезнью рук, поправила растрепанные волосы и медленно, как на плаху, зашагала к двери.
Прыщавый Семен слышал, как знакомо щелкнул засов, как Морта, не сказав ни слова, вышла. Она всегда так: уходит молча, стиснув зубы, словно и впрямь идет на смерть. Порой ему казалось, что уйдет и повесится где-нибудь в сарае, где отец держит пустые бутылки и лошадь хрумкает овес, или утопится в реке. В такие минуты прыщавого Семена охватывало какое-то волнение, мерзостное до зуда, и он ловил каждый звук за окном, чтобы убедиться в своей неправоте и мнительности, и, когда откуда-то снова доносился низкий грудной голос Морты, он чувствовал себя до странности опустошенным и даже обманутым. Нет, он вовсе не желал Мортиной смерти – она была единственным человеком в доме, к которому прыщавый Семен испытывал что-то похожее на необременительную и бескорыстную любовь. Морта никогда от него ничего не требовала, ни в чем его не упрекала, не старалась его переделывать или наставлять на путь истинный, как это делал отец, для которого путь истинный – это крохотный отрезок земли от супружеской постели до стойки в затхлом, прокуренном и проспиртованном шинке.
Прыщавый Семен не любил отца. Мать терпел, жалел, а отца не любил. Порой до лютости, до исступления. Ради чего он день-деньской спаивает этих дремучих, этих молчаливых, но буйных во хмелю мужиков, для которых штоф белой – единственная горькая радость? Почему сам не пьет и приходит в ярость, когда сын наливает себе рюмку? Разве у него, у прыщавого Семена, нет повода залить свои глаза, затуманить мозг и взбодрить хмелем сморщенную, озябшую от скуки и достатка душу? «Бог пьяниц» – так прыщавый Семен называл того, кто дал ему жизнь. Жизнь, состоящую из пьяного дня, пьяного вечера и даже пьяной ночи. Пьяной потому, что и по ночам стучатся в ставню и требуют:
– Ешуа, бутылку!
И Ешуа, заспанный, в одном исподнем белье, в шлепанцах на босу ногу, со свечой в руке идет в корчму и выносит на крыльцо водку.
Когда Семен был маленький, ему снились пьяные сны. Один сон он до сих пор помнит: корчма битком набита, гудом гудит, отец потный, настороженный, мать в переднике с кружкой в руке, суетятся, хлопочут, и вдруг входит он, Семен, оглядывает всех и говорит:
– С неба водкой льет!
И все бросаются из корчмы во двор: мужики, отец, мать. Во дворе – лужи, чавкают под ногами. Мужики задирают головы, раскрывают рты, и водка течет по лицам, по бородам, по сермягам. А отец стоит ни жив ни мертв, смотрит на небо, на струи и кричит:
– Хава! Тащи ведра! Чего стоишь?
Порой прыщавому Семену кажется, что он до сих пор еще не проснулся.
Нет, корчмарем он не будет. Он не собирается проторчать всю жизнь за стойкой. Водка, конечно, – золотой дождь, но он себе поищет что-нибудь получше.
– Во всей империи ничего доходнее водки нет, – не раз убеждал его отец. – От хлеба какая радость? Только брюхо набьешь. А выпьешь водки, и горе – радость.
Хитер отец, хитер, но и он, Семен, не лыком шит. Пусть кто-то промышляет водкой, а он выберет себе другое ремесло. Чистое, неприметное, без блевотины и пьяной отрыжки, без заглядывания кому-то в глаза и без стука в ставню: «Ешуа, бутылку!» Кое-что у него уже наклевывается. Отец об этом и не догадывается. Об этом никто не должен догадаться. Ни одна душа на свете. Жаль только – слег не вовремя. А так все вроде складывалось как нельзя лучше. Урядник Нестерович слов на ветер не бросает. Пусть он и не бог весть какой мудрец, но в иных делах смыслит больше, чем премудрый рабби Ури.
Когда-то прыщавый Семен, как и Ицик Магид, учился у рабби Ури. И оба бросили учителя: Семен сел на шею отцу, а Магид ушел в лес, валить деревья. А чему их старик мог научить? Всяким премудростям? Вере в Бога? Сегодня вера в Бога гроша ломаного не стоит, а за любую премудрость платят меньше, чем за стакан белой в корчме. Рабби Ури, конечно, прав, мир и люди несовершенны. Но он, прыщавый Семен, не мир и не люди, а человек. Притом не просто человек, а еврей. Человеку-еврею с таким нелепым прозвищем, как у него, нечего думать о людях и о мире. Пора ему подумать о себе. С какой стати он должен заниматься исправлением чьих-то ошибок и несовершенств?
Если рабби чему-то и научил их, так только трезвому пониманию того, что за все несовершенства и пороки – а им несть числа – рано или поздно приходится расплачиваться муками и терзаниями совести.
А что, если те, кто несовершенны и порочны, будут расплачиваться чистоганом, подумал прыщавый Семен. Что, если открыть лавку пороков? Чужие пороки доходнее, чем водка.
Именно такую лавку и предлагает ему открыть урядник Нестерович. Он, Нестерович, будет их единственным покупателем. И денег у него хватит, потому что эти пороки скупает не он, а империя. Вот он – золотой дождь! Только успевай подставлять под его благодатные струи голову! А какие пороки в цене, прыщавый Семен хорошо знал. Нет более доходного порока, чем вольнодумство и неповиновение. Доходного, конечно, для того, кто им торгует, а не обладает.
– Сам знаешь, – сказал ему при встрече урядник Нестерович, – там, где пьют, там и языками чешут.
Хотя прыщавый Семен и редко заходил в корчму, но сам не раз слышал, как клокочет подогретое брагой недовольство. Тогда, при встрече, он не дал уряднику окончательного ответа.
– Еврей никогда не должен давать окончательного ответа, – учил его отец. – Окончательный ответ как могила: сам роешь и сам себя зарываешь.
– Я подумаю, – услышал от него урядник.
Теперь, лежа в постели и борясь с обрушившимся на него недугом, прыщавый Семен прикидывал, какие выгоды или невыгоды сулит ему предложение урядника. Он вспомнил, как в детстве жандармы схватили в отцовской корчме какого-то мужика, как поволокли его к телеге, как он отплевывался кровью и мать присыпала следы песком. Играя во дворе корчмы, Семен долго еще поглядывал на землю с опаской и непонятной скорбью.
Он прикидывал и так и этак, но все время что-то не сходилось, и мысли его снова, как тень, упали на пришельца. Кто он? Когда-нибудь – когда прыщавый Семен откроет лавку пороков – он до него доберется, тот не уйдет от него. В конце концов он ему какой-нибудь порок придумает. Торговать можно не только существующими, но и придуманными пороками. За придуманные платят не хуже.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































