Текст книги "Избранные сочинения в пяти томах. Том 4"
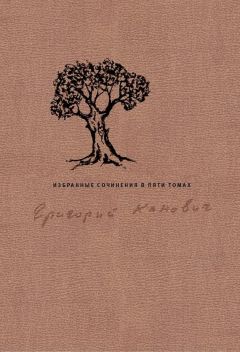
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Я провожу тебя, Гиршеле, только провожу, – тихо сказала мама, боясь, что ей и шага не дадут шагнуть, и двинулась за переполненным, отправлявшимся на войну возом, где во все времена ни для одной матери на свете не оставляли свободного места.
Телега выкатила за околицу, свернула на затопленный ливнем степной большак, а мама все шла и шла.
– Идите, мамаша, домой! – оглядываясь на ее сгорбленную фигуру, командирским голосом то и дело приказывал ей лейтенант с ответственной планшеткой на боку. – Скоро ночь!..
– Идите, мамаша, домой! – перекрикивая друг друга и поддерживая своего командира, задорно упрашивали новобранцы.
Но она, упрямица, их словно не слышала – шла сквозь ночь, сквозь время, сквозь все еврейские несчастья, пока не растворилась в сгустившейся темноте.
VIII
Я лежал на кошме, и мои мысли, как взъерошенные воробьи на высыпавшиеся из конской торбы овсяные зернышки, слетались на степной большак, по которому еще недавно за подводой с новобранцами, спотыкаясь, понуро брела мама. Меня не столько угнетала неутихающая, жалящая боль, сколько неизвестность. Я не знал, что будет со мной, вернусь ли когда-нибудь из военного госпиталя в Джувалинске обратно в кишлак, увижу ли еще Анну Пантелеймоновну, Левку, Зойку, старого охотника Бахыта, чудаковатого Арона Ициковича и, конечно же, маму – о ней я даже думать боялся. Жива ли? Добралась ли после такого долгого и бессмысленного провожания по раскисшему, выбитому ишачьими и конскими копытами большаку до дома; не рухнула ли, как обессилевшая перелетная птица, в осеннюю грязь и не затихла ли где-нибудь среди ковыля и карликовых кустарников в бескрайней и нелюдимой степи?..
Лошади шли ни шатко ни валко, их выцветшие на летнем солнце гривы колыхались на ветру, точно приозерные камыши; пронзительно и зловеще скрипели несмазанные колеса, новобранцы дымили купленными впрок дешевыми папиросами, а скуластый лейтенант с ответственной планшеткой на боку – их опекун – восседал впереди и выводил тягучую бесконечную песню. Слов из-за скрипа колес разобрать нельзя было, но припев у песни был необыкновенно воинственный: та-та-та, та-та-та… Воз подбрасывало на рытвинах и ухабах, я сдавленно вскрикивал от тряски, и призывники, не выпускавшие для страховки из рук мягкие края прямоугольной кошмы, как по команде, приподнимали ее вверх, и я минуту-другую парил в воздухе. Иногда мое парение кончалось легким ударом в тележную грядку, и тогда скуластый прерывал свои зовущие на подвиги «та-та-та, та-та-та», поворачивался ко мне и возглашал:
– Терпи, казак! Атаманом будешь!
Другого выхода у меня и не было – терпеть, только терпеть. Я был готов стерпеть и не такое, поклянись кто-нибудь, что с моей несчастной мамой ничего не случилось, что она целой и невредимой возвратилась в харинскую хату, где вместе с хозяйкой выпила по рюмочке горькой за счастливое возвращение – мое и папино, для начала хотя бы за мое.
Первое, что я решил сделать, когда приеду в Джувалинск, это не разыскивать доктора Лазаря Моисеевича Нуделя, не передавать ему от председателя Нурсултана привет, баночку меда и головку овечьего сыра, а попросить скуластого лейтенанта с ответственной планшеткой на боку, чтобы он позвонил в колхозную контору Анне Пантелеймоновне и узнал, как там ее квартирантка Женечка – чего ему стоит на минутку связаться с кишлаком по рации и навести справку. И если с мамой действительно все в порядке, то я от беды уж точно как-нибудь улизну.
Дорога предстояла долгая, и вдруг в моей голове под тряску вылупилась несмелая, цыплячья мысль: «Зачем так долго ждать? Надо поговорить со скуластым раньше, еще до Джувалинска. Откажет так откажет. Чем я рискую? Пока наш возчик Аскар, безбородый киргиз, признанный из-за сухорукости негодным к строевой службе, скомандовав своим гнедым «Тпру!», поправит на них сбрую, а новобранцы в очередной раз коллективно справят малую нужду и оросят степь, я наверняка успею подбросить лейтенанту свою неоперившуюся мысль… Тем более, что всякий раз призывники занимались орошением целины дольше, чем отдыхали усталые лошади – медленно и небрежно расстегивали штаны, бережно из щели доставали цигарку и долго, как на радугу, смотрели на пущенную вверх теплую струйку. Затем неторопливо отряхивали цигарку и со смаком прятали ее в штаны и с деревенским изяществом начинали смолить табаком небесный купол. Спешить им было некуда. Кто же спешит на перекур со смертью?..
Помочусь и подброшу свою мысль – авось, сапогом не растопчет.
Мне милостиво было разрешено мочиться с подводы – новобранцы осторожно вытаскивали из-под моего исхлестанного нагайкой тела кошму, кто-нибудь из них, взявшись за низ моих портков, стягивал их до щиколоток, и время от времени казахскую землю скромно и стыдливо орошал и я.
На одной из остановок в степи, когда Аскар задавал лошадям корм, а призывники спрыгнули наземь, чтобы размять кости – подурачиться, погикать, потолкаться вволю, поколотить друг дружку слегка обленившимися кулаками, ко мне неожиданно обратился сам скуластый лейтенант с ответственной планшеткой на боку:
– Как, малой, дышится?
– Ничего.
– И за что же тебя так расписали, как пасхальное яичко? Чем провинился?
Неужели председатель Нурсултан ему ничего не рассказал?
Рассказывать все сначала не хотелось, но и от молчания никакого толка не было. Промолчишь, и он никуда не позвонит. За свою короткую жизнь я уже не раз убеждался в том, что сочувствие других вызывает не тот, чья беда безмолвствует, а тот, чья беда говорлива.
– Собирал колоски…
– Нельзя, малой, нельзя, – наставительно пропел лейтенант. – Сам товарищ Сталин своим указом это строжайше запретил. За хищение хлеба – вышка. Радио слушаешь, газету читаешь?
– Нет.
– А мама? Слушает? Читает?
– Тоже – нет. У нее с русским туго, – сказал я и, набравшись храбрости, выпалил: – А когда вы обратно в наш кишлак?
– Не скоро, – ответил он.
– Когда? – настырной мухой жужжала над ним моя мысль.
– Посажу ребят в эшелон, отправлю на защиту родины и, может, через полгода снова махну в ваши края новое войско собирать.
– Через полгода? – выдохнул я и, подстегивая кнутом свою храбрость, воскликнул: – А позвонить туда можете?
– Позвонить могу. Кому?
– Нашей хозяйке… Хариной… И спросить про мою маму… как она там?..
– Что, малой, могу, то могу. Ты только мне в Джувалинске, пожалуйста, напомни. Все извилины у меня, как навозом, забиты: повестки, номера частей, расписание составов. Понимаешь?
Я кивнул ему в ответ, и на миг показалось, что от его нетвердого обещания чуть легче задышалось, и дорога в Джувалинск укоротилась вдвое, и света вроде бы вокруг прибавилось. Может, он не врет, может, на самом деле позвонит, потом разыщет меня в госпитале, подойдет к койке и скажет: «Полный порядок! Привет тебе, малой, от мамки!» Будь я на его месте, я бы непременно позвонил. Подумаешь – крутанул ручку и спросил, как там мама…
– Позвоню, позвоню… – подмигнул мне лейтенант и поинтересовался: – Ты что – сирота?
– Нет.
– А батя где?..
– На войне, – сказал я.
– На войне? – лейтенант смаковал свои вопросы, как рахат-лукум или шербет. – Ынтэрэсно.
– Да…
– Ынтэрэсно, – налегая на первый слог, повторял он с нарочитым недоверием. – А я, малой, от своего сослуживца, знаешь, что слышал? – И, облизав свои губы-змейки, с ехидством продолжил: – Я слышал, что все евреи воюют в моем родном городе – в Ташкенте. Значит, есть все-таки один еврей, который воюет не там. Это хорошо.
Это нехорошо, подумал я. Хорошо было раньше, в Литве, когда евреи вообще нигде не воевали – ни в Ташкенте, ни в Белгороде, ни под Мгой, сидели в своих родных городах дома и шили. Или чинили ботинки.
Скуластый отвернулся от меня, снял свою планшетку, достал оттуда карту и стал задумчиво и подробно штудировать ее.
– Еще тащиться километров сорок – сорок пять, а над нами вон какая туча, – попенял он нерасторопному возчику. – Вот-вот хлынет ливень, и мы увязнем в грязи. Нельзя ли, Аскар, побыстрей?
– Вы, товарищ Орозалиев, не у меня спрашивайте, – спокойно объяснил тот.
– А у кого прикажешь?
– У лошадей, – буркнул возчик.
– А ты, Аскар, оказывается, и шутки любишь шутить! – сердито бросил лейтенант. – Один мой знакомый по пехотному училищу шутил, шутил и дошутился – прямо из челябинского общежития на две пятилетки к белым медведям угодил, чтобы остыл от остроумия.
– Какие лошади, такая, извините, и скорость… – уловив в словах лейтенанта неприкрытую угрозу, пробормотал Аскар. – Сколько их ни стегай, быстрей по такой погоде не потянут. Как бы не пришлось самим в подводу впрягаться…
Туча разразилась проливным дождем вперемешку с градом; новобранцы спешно кончили свой перекур, впрыгнули в подводу, прижались к грядкам, накрыли чем попало – пучками сена, тряпьем, рваной попоной – головы; большак развезло; гнедые громко хлюпали по ржавым, пузыристым лужам; мутные струи воды с быстротой ящерицы разбегались во все стороны, догоняя и перегоняя друг друга; крупные, с голубиное яйцо, градины пулеметными очередями били по свалявшимся конским гривам и крупам.
– Может, начальник, не мучить лошадей… переждать, пока они не утопли, – предложил кто-то из новобранцев.
– И так из-за мальца задерживаемся, – глянув на ручные часы, отклонил его предложение скуластый лейтенант, – ведь нам по пути еще в госпиталь завернуть надо…
Колеса буксовали, вязли в глиняном тесте; лошади спотыкались; ливень усиливался, и вскоре все промокли до нитки; промок и я; волосы мои свалялись в черный, липкий комок, рубаха – хоть выжимай! – приклеилась к позвоночнику, вода проникала за ворот и омывала все волдыри и раны, стекала по бокам на выстланное сеном дно подводы, кошма подо мной набухла, но я не огорчался, не сетовал на непогоду, мне этого обильного ливня было мало – хотелось, чтобы разверзлись хляби небесные и смыли с меня и жар, и боль – пускай льет и льет ведрами, кадушками до самого Джувалинска, до госпиталя, до встречи с доктором Лазарем Моисеевичем Нуделем, который осмотрит меня, велит отнести в палату, и я отряхнусь от страха, от обиды, от разлуки и, окрепший, сухонький, вернусь в кишлак к маме, ко всем, кто меня ждет.
В Джувалинске, куда подвода въехала под вечер, никакого ливня не было – прошумел в степи и прошел стороной. Строптивый ветер гонял по немощеным улицам густую бездомную пыль. Низкие одноэтажные домики зябко жались друг к другу, словно пытались согреться. Городок казался вымершим – только изредка на скрипучих деревянных тротуарах возникали фигуры редких прохожих, которые своими баулами и суетливостью напоминали опоздавших на последний поезд пассажиров; вокруг домиков разгуливали тощие, пепельного цвета (от въевшейся пыли) козы. Они по-старчески трясли своими куцыми бородками и радушно мекали. Кое-где в палисадниках старые казахи в длинных цветных халатах играли в древние нарды и пили из коричневых пиал кумыс. Пугая лошадей Аскара, с грохотом промчался крытый брезентом газик с военными номерами.
Госпиталь помещался на окраине Джувалинска за невысоким дощатым забором, за которым виднелась купа айвовых деревьев с засохшими, исклеванными плодами на ветках. По огромному двору, поросшему скудной растительностью, прогуливались выздоравливающие солдаты – кто на костылях, кто с пустым рукавом, приколотым булавкой к белому халату, кто с наглухо забинтованным, видно, выбитым глазом, кто под руку с нянечкой-казашкой. Охранник долго проверял документы скуластого лейтенанта, звонил из проходной начальству и одаривал Орозалиева загадочными восклицаниями: «Слушаюсь, товарищ полковник, слушаюсь, слушаюсь!», но ворота в госпиталь не открывал.
– В чем дело? – нервничал Орозалиев. – У меня нет времени… Я везу на фронт людей.
– На фронт, не на фронт – ничем не могу помочь, – оглядывая через окошечко проходной мокрую подводу, ответил охранник. – Направления в госпиталь нет. Пропуска нет. Ничего нет. И потом – штатских у нас не лечат… Штатских лечат в Джамбуле, в Чимкенте, в Андижане.
– Что?! – завопил Орозалиев. – Пацана в Джамбул везти? Да он… да я… Да пошли вы все к чертовой матери, – и, придерживая ответственную планшетку на боку, лейтенант бросился мимо охранника во двор, к зданию, где располагался приемный покой.
– Стой! Стрелять буду! – растерянно пригрозил служивый. – Стой! Стреляю! – Но нажать на курок так и не решился.
– Стреляй! – не оборачиваясь и не сбавляя скорости, подхлестывал Орозалиев. – Стреляй! Если пули не жалко!
– Во дает! Во дает! – ликовали на подводе новобранцы.
Начальника госпиталя Лазаря Моисеевича Нуделя Орозалиев застал за вечерей. Поджарый, смуглолицый, моложавый полковник, расстегнув мундир, сидел за столом в своем по-солдатски обставленном кабинете и уплетал разогретый узбекский плов с молодой бараниной, черносливом и красным перцем. Рядом с глубокой глиняной миской сверкала ярлыками початая бутылка коньяка.
– Товарищ полковник! Разрешите представиться! Лейтенант Энгельс Орозалиев, – сказал посетитель, нарушив таинство трапезы, и по-военному четко и кратко изложил причину своего внезапного вторжения.
– Ясно, – промолвил Нудель, – по-рыбацки выуживая из плова чернослив. – Есть, Энгельс, хотите? По глазам вижу – хотите, не отпирайтесь. Докторов обманывать нельзя – только себе во вред.
Орозалиев замялся.
– Рюмочку? Отличный, скажу вам, напиток. Выдержанный. Пять рубиновых звездочек! Не стесняйтесь! Садитесь! Не люблю есть и пить в одиночестве… Но, увы, приходится. Работа ломает все привитые с детства привычки… Завтракаешь вечером, а обедаешь ночью, если вообще обедаешь.
Орозалиев есть не стал – ждал от полковника ответа. Но Нудель продолжал вылавливать из плова лоснящийся жиром чернослив.
– Ясно, – вздохнул он. – От еды и питья отказываетесь.
– Некогда. На фронт пополнение отправляю.
– Ясно… Там ждать не могут… Но с вашим мальцом небольшая закавыка. – Лазарь Моисеевич отпил глоток-другой коньяка. – У нас тут на учете каждая койка. И только для фронтовиков.
– Разве, товарищ полковник, с вами этот вопрос никто не согласовывал?
Нудель замотал своей черной чуприной.
– Ничего себе! – воскликнул Орозалиев. – Так что с ним делать? Не оставлять же на улице. Он ведь кровью харкает! Объездчик его нагайкой… за колоски… Пацан, между прочим, еврей, из Литвы.
– Еврей, позвольте вам заметить, не диагноз болезни… Не тяжелое осколочное ранение. Не контузия. И срочной госпитализации не требует.
– Что если малой, не дай бог… – Орозалиев не договорил. – Устав ради жизни человека можно разок и нарушить.
– Меня могут в округе не понять и вкатить строгач, но так и быть, в порядке исключения мальца посмотрим. А теперь дерябнем, товарищ лейтенант, за маленькие одноразовые нарушения устава!
Лазарь Моисеевич налил Орозалиеву рюмку, и они чокнулись.
Лейтенант опрокинул ее, крякнул и, благоухающий рубиновыми звездочками победы, бегом бросился к выходу.
– Несите пацана в приемный покой! – приказал он новобранцам, и, выхваляясь своей удачливостью и напористостью, по дороге в приемный покой пустился со всеми подробностями рассказывать им о том, как он уломал полковника, который перед отступлением оказывал ему упорное сопротивление…
Не успели носильщики пройти через ворота госпиталя, как я, набрав в легкие воздух, прохрипел:
– А мед! А сыр!
Проворный Орозалиев тут же снарядил за скудными колхозными дарами гонца, и вскоре подношения председателя Нурсултана очутились на чистом, пропахшем неведомыми лекарствами столе Лазаря Моисеевича. Меня же новобранцы осторожно, как мину, сняли с кошмы и уложили на мягкую, обтянутую скользкой кожей кушетку, над которой вдруг ярко зажглась большая ослепительная лампа. Не успел я зажмуриться от хлынувшей на меня ливневой струи света, как услышал добродушный мужской голос:
– Рановато, дружок, начинаешь по больницам валяться и докторов тревожить, – мужчина откинул со лба свои мятежные волосы и наклонился ко мне. – В твоем возрасте уже надо девушек тревожить. Но коли уже попал к нам в руки, то давай знакомиться. Я – дядя Лазарь. Лазарь Нудель. Нудель-Пудель. Так меня в школе дразнили. А ты?
– Тут я Гриша.
– А там?
– Там я был Гирш…
– Моего дедушку со стороны мамы тоже звали Гирш. Гирш Фишбейн… Рыбья кость. Правильно я говорю?
– Правильно.
– А твоя фамилия?
Я назвал свою фамилию.
– Так в твою больничную карту и впишем. А теперь, дружок, разденемся и посмотрим, что с тобой сделали другие и что предстоит сделать нам, чтобы ты поскорей к маме вернулся…
Лазарь Моисеевич – внук Рыбьей Кости раздел меня, я громко и бесстыдно застонал, заойкал, закашлялся, и осмотр начался.
Нудель поворачивал меня то на левый бок, то на правый, сажал, укладывал, мял, как свежее тесто, живот, выстукивал, выслушивал, заставлял то дышать, то не дышать, вытягивать руки, показывать язык, щупал шею, хмыкал, ворчал, нараспев повторял мою фамилию и, спрятав в карман белого халата свои наушники и молоточки, крикнул: «Надия! В каталку и на рентген!» – и исчез.
Растяпа, отругал я себя в мыслях – забыл Лазарю Моисеевичу про баночку меда и про овечий сыр сказать…
Меня облачили в широкую, не по росту, застиранную пижаму, посадили в каталку и мимо айвовых деревьев с исклеванными плодами на ветках медленно повезли на другой край двора в бывший спортзал местной средней школы, огороженную часть которого переоборудовали в рентгенкабинет. С потолка еще свисали никому не нужные железные кольца, а в углу торчали свернутые маты, и пасся одинокий, всеми забытый деревянный конь.
– Как говорят в Одессе, у такого хорошего человека снимок мог бы быть и покрасивше, – сказал Нудель, когда ему принесли и положили на стол проявленную пленку. – Но ты, Гирш, не отчаивайся. Следующий сделаем на загляденье. Полежишь у нас недельки две, подчистим тебя и отпустим. Кстати, как, Гирш, по-дедушкиному будет «отпустим»?
– Авеклозн, – сказал я, удивившись.
– Авеклозн, – повторил он не без труда, но не покалечив слово. – Правильно?
– Да!
– Только в детстве… в Белой Церкви… от твоего тезки… деда Гирша слышал что-то похожее. А потом пошло-поехало: армия, Киев, мединститут, снова армия, и все, как пыль, из головы выдуло… Может, говорю, договорчик с тобой заключить? А?
– Какой договорчик?
– Я тебя буду лечить, а ты… ты меня потихонечку учить… Дед мой – Рыбья Кость обрадуется… Кончится война, приеду в Белую Церковь, приду на кладбище, если оно к тому времени сохранится, найду могилу и скажу: «Здравствуй, дед! Я вернулся. Ты слышишь? Я вернулся». А как будет, Гирш, «я вернулся»?
– Их бин теку мен цурик.
– Их бин гекумен цурик, – сказал Нудель и вдруг засмеялся. Я не понимал, над чем он смеется (не над дедом же!) и что смешного в том, что у него все давным-давно выдуло из головы… Смущали меня и слова про договорчик. Какой же я учитель? Чему я могу научить взрослого человека? И зачем ему учить то, что вокруг никому не нужно. Но я не стал отказываться. Раз доктору так хочется, почему бы не научить его; Харина – русская, и то уже немножко кумекает.
– Здорово придумал! Правда? – как бы забавляясь и забавляя меня, рокотал Нудель. – Должен же внук Гирша знать хоть пару слов на языке своих предков? Должен или не должен?
– Наверно, должен… – сказал я и вдруг вспомнил о просьбе Нурсултана. – А я вам из колхоза подарок привез… От председателя Нурсултана – баночку меда и овечий сыр.
– От Нурсултана? Мед? Овечий сыр?
Лазарь Моисеевич снова расхохотался.
– Вы в прошлом году ему кишку вырезали, – объяснил я.
– Кишку вырезал? Да я, дружок, на своем веку столько кишок повырезал, что ими дважды или трижды можно, как почетной лентой, весь Казахстан опоясать. Нурсултан? Каюсь, но никакого Нурсултана не помню. Вполне возможно, что среди прочих кишок где-то и его кишка завалялась. Ха-ха-ха!..
Неожиданное появление Надии заставило Лазаря Моисеевича обуздать свой хохот, он вытер платком вспотевший лоб и поинтересовался:
– Ну, что, Надия – нашли место?
– В седьмой палате… где лежал бедняга Фролов.
– Ах, да, – вздохнул полковник. – Ничего другого нет?
– Так точно, товарищ полковник, – ответила веснушчатая, пухленькая, как сдобный пирожок, Надия, недавняя, видать, школьница с аккуратно уложенными под белой шапочкой косичками и свернутыми в трубочку чистыми бинтами в руке.
– На нет и суда нет. Сгодится и седьмая. Дети, говорят, не мнительны и не суеверны… – сказал Лазарь Моисеевич. – Проследите, чтобы пациент строго соблюдал режим. Не вставал, вовремя принимал лекарства… особенно пенициллин. – Лазарь Моисеевич потрепал Надию по усыпанной веснушками щеке и, прощаясь, обратился ко мне:
– Авеклозн? Так?
– Так, – ответил я.
– А как сказать «Будь здоров»?
– Зай гезунт.
– Зай-таки гезунт!
И начальник госпиталя снова расхохотался и, напевая под нос «унт, унт, унт» удалился.
Седьмая палата была чуть больше харинской горницы. Два ее застекленных окна с толстыми, выложенными ватой рамами выходили на купу айвовых деревьев, которую в ожидании прогуливающихся по двору и щедрых на подаяние солдат облюбовали взъерошенные госпитальные воробьи. Четыре железные, окрашенные в жизнерадостный голубой цвет койки стояли на расстоянии протянутой руки друг от друга. Меня уложили на вторую от дверей, видно, на ту, на которой лежал бедняга Фролов.
Осыпая меня своими веснушками, Надия стащила с меня штаны, сделала укол и, спросив из приличия «Не больно?», сунула под мышку градусник, смерила температуру, вписала ее в карточку, смазала мою спину какой-то морозильной мазью, велела лечь на бок и, положив на тумбочку три розовые таблетки, по-учительски сказала:
– Веди себя, Гриша, хорошо… Твоим соседям куда хуже…
Пожелав всем спокойной ночи, она повела белым плечиком и вышла из палаты.
В седьмую палату, как я с самого начала и предполагал, помещали тяжелораненых, может, даже смертников – таких, как бедняга Фролов. По правую от меня руку лежал молодой солдат с наглухо забинтованной головой. Из узенького отверстия в толстом слое бинтов рыболовным крючком торчал заострившийся, с горбинкой, нос; а по белизне повязки чуть заметной черточкой, как у снежной бабы, тянулся рот, служивший не столько для речи, сколько для приема пищи, которую раненый тут же сблевывал на койку. По левую руку, как успела мне шепнуть Надия, томился уроженец Украины Петро Мельниченко, раненный осколками артиллерийского снаряда в живот и в голову и почти потерявший после контузии зрение. Под самым окном, за которым устраивали свои веселые бесчинства неистовые воробьи, на третьей койке прикорнул калека-казах, сон которого, как часовые, оберегали в изголовье два отшлифованных солдатскими подмышками и все время переходивших от одних безногих к другим дубовых костыля.
Вопреки пожеланиям Надии, моя первая ночь в госпитале не выдалась спокойной. Я долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок, расстегивал и застегивал теплую пижаму, зверски кашлял, харкал в судно, подолгу разговаривал с мамой, прислушивался к судорожному храпу и стонам соседей.
Когда же я не то от укола, не то от усталости все-таки смежил веки и уснул, мне приснился бедняга Фролов – будто бы лежит рядом со мной на койке, голый, с застроченной нитками грудью и, вцепившись мертвой хваткой в мою шею, душит меня и орет: «Пижама! Отдай мою пижаму!», а я кручусь, верчусь, пытаюсь вырваться, увильнуть, но тщетно; клещи только сжимаются еще крепче, еще больней, бедняга Фролов изо всех сил тянет меня к себе, стаскивает на пол, и я застываю возле зловонного судна и кричу во всю глотку: «Отпустите меня, отпустите! Я у вас ничего не брал!..», и просыпаюсь – в окна палаты струится заморенное осеннее солнце, на айвовых деревьях чирикают госпитальные воробьи, на койке сидит веснушчатая Надия, гладит меня, как приблудившегося котенка, и ласково приговаривает:
– Будет, крикун, будет! В воскресенье сон до обеда. Каша стынет!
Но гречневая каша в рот не лезет – только поднесу ложку к губам, а перед глазами не глиняная миска с гречкой, а бедняга Фролов, которого я никогда – ни живого, ни мертвого – в глаза не видел, стоит у окна возле третьей койки, ухмыляется и ждет, когда я кончу есть, чтобы снова вцепиться в горло. Я отворачиваюсь от его взгляда, зажмуриваюсь, но стоит мне приоткрыть щелочки глаз, чуточку приподнять веки, бедняга Фролов – и слева, и справа, повсюду, как свет в палате; вот он хватает костыли, опирается на них и, выбрасывая вперед единственную ногу, подкрадывается ко мне, все ближе и ближе…
– Каша не нравится? Конечно, куда лучше лечит свежее сальце… Но все на этом пенициллине сейчас помешались… Да с салом никакое зелье и никакое кушанье не сравнится. Но где его взять? – пригорюнилась Надия и потопала к соседней койке. – Петро! Мельниченко! – вдруг обратилась она к забинтованному украинцу. – Йисты будешь?
Петро не откликнулся…
– Мельниченко! Йисты кашу – это же не уголь в Артемовске копать… Или по вареникам с вишнями соскучился?
Надия покосилась на койку, вздохнула, поскребла веснушки и тихонько, неизвестно кому пожаловалась:
– Живой человек, а ведет себя, как мертвый.
И, вдруг спохватившись, что впала в недопустимую ересь, унесла еду.
Время оплывало днями, как свеча воском.
Каждое утро в сопровождении младших по званию врачей и медсестер в седьмую палату стремительно влетал чисто выбритый, гладко причесанный и надушенный Лазарь Моисеевич, подходил к каждому раненому, по-отцовски садился на краешек койки и, прежде чем приступить к осмотру, принимался сорить шутками, балагурить, рассказывать анекдоты о ревнивых мужьях и неверных женах, но никого – ни украинца Мельниченко, ни одноногого казаха, ни солдата, похожего на снежную бабу, начальник госпиталя так и не мог рассмешить. Смеялась свита – сестры, младшие по званию врачи, иногда смеялся и я – особенно после того, как дела мои пошли на поправку. Солдатам было не до смеха.
У моей койки Нудель задерживался недолго, говорил со мной только по-русски, никогда при посторонних не спрашивал «А как это будет на дедушкином языке?», словно ни Белой Церкви, ни старого Гирша Фишбейна – Рыбьей Кости и в помине не было; хвалил меня за примерное поведение и, как он выражался, «за прогресс в лечении», а однажды во время обхода разрешил встать с постели и по полчасика, для разгона крови в конечностях, прогуливаться по палате, посильно помогать соседям, ежели те о чем-нибудь попросят, следить за тем, чтобы с них не сползли на пол одеяла, накрывать их (только простуды им не хватало!) и, не дожидаясь прихода Надии или другой сестрички, по первому требованию подавать судна для отправления нужды. Лазарь Моисеевич рассматривал на свету снимки моих легких и очень сокрушался, что «эти противные пятна» все еще не рассосались, и на мой робкий вопрос «Доктор, а домой скоро?» отвечал с нарочитой армейской грубостью:
– Колоски собирать? Опять под нагайку? Опять голодать?
Хотя в госпитальном рационе сала и не было, но голодом никого не морили. Надия оставляла мне не только мою пайку, но и порцию двух моих соседей – украинца Мельниченко и безымянного солдатика, сплошь обмотанного бинтами. Порой казалось, что он уже завернут в саван, и его вот-вот вынесут из палаты. Может, оттого, что мне хотелось поскорей выздороветь, или оттого, что за полтора года я успел вдоволь наголодаться в новой и непонятной мне стране, я, как и госпитальные воробьи, склевывал все до последней крохи – слопал овечий сыр, до дна вылизал баночку меда, намазывая его на хлеб, и, давясь от стыда и удовольствия, уплетал, уплетал, уплетал…
Я прогуливался по палате – шагал от стены до стены, останавливаясь у выходящего во двор окна, и, припаяв свой взгляд к купе айвовых деревьев, смотрел на пронырливых воробьев, на радостное трепыхание их серых крылышек, наблюдал за их недальними перелетами и приземлениями и, обуреваемый завистью, думал о том, что Господь Бог вроде бы ничем не обделил человека, даровал ему даже что-то лишнее – печальные мысли, например, но почему-то не удосужился снабдить его вот такими, трепыхающимися от нетерпения и вожделения, неказистыми крыльями, чтобы он мог в один миг беспрепятственно оторваться от земли и по своему желанию хоть немного полетать в общей клетке с ее голубой, просвечивающейся сквозь прутья крышей – от этого двора до порога харинской хаты, от госпиталя до «Тонкареса», от Джувалинска до Шахтинска или Белой Церкви, от России до листопада в Литве. От земли до неба.
Порой мы смотрели на айвовые деревья вместе – я и безногий казах на костылях.
– Ты что там, парень, видишь? Айва как айва… Воробьи как воробьи… Тучи как тучи…
Я не мог ему сказать, что я вижу, я не мог это и себе толком объяснить, но я видел, ей-богу, видел, и всякий раз, когда я подходил к окну и вытирал рукавом пижамы запылившееся стекло, мне казалось – завтра что-то должно совершиться: завтра все начнется сначала, и я обрету то, что потерял и то, что у меня отняли. Завтра прозреет Мельниченко, завтра снежная баба снова превратится в живого человека… Завтра – какой же это прекрасный и завораживающий обман!.. Завтра светит, как солнце, всем, но всходит не для каждого…
– Гриша, – услышал я голос Надии и обернулся. – К тебе гость. Прибери-ка, неряха, постель. Спрячь в тумбочку еду. Застегни на все пуговицы пижаму.
Гость?! Ни одна из догадок, промелькнувших в моей голове, увы, не подтвердилась.
Гостем – кто бы мог подумать! – оказался скуластый лейтенант Энгельс Орозалиев с ответственной планшеткой на боку.
– Здоров, малой! – бодро поприветствовал он меня, как будто мы никогда и не расставались. – Как дела?
– Здравствуйте, – ответил я, пытаясь скрыть свое разочарование. Я ждал кого угодно – Нурсултана, Харину, маму, но только не его.
– Если Энгельс Орозалиев дает слово, то обязательно сдержит. Сказано было – позвоню, и позвонил. Признаюсь честно, с самой мамкой не разговаривал – она в школе была. Но хозяйка ваша… как ее…
– Анна Пантелеймоновна.
– Вот, вот – Пантелеймоновна. Она мне по телефону сказала: пусть не беспокоится… пусть выздоравливает, мамка при первой возможности к нему приедет. – Орозалиев перевел дух и шутя добавил: – Напиши ей, чтобы поспешила. Не успеешь оглянуться, как и тебя, малой, забреем в солдаты… Между прочим, привет тебе от твоих носильщиков. А это от меня гостинцы… мармелад… консервы… и американские галеты… Поправляйся! И прости – как всегда, опаздываю…
Он щелкнул каблуками и, так и не узнав, как у меня дела, помахал мне рукой и прикрыл за собой дверь.
В палате стало тихо.
Даст бог, через день-другой, когда меня выпустят во двор, я возьму американские галеты, намажу на них мед из второй Нурсултановой банки и поделюсь не только с безногим казахом, но и с воробьями на айвовых деревьях. Ведь оттого, что радость с кем-то делят, она не убывает, а удваивается.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































