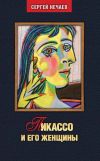Текст книги "Дом образцового содержания"

Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
А какой это был Бог, иудейский их – Яхве или же обыкновенный человеческий Иисус Христос, Роза знать не желала: ей было все равно, кто охранит ее самых близких от беды, какой из возможных этих богов. Она не самого его любила напрямую, Спасителя Небесного, в первый черед, как на Законе Божьем учили когда-то, она больше признавала своих родных и близких, а потому и его, Бога, заодно, а не наоборот.
В этот раз было особенно весело: Мирский, как обычно, издевался над Кацем, зная, что тот все одно стерпит и вовремя переведет все в шутку, но при этом доходил до той выверенной опытом границы, после которой могла бы затаиться и обида.
И точно – как только Сема подбирался к очередной предельной шуточке, то сам же резко сдавал назад, наливал Кацу персонально и подбрасывал в его адрес пару-тройку ласковых признаний. Тогда и проносило мимо тайной обиды.
Выпивали за всех, в очередь. Иногда, забыв про положенную строгость, сбивались по дороге со своих обрядов на русские, успевая по пути наметать на пасхальный стол кучу искрометных блюд из запасов острословного меню – сверху донизу. На коленях у Аронсона пристроился шестилетний Боренька. Ему было крайне интересно наблюдать за взрослыми. Он больше молчал и наматывал на будущее. Ида ахала с каждыми появившимися на столе новыми Розиными пирожками, что подтаскивала Зина. Ахала, обязательно пробовала и активно нахваливала для укрепления академического родства. Кора, обретшая с подачи Георгия Евсеича иудейские корни, чувствовала себя полноправным членом общего праздника, ловя себя на мысли, что, может, и правда есть в их роду евреи, кто ж такое деликатное дело знает точно? Или – кто не знает?
Так и сидели, умеренно выпивая и веселясь, пока не поднялся Зеленский.
– Друзья мои, – соорудив серьезное лицо, обратился к застолью Георгий Евсеич. – Пришло время избавления от грехов наших, какие с того года набрались, – он с прищуром осмотрел присутствующих. – Надеюсь, непричастных к этому делу не имеется? – Он налил себе и пустил бутылку кагора по кругу.
Все налили, а маленькому Борьке капнули в блюдечко – слизнуть на всякий случай. Зеленский взял пустой бокал и стал обходить стол. Каждый из сидящих за столом отливал в его бокал по чуть-чуть из своего. К концу кругового маршрута емкость наполнилась почти до краев. Далее всем полагалось выпить свой кагор, а отделенные грехи в виде слитого вина вынести на выброс.
Нет слитых грехов – нет вины присутствующих. Зеленский присел на место, хихикнул и выкрикнул в сторону кухни, где возилась у плиты Зинаида:
– Зинаидочка! Дочка!
Зина явилась тут же, вытирая руки о фартук.
– Аиньки, Георгий Евсеич, – доложилась она. – Вот она я. Принесть чего?
– Ничего не надо, дочка, – по-отцовски нежно ответил адвокат, – выпей с нами лучше, а то носишься, носишься все, передохни малость, успокойся. – Он протянул ей греховный кагор и приготовился чокнуться с ним своим. – Давай, милая, до дна, на здоровье!
Зина благодарно склонила голову и приняла питье. Георгий Евсеич пригубил свой напиток, не отрывая от Зины глаз. Весело отхлебнула еще пара гостей. Ида Меклер тоже хихикнула и сделала большой глоток. Зина выдохнула и сказала:
– Спасибочки за угощенье, – она отглотнула, пробуя вино. Сладкий этот, густой кагор явно пришелся ей по вкусу. Тогда она залпом осушила остаток, вытерла губы краем фартука и благодарно известила хозяйку: – Пойду теперь, там горячее на подходе и фишу щас подам, да? – Зина бросила вопросительный взгляд на Розу, рассчитывая получить одобрительный кивок. Однако, не получив ответного указания, исчезла на кухню.
Роза Марковна продолжала сидеть, замерев с нетронутым бокалом в руке. Мирский, перестав улыбаться, озадаченно посмотрел на жену, предчувствуя нехорошее.
– Пожалуйста, уйдите, Георгий Евсеич, – Мирская продолжала смотреть мимо Зеленского, но слова сказала так, что на шутку они не походили. И это поняли все. Возникла пауза.
Зеленский, надо отдать ему должное, не растерялся и не смутился, а принял единственно верное решение – адвокат-то от Бога. Он быстро глянул на часы, хлопнул ладошкой по лбу и бодро сообщил:
– Бог мой! И то правда. Засиделись мы, Коранька. Вставать завтра ни свет ни заря, деток будить, – он поднялся и беззаботно добавил: – Они у нас такие сони, такие сони! Пойдем, милая, – он подхватил под руку слегка нетрезвую супругу. Дочь князя сделала неудачную попытку выскользнуть из-под мужниной руки, пытаясь вставить свое:
– Жоранька, а как же фиш? И ведь завтра не надо в школу, завтра выходной, а?
– Мы уходим, Кора, – на этот раз Зеленский сказал это весьма твердым голосом, после чего вежливо поклонился гостям и увел жену в прихожую. Провожать его никто не поднялся, впрочем, нужды в этом уже не было, и не только на этот раз.
После той самой Пасхи тридцать второго года дружба Мирских с Зеленскими оборвалась, общаться они перестали, но при встрече кивали друг другу, как кивают жильцы одного и того же дома – смущенно или просто равнодушно.
В тот же пасхальный вечер, когда гости стали расходиться, Роза, поцеловав на прощание Аронсонов, придержала двоюродную родственницу, успев шепнуть на ухо:
– Ида, задержись немного, разговор у нас к тебе, – Ида с радостью скинула жакет и вернулась в гостиную. – О «золотухе» знаешь? – спросила ее сестра, проводив последнего гостя.
– Наслышана, – огорченно вздохнула Ида. – Не знаю, что и сказать даже.
Иду, если честно, подобная чекистская затея при ее полунищей жизни не слишком смущала – даже и придут если, то тут же развернутся обратно: брать и на самом деле в доме Меклеров было нечего, разве что дранку посрывать со стен, какие уж там ценности-драгоценности-золото-монеты-брильянты-изумруды.
Речь шла о кампании, затеянной ОГПУ по указанию Политбюро лично Менжинскому и Ягоде, – об организованном изъятии произвольным способом у части населения излишков ценностей для экономического подъема страны, для нужд индустриализации. Фабрики строить надо? Надо. Заводы? Еще как надо! Голодные есть еще советские люди? Нет в основном, но поддержка необходима экономике, чтобы и не было их никогда, голодающих.
К ценностям относилось все, за что можно было выручить монетарный эквивалент: цацки, николаевские червонцы и пятнари, также советские золотые червонцы выпуска двадцать третьего года, камушки в оправах и без, остатки торгсиновских долларов, также имевших немалый ход вплоть до самого конца нэпа и отчасти зависшие на руках. Короче говоря, все, во что сумел вложиться чуткий до обмана народ, пытаясь любым путем избавиться от девальвированной бумажной массы. Торгсины, придуманные с целью выжать накопленные доллары, себя не оправдали, ожидаемого эффекта не принесли и поэтому были закрыты. Но и это было не все, усердно выискивали и серебряную массу – то есть тех, кто ухитрился набрать и схоронить весовое серебро в мелких монетах, и большинство таких укрывателей пришлось на транспортных кондукторов. Взвешивали найденное быстро, тут же, на месте обнаружения, и расстрел полагался такой же скорый: больше килограмма изъято – получите без задержки, с помощью быстрой на ответ трибунальной «тройки».
Вся кампания была довольно протяженной, но пик ее пришелся на весьма короткий срок, учитывая партийные аппетиты и реакцию пуганого населения, – до полутора-двух лет, с тридцатого до тридцать второго года. Именно это и обозвал тогда народ «золотухой».
Приходили не ко всем, но ко многим – главным образом к бывшим нэпманам, успевшим на этой самой политике славно разбогатеть. Не брезговали гэпэушники и прочим состоявшимся контингентом, под который подпадали известные врачи, успешные адвокаты, а также разное подозрительное начальство, повязанное в основном со снабжением кого-нибудь чем-нибудь.
Это, однако, не означало, что в сферу внимания ОГПУ не могли попасть и люди творческих профессий, включая знаменитостей. Правда, если говорить о доме в Трехпрудном, то к моменту, когда Роза шепнула Иде на ухо свои слова, пострадать от принудительного изъятия успел лишь один, но достойнейший человек – знаменитый педиатр, доктор Клионский Самуил Израилевич, главврач городской клиники детских заболеваний.
Пришли к нему поздним вечером, очень вежливо поговорили, после чего доктор выложил на стол то, о чем его попросили, написав заявление в органы о добровольной сдаче излишков материальных ценностей, жертвуемых им на благо индустриализации советской родины для скорейшего и победного построения социализма в Советском Союзе. Однако этим дело не ограничилось. Вновь к нему явились и на другой день, вернее, в ночь уже и поговорили чуть менее сдержанно, но пока все еще вежливо. К выданному днем раньше заявлению Самуил Клионский добавил еще одно, уточняющее первую бумагу в сторону расширения списка, после чего органы угомонились и ушли, снова поблагодарив врача.
Однако окончательно успокоились они лишь после того, как явились в дом в Трехпрудный в третий, последний раз. Теперь уже они не церемонились и не пытались завязать вежливый диалог – сразу увезли несчастного Самуила Израилевича в ближайшее отделение милиции в чем был и посадили его там на твердый стул. Затем вернулись обратно и сообщили жене Циле, что муж ее, главный детский доктор, помирает, но раз скрывает от государства излишек, то и пусть себе помирает. А если Циля Клионская не желает мужу смерти, то пускай перестанет сопротивляться и отдаст работникам ОГПУ все, что отдавать таким, как они, положено. Ясно?
После таких слов Циля, обливаясь слезами двойного горя, рвя сердечный промежуток между жалостью и страхом, беспрепятственно выложила последнее, неблагоразумно схороненное Клионскими от своей страны. И люди с ромбами в петлицах ушли, учуяв по-собачьи, что на этот раз миссия их выполнена целиком и полностью, без допущения досадных оплошностей.
Как раз на этот короткий, но результативный период и пришелся крепкий виток в карьере сотрудника экономического управления ОГПУ, оперуполномоченного с двумя шпалами на воротнике и полугероической фамилией Чапайкин.
За короткий срок Глеб Чапайкин сумел проявить себя в качестве опера, накопившего достаточный опыт, чтобы по праву считаться в Управлении ловким психологом и умелым дознавателем. В общем, две шпалы вскоре сменились на три, и уже их Глеб носил до тридцать четвертого, поскольку резко пошел в гору после серии удачных изъятий, по завершении каковых сделался начальником отделения в Особом отделе НКВД, получив в тридцать пятом году звание капитана госбезопасности, как только звания такие ввели в оборот.
Однако в Трехпрудном Чапайкину в те времена пошуровать не довелось – другие были в списке адреса, прочая досталась уполномоченному столичная география.
Тогда же, в Кремле, в момент знакомства с орденоносцем Мирским, не удержался, соединив праздничный настрой академика с собственным приятным событием, и в приподнятом настроении сообщил будущему соседу, покосившись на свой воротник:
– У меня не орден, конечно, как у вас, но тоже вот звание подошло, так что праздник у нас сегодня общий, Семен Львович, получается. Двойной…
В тот гостевой вечер, продолжая оставаться расстроенной от истории с Зеленским и Зиной, Роза все-таки собралась и потолковала с сестрой Идой про дела. Речь пошла о взаимной семейной выручке в связи с болезнью «золотухи».
– Идочка, – обратилась к ней Роза, – мы с Семой хотели бы передать вам на хранение кое-что из самых для нас дорогих предметов, – она помялась, но попыталась поточней донести до Иды суть просьбы. – Видишь ли, дорогая… – Роза не очень точно чувствовала, как правильней начать, но в итоге сказала напрямую: – К нам могут прийти, очень могут пошерстить: сама понимаешь, что мы думаем обо всем об этом после Клионских, – она слегка наклонила голову вбок и приподняла глаза вверх, перебирая мысленно перечень, который мог бы вызвать у ЧК практический интерес. – Хотя, с другой стороны, особенно опасаться вроде нечего: достаток мы почти проживаем – ты знаешь, как Сема не любит себе ни в чем отказа, – украшений не покупаем, так, по мелочам, вроде кораллов да бирюзовой мелочи в серебрушке, – она оглянулась по сторонам и остановила взгляд на стене. – Это все… – кивнула она туда, где задержался взгляд, – …это им неинтересно, нет у ЧК ценителей прекрасного, да и спрос им неясен на искусство, для них все это мазня и баловство, так что пусть здесь так и висят. Мы с Семой об этом думали и полагаем, что в этом мы правы, – она вздохнула. – Но, знаешь, что касается нескольких предметов, семейных в основном, то есть у нас сомнения, что не на месте они теперь, когда такое развернулось.
– Это какие вещи-то, Роз? – с любопытством поинтересовалась Ида, понимая, к чему клонит сестра. – Старые которые, те, что от Дворкиных остались?
– И кое-что от Мирских, – уточнила Роза, – Семины. Немного, но есть, – она посмотрела на Иду и спросила прямо: – Возьмешь на время? К вам не придут, ты знаешь.
Раскидывать умом Ида и не собиралась.
– Милая моя, – она почти обрадовалась такому родственному доверию. – Да конечно, Розочка, о чем речь, дорогая? Будь спокойна – сохраним в лучшем виде, сунем в одеялко да за вьюшку, – пошутила она, – пусть ЧК с нашими печными тараканами воюет, раз им так надо.
– Мыши, – поправила сестру Роза и улыбнулась, на мгновение выпустив из памяти неприятный осадок от гадости, учиненной Зеленским, – мыши бывают печные, а не тараканы, Идочка.
Предметов для утаивания от индустриализации коммунизма и впрямь оказалось не так много, но зато все они были высочайшего калибра: ваза на платиновом постаменте в виде хрустальной ладьи от Фаберже, пасхальное яйцо того же имени, из царской коллекции Александра Третьего, причем не придворной мастерской клейменные при полнейшем соблюдении ювелирных нюансов и неотличимых деталей, а непосредственно автором, мастером самим, Карлом, кольцо матери с крупным изумрудом редкой чистоты, плотно окруженным примовой брильянтовой россыпью. Кроме этого редкий набор фужеров и салатница – все екатерининского стекла, коллекционного, с царскими вензелями, резьбой, эмалями на ножке и двойной золотой каймой по краю. Ну и прочее, понемногу: Семины часы – золотая луковица с тонким переливным боем позапрошлого века, голландской работы и его же брильянтовые запонки с такой же заколкой для галстука. Больше прятать было нечего. Вернее, было чего, но этого было не жаль, если что. А точнее, если и жаль, то без семейной катастрофы – просто с огорчительным расстройством, и эту часть решено было не трогать: как сложится, так и будет.
На другой день Роза Марковна сама отвезла все Меклерам, где и оставила на доверительное родственное хранение. Напоследок она окинула взглядом дорогие сердцу фамильные предметы и прочитала вслух, словно прощаясь, выгравированную сбоку на постаменте ладьи надпись: «Розочке и Семену от родителей в день свадьбы. Октябрь 1923 года. Москва».
Кое-что из наследных предметов вместе сунули за вьюшку, что вошло. Остальное Ида уже сама, как и обещала, раскидала туда-сюда, и история потихоньку стала забываться, освободив Мирских от обузы сомнений и возможного непокоя.
Через месяц Ида принеслась в Трехпрудный вся зареванная. Она влетела к Розе и завалилась на пол, не в силах говорить. Роза поняла – больше у них ничего нет из того, что они с Семой могли бы передать Борьке с нежным комментарием про бабушек и дедушек, подтвердив кудрявую родословную доказательствами из-за вьюшки.
Два пути в тот момент было у Розы Марковны: забиться в дурной истерике, на манер Иды, завыть, застонать, залиться слезами, выпуская изнутри наружу ужасную весть, или же сделать то самое, что она и сделала.
– Не надо, Идочка, – негромко, стараясь не распалять себя, сказала Мирская и присела на корточки, в то самое место в прихожей, где продолжала биться о дубовый паркет сестра, – не в цацках счастье наше и не в посуде, в конце концов. – Она погладила рыдающую родственницу по голове и, собрав остатки самообладания, добавила: – Мы с тобой вполне можем салатик и из миски славно поесть, да? Что нам с тобой, в конце концов, так уж особенно надо? Постное маслице, лучок, немного черняшки и имановы ушки по выходным, – она выдавила из себя подобие улыбки. – Я права, Идуля?
На самом деле одна лишь мысль о том, что все, чем так гордилась она сама и что так любил Сема, что все эти драгоценные вещи, почти реликвии, все они невозвратно утеряны теперь для Мирских, для будущих Борькиных детей, для внуков, для их наследников и для нее самой, приводила Розу в отчаянье. Но еще больше в эту минуту она жалела несчастную Иду, за которую было много больней, чем за наследную утрату. Роза Марковна знала: сестра пострадала не по своей вине и не по чьей, а лишь из-за неудачной попытки лишний раз выказать свою родственную привязанность к Мирским. Это если не брать в расчет негодяев и мерзавцев, придумавших варварское дело по уничтожению человеческого достоинства в своем же собственном народе.
Зеленских взяли ночью и увезли так, что никто ничего не видел и не понял. Перебирая жильцов приглянувшегося дома на Трехпрудном, одного за другим, Глеб Чапайкин в силу профессионального долга не мог разрешить себе поступить опрометчиво. В свои тридцать два года он, особист НКВД, надежный и зарекомендовавший себя не раз в деле борец с внутренним и внешним врагом, понял однажды, что просто так под лежачий камень вода не потечет. Так ему казалось оттого, что, принимая во внимание наличие заслуг, сообразил – пришло время определяться с человеческим жильем, а не соседствовать в коммунальном раю на краю Пролетарки. Руководство план одобрило – дело оставалось за малым: не имелось свободной площади для капитана, так что одобрение заодно явилось и разрешением, мол, давай, брат Чапайкин, действуй самостоятельно, в согласии с советским законом и партийной совестью. Врагов, сам знаешь, у нас видимо-невидимо, вот и напряги лишний раз пролетарскую мышцу, докажи родине умелость в решении любой задачи, тем более собственной.
Больше не было сказано ничего, но и того оказалось достаточно. К вопросу Глеб Чапайкин приступил, как и учили в академии, по-чекистски, с изучения истории и географии. Выбор пал на Патриаршие пруды. Раньше он там не бывал, не приходилось по службе, потому что к тому решительному моменту, когда органы стали активничать по ночам, бороздя в основном центр Москвы и прилежащие к нему земли, где проживали главные заговорщики и шпионы, он уже сидел в неподвижной конторе, там же, в Пролетарском районе, хотя и в особом отделе, недалеко от своего коммунального жилья.
Дом в Трехпрудном определился сразу. Как – сам не знал. Просто что-то было в нем красиво: и стоял как, и смотрелся снаружи, и с высокими непрямыми окошками, и при могучем цоколе по всему низу. Когда же Глеб выяснил, что квартиры там двухэтажные, причем все, какие имеются, то поиск свой на этом прекратил, окончательно утвердив находку безошибочным чутьем партийца и чекиста.
Верных вариантов после разработки оставалось два. Первый из них отпал сразу, учитывая, что, пока Глеб обмозговывал место будущей прописки, в квартиру ту въехал странный паренек, воровского вида, молодой и наглый. Оставалась еще одна подходящая жилплощадь – ровно над знаменитым академиком Мирским. Но на всякий случай оперативные данные по тому парню Глеб Чапайкин постарался выяснить по своим каналам. И выяснил. И первое, что сделал после выяснения, – отмолился крест-накрест. Парня того с подозрительной фамилией Керенский и полностью совпадавшим с «тем самым» именем Александр заселили сюда высокие чины по распоряжению, идущему из самого Кремля, и не просто. Имелись сведения, что по его личному указанию. Незадолго до вселения вышибли в 58-ю статью музыкальную знаменитость – скрипача Ягудкина вроде то ли Ягудаева какого-то. Так совпало. Но скрипач-то получил заслуженно – собирался передать инструмент государственный, скрипку древнего мастера итальянского корня, английскому резиденту с целью подрыва высочайшего класса советской исполнительской школы. Не вышло, не состоялась передача, вовремя взяли гада-скрипача. А квартира его освободилась с полной мебелью, тоже от старых мастеров, как и скрипка сама была, словно в историческом музее каком. Пусть теперь Керенский эти диванчики плющит да столовым серебром из фарфора кушает. И вообще, по виду парень этот явно был из своих. Не из органов, само собой, но зато чувствовалось сразу, когда столкнулся ближе, что из простых и понятных молекул состоит – что снаружи, что изнутри, и по тому, как ведет себя и как дышит. Позднее, уже после заселения в Трехпрудный, Глеб Чапайкин выявил «Керенскую» историю почти досконально, по-соседски, можно сказать, из первых рук. А была она такой.
«Отец мой законный, – рассказал Сашок, – был натурально Александр Федорович Керенский, дворянин и негодяй. Кем ни числился только и ни трудился: военным министром, министром юстиции, а после уж и премьером Временного правительства. Тогда-то его юнкера и прозвали Александрой Федоровной. Знаешь почему? А потому что спал на императрицыной кровати, а ее как раз так и звали, жену-то Николашкину. Так вот! После сбежал, как все толкуют, в женской одеже из Зимнего. Херня! Не было такого, но было зато решение Временного правительства слать его на фронт за подмогой, чтоб удержать дворец. Он на американской машине выбирался, под флагом. И никакого женского платья не было. Наоборот, он модничать страшно обожал и по одеже всегда выделялся от других всех. Его английские бабы «синий чулок» прозвали, которые в России отпивались тогда, перед революцией, перед нашей, а не шестнадцатого года которая была. Так вот, бабы эти были суфражистки. Это значит – те, которые боролись, чтобы у них все женские права были против нас, мужиков в смысле. Они, буржуйки, от папаши моего просто с ума сходили: и от одежи «элеганс», и от самого его, что такие преобразования произвел в России. Одна особенно его признавала как красавца и вождя. И дала по случаю – себя, в смысле, телом. А он взял, не будь дурак, хоть и временный премьер. Это уж сразу незадолго перед Зимним было дворцом, но до «Авроры» еще, меньше месяца оставалось.
После исчез он в пучине событий, а она осталась. Искала его везде, но не нашла – сам понимаешь. Тут наша революция накатила. Английское бабье тут же уплыло к себе домой, они все на острове находятся, вся империя, а моя мать осталась, потому что на встречу продолжала надеяться из-за живота, который уже имела после отца. И этот живот был я сам. Ну после она еще сколько-то пометалась, поискала везде, и время рожать подоспело. Она и родила. Но брать меня в Англию к себе отказалась – не так поймут ее там. Тогда она в роддоме, в Москве уже, все акушерке тамошней поведала подчистую, всю историю свою пропащую. Ребенка, то есть меня, оставила там же и к себе домой убыла, какой и уезжала оттуда изначально – без детей, не запачканной. А меня после детского приюта – в детдом, там жить под фамилией, которую англичанка завещала. И под отчеством. Вот я и вышел – сирота Александр Александрович Керенский, так и в метрике выправили, чисто по рассказу поверили. А в том году срок подошел детдом покидать по возрасту. Список, кому покидать, видать, к кому-то большому на руки по случаю попал, что-то у них там в органах отмечали вроде переделки ОГПУ в НКВД, ну и захотели благодейство для сирот типа образовать под свой праздник. Тот большой глянул и обалдел от моего звучания и еще выше в рассмотрение запустил. Оттуда пришли интересоваться и сверять. А после, как сверку произвели, все так и оказалось, как повествую. И еще выше доложили – выше уже некуда, сам понимаешь, про кого толкую. Там тяну-улось, тяну-улось. Думал, может, убьют теперь после вскрытия бывшей правды, ан нет – наоборот.
Приехали на черной машине, погрузили и в дом на Трехпрудный переулок откантовали, сюда. Живи, говорят, и радуйся, Александр Керенский-младший. Теперь это твоя будет квартира после казенной детдомовской и твоя вся обстановка при квартире. Можешь идти и получать пропись в паспорт и штамп. Я услыхал такое – чуть не опрокинулся головой на стоячие часы с боем, на вон те, в коридоре, не поверил в такой фарт. А потом уж, как в себя пришел, мне один из ваших, из органов, много чего поведал: и про то, и про это, про суфражистку без имени – мать мою, а главное, что приказ дал сам Иосиф Виссарионыч, отец наш и защитник. Сказал вроде того, что пусть все знают в мире, что дети за отцов не отвечают, что у нас в Советской стране все сословия равны и в любых апартаментах могут проживать любые обездоленные люди, без разбора от родни и совершенных деяний. Керенский негодяй, предатель интересов народа и враг, а сын его – тоже Александр, но уже полноправный советский гражданин, выпускник советского заведения и строитель светлого будущего. Пусть живет и радуется во славу нашей родины. Советское правительство выделяет для жизни сына предателя народа Керенского квартиру в высококультурном доме в самом сердце нашей столицы.
Я осмотрелся когда, обжился – точно, культурно: посуда всякая, шкапчики открывные, картинки, ноты кругом, пианино. Вот так, брат сосед, все случилось, веришь?»
Верил Чапайкин или же нет – было ему не важно. Главное, что извлек он из путаного рассказа детдомовского Сашка, это то, что прикасаться к сыну временного премьера когда бы то ни было с любой инициативной задумкой – смертельно опасно и невозможно. Прав он или нет – покажет время и опыт будущего соседства.
Короче, выбор для постоянной чекистской прописки определялся сам, если отмести из расчета такие опасные варианты, как деятель искусств академик Мирский или командарм бронетанковых войск, герой гражданки Василий Затевахин. Лучше всего подходили жители дома Зеленские – по всем параметрам устроили: адвокаты старого режима, без новых крепких связей, дети – ни то ни се и нигде, другими словами, вся семейка – люди обыкновенные по сегодняшней жизни, никакие. К тому ж из этих, жидомордых, как и все адвокатские. Вот они-то и пошли в чекистскую разработку Глеба Чапайкина.
Начал он с самого обычного, как учили. Навел справки и выяснил, с кем Зеленские поддерживали дружеские отношения. Оказалось – с Мирскими, да и самому можно было б догадаться, чего там. От Мирских выбор сразу пал на Зину, прислугу.
Глеб подкараулил ее в служебном авто и тормознул недалеко от песьего лужка. Разговор был недолгим и получился сразу. Зине и в голову не пришло вдумываться в причину такой доверительной беседы с чином из органов порядка. Напротив, она даже была немного польщена проявленным к ней интересом симпатичного военного офицера из ЧК, тем более что разговор пошел не про хозяев, а про соседей: про Георгия Евсеича и жену его, Кору Сулхановну.
Так, слово за слово, да при шутке и приплыл в автомобильной беседе капитан Чапайкин к иудейской Пасхе, не последней, а к той самой, когда Зеленский бокал поднес Зиночке с густым и сладким и она его выпила. Тогда то вино очень пришлось по вкусу, Зине больше такого пробовать не доводилось. Ну и по обрывкам, по кусочкам, по всплескам молодой памяти и собралась картинка преступления, имевшего место «…в ходе застолья, происходившего без предварительного сговора с присутствующими, но в связи с отмечанием ежегодного иудейского праздника типа Еврейская Пасха по адресу Москва, Трехпрудный переулок, дом 22, в квартире 8, принадлежащей гр. Мирскому С. Л., действительному члену Академии наук СССР, академику архитектуры, ленинскому орденоносцу в области культуры и искусства за текущий 1935 год. Состав вменяемого преступления гр. Зеленскому Г. Е., пенсионеру, 1870 г. р., прож. там же, кв. 10, и его супруге гр. Зеленской К. С. (в девичестве гр. Кемохлидзе К. С.), пенсионерке, 1880 г. р. имеет все признаки квалифицироваться как измена родине, усугубленная грязным оболганием исторической правды, извращением фактов, неоспоримо доказанных советской наукой (запись разговора, составленного со слов осведомителя Домовой, прилагается), шовинистическими измышлениями в адрес советского грузинского народа и попыткой оказать враждебное идеологическое воздействие на присутствовавших участников имевшего место религиозного иудейского обряда. Также в деле имеются предварительные признаки заговора, приготовляемого тем же гр. Зеленским Г. Е. Прошу санкции на производство обыска и арест… Начальник отделения Особого отдела НКВД Чапайкин Г. И.».
В самом конце приятной встречи в черном автомобиле, улыбчиво прощаясь, указал Зине, где подписать, потому что так полагается. Зина и подписала не читая. Да и чего читать-то? Надо так надо, просто так не станут бумагу марать, из вредности.
Дело Зеленских – Глеб признавал это и сам – не оказалось и не должно было стать простым изначально. Если б оно касалось лишь самого хозяина, то схема устранения неугодного была накатанной и опробованной на практике не раз. Однако необходимо было – завладеть жильем, избавившись одновременно от многочисленной родни.
Пришлось включить воображение и развести дело на вариант абсолютно расстрельного приговора с последующей уже самостоятельной доработкой по семье. Представлено было все не только как унижение и издевательство над всем грузинским народом сразу, к которому принадлежал и отец, усиленное сионистским превосходством и исторически перевернутой версией рабского порабощения. Главным и решающим фактором явились намерения террористического характера, замкнутые на прямую связь с грузинскими троцкистами.
После подобного представления дела сомнений у Глеба не оставалось – печальный и быстрый итог без права переписки. И оказался прав – делом занялась Военная коллегия Верховного Суда и сбоя не получилось: расчет был – точней невозможно.
Кору же, избежавшую-таки прямого обвинения, по поручению Глеба вызвали вниз, усадили в черный автомобиль, отъехавший так же недалеко от дома в Трехпрудном, не далее песьего лужка, и немного поговорили, объяснив перспективы в случае продолжения жизни семьи по этому адресу. Просто намекнули тихим голосом, не запугивая. Заодно ознакомили с готовящимся приказом относительно «чесеиров», то есть членов семей изменников Родины, где совершенно недвусмысленно изложено о «…рассмотрении Особым Совещанием дел на жен изменников Родины и тех детей старше 15 лет, которые являются способными к совершению антисоветских действий…». Так что смотрите, Кора Сулхановна, вам решать, пока время еще позволяет не ввести в применение соответствующий приказ наркома.
Такой приказ и на самом деле готовился, но вышел, правда, через два года, в августе тридцать седьмого. Но ни два года, ни какой-либо другой срок семья ожидать не стала. Через неделю оставшиеся Зеленские исчезли в неизвестном направлении, осев в белорусском городе Борисов, на земле дальней местечковой родни Георгия Евсеича, с которой, забыв о своем столичном происхождении и прошлом преуспевании, пришлось, таким образом, познакомиться ближе и войти в родственную зависимость. Этот последний адрес, по которому выбыла семья, также не миновал Глебова стола, как и сведения о борисовской родне. Только после этого Чапайкин снял вопрос с оперативного контроля.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?