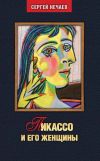Текст книги "Дом образцового содержания"

Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Словом, все состоялось. Много времени разработка вся целиком не заняла, и уже через две недели после вручения ордена Семен Львович Мирский имел над собой нового соседа в лице Глеба Ивановича Чапайкина, неженатого молодого человека, вполне милого и всегда опрятного, по профессии работника следственных органов в капитанском звании.
Роза Марковна, узнав о новом заселенце, насторожилась поначалу, но затем приняла задумчивый вид и поинтересовалась у мужа:
– Ты полагаешь, через него можно что-нибудь выяснить про Зеленских?
– Не думаю, милая, – неуверенно пробормотал Семен Львович, но добавил: – Хотя… Я уже имел честь пересечься с ним в Кремле. Или неосторожность… Попробую выяснить, что сумею.
Попробовать, памятуя о прошлом знакомстве, Мирский решил, дождавшись подходящего случая. Такой случай подвернулся в скором времени сам собой, после того как сосед первым проявил инициативу и спустился к ним для знакомства. Дверь на звонок открыла Зина. Открыла и удивилась. Еще больше поразилась, когда Чапайкин протянул навстречу руку, улыбнулся и сказал:
– Здравия желаю, я новый сосед сверху, Глеб Иваныч, будем знакомы, – он внимательно, с доброжелательным выражением лица окинул взглядом домработницу, словно впервые ее видел, и уточнил: – Так что я вам сосед теперь, а вас как зовут, уважаемая?
Начиная с этой точки, что-то щелкнуло в ней ровно один раз, сухо и жестко, как холостой пистолетный выстрел, удивление кончилось, и внутренность неприятно поджало чем-то простудным и зыбким.
– Сверху? – растерянно спросила она гостя. – Где Зеленские были?
Гость снова улыбнулся, но на этот раз без глаз, одними губами и напомнил негромко, но отчетливо:
– Я вашим именем, кажется, интересовался, уважаемая.
– Зинаида, – пробормотала вконец растерявшаяся девушка, – Чепик я, Зина. Вы ж спрашивали уже раньше, помните?
– Вот и хорошо, Зина, – привел ее в чувство Чапайкин, пропустив навылет последние слова домработницы, – так и запомним теперь, да? По-соседски. – Он сделал шаг внутрь квартиры и коротко приказал: – Проводи к хозяевам и исчезни, ясно?
Она понятливо кивнула, так как до нее вдруг окончательно дошло, что теперь она станет делать все, что прикажет ей сосед.
– Умница, Зинаида, – бодро похвалил сосед. – Пошли с хозяевами знакомиться.
Никакого служебного дела к Мирскому он не имел. Глеб и на самом деле хотел лишь засвидетельствовать соседство, раз уж пришлось столкнуться в Кремле с видным человеком и попасть, коли так вышло, в такое культурное заселение. Ну а теперь, когда в доме свой человек, своя «наседка», именуемая в картотеке «осведомитель Домовой», сам Бог велел закрепить соседство дружеской беседой. Или Аллах – кто там у них, у этих…
Таким разговор и получился, за чаем, с идеально ровно напеченными хозяйкой хоменташен, с привычными «пожалуйста» и «спасибо», с обязательной крахмальной салфеткой для гостя, с мельхиоровыми щипчиками для кускового сахара, с подогретым молоком из затейливого коротконосого молочника и с взаимной вежливой улыбкой, тем более что у обеих сторон многое совпадало по интересам в силу пересекшихся жизненных линий.
Про бывших жильцов, по чьему адресу прописался, про Зеленских, к огромному сожалению, Чапайкин ничего не знал, не прямо по этому служил ведомству, но обещал непременно выяснить, что удастся. Добавил, нахваливая Розины сласти, что, скорей всего, причина имеется. Не бывает просто так, не верит Глеб в такое, рано или поздно все признаются, сказал, и Зеленские признаются, если вина имеется. Но, по всей вероятности, оправдательного приговора ждать не приходится, иначе не передали бы их жилье очереднику. Хотя это и крайне, конечно, неприятно, когда человека знаешь и соседствуешь годами, не подозревая, что перед тобой замаскировавшийся враг.
Это уже относилось к Мирским, к их доверчивости и наивной непосвященности. Роза Марковна повела плечами, почему-то взглянула на чайник, наверное, оттого, что из всех предметов на столе он располагался к ней ближе прочего, и вышла, никак не обозначив цель. Отлично понимала, что поступок ее нелюбезный, хотя и не в Глебе этом дело, новом соседе, он и сам винтик в молотилке, но поделать ничего с собой не могла, требовалось выпустить из себя подступившее раздражение. Слишком проходным получался разговор про несчастье с Зеленскими, слишком размеренным и светским, под чаек да еврейские бублики.
Семен Львович сохранял ровное гостеприимство, прекрасно осознавая, что должна была испытывать при такой чайной процедуре жена, однако самого его пробить на чувственную реакцию, по крайней мере, по внешним признакам, никогда не оборачивалось в задачу легко выполнимую. Он любезно улыбнулся, поведя головой вслед Розе Марковне, и сделал попытку объяснить непростому гостю с верхнего этажа:
– Здоровье у нас, однако… здоровье… – призывая Глеба Иваныча присоединиться к сочувствию по этому поводу, оставив на всякий случай место для легкой солидарной подковырки: женщины, мол, ох эти жены, так вот и тянем, брат, свою мужскую долю, так и несем. – Вот женитесь сами, Глеб, – можно я так вас буду называть? – будет у вас масса поводов поисследовать женский характер, со всеми его непредсказуемостями и мудреными молекулярными составляющими. Голову сломаете, капитан, обещаю. Ну и нервишек про запас заготовьте, на всякий случай, без этого никак не обойтись. А вообще, дело того стоит – интереснейшие они существа, особенно когда любят беспамятно или отчаянно кого ненавидят…
Глебу у Мирских понравилось. На микроскопический Розин демарш он внимания не обратил – в голову не пришло: ни поводов не было для того достаточных, ни причин. Скорее даже приветствовал внутренне некоторую позволительность таких женских повадок в доме, эдакую уверенность в себе и независимый от именитого супруга самочинный нрав. Такое в людях Глеб уважал, хотя и учила его чекистская наука совсем противоположному.
Но люди эти, теперешние соседи, если сравнивать их со многими другими, с обыкновенными, приписанными к интеллигентскому сословию в силу манеры носить одежду из прошлых лет или наличия культурных должностей, не были ясны ему до конца, так, чтобы понять сразу, классифицировать по видам и отрядам, разложить по служебным полкам и четко знать, что следует про них думать наперед. С такими ему редко приходилось сталкиваться раньше, но по-любому если и попадались, то не за чаем и столом, а по службе: согласно обязанности, званию и долгу.
Одним словом, Чапайкин ушел, довольный получившимся контактом. И – странное дело – ни разу не подумал о службе за весь гостевой промежуток, отмяк за чаем у Мирских от забот и привычного круглосуточного долга, ни разу не пришлось подключить пролетарское классовое чутье, что служило Глебу Иванычу исправно и редко давало сбой, даже когда в отдельные минуты жизни и подталкивала к этому ситуация.
Семен Львович, после того как проводил гостя, не сразу поднялся наверх, к Розе, а остался на кухне – подумать. Что-то не нравилось ему в том, как быстро, почти в охотку, произошло сближение с заехавшим в дом работником карательного государственного предприятия. Да и чин, если честно, у гостя невысок, сильно недотягивает до соответствующего уровня на социальной этажерке, где расположились Мирские. И по возрастному признаку неважно получалось у мужчин обнаружить единство взглядов на жизнь. Это если вообще забыть про какую-либо схожесть интеллектуального порядка.
На кухне висел дымный остаток от папирос Чапайкина, и Мирский подумал ни с того ни с сего, что за годы брака в этой квартире он совсем отвык от табачного духа. Из домашних никто не курил, приходившие в дом люди, зная о его нетерпимости к табаку, то ли терпели, то ли выходили на лестницу – точно он не помнил, но Глебу Иванычу курить в этот вечер было позволено. Правда, с Розиной стороны такое позволение было дано – он это знал точно – в силу вынужденного гостеприимства по отношению к малознакомому человеку. А с его… А со своей стороны Семен Львович ощущал неприятное жжение в пищеводе, зная, что ни эрозии, ни гастрита там не наблюдается. В то, что в животе его поселился слабый противный страх, академик поверить себе не позволил, отвел такое соображение прочь, чтобы не успело засесть и приклеиться там, порождая дальнейшую неопределенность.
Он продолжал сидеть на кухне перед чужим папиросным окурком и прикидывал, что бы такое знакомство могло для него означать и можно ли этот визит рассматривать, если вполне хладнокровно, как просто соседский и случайный.
Так ничего не решив, он негромко крикнул Зину и, когда та явилась на хозяйский зов, Мирский, не оборачиваясь и не вставая, кивнул на пепельницу:
– Прибери это.
В этот вечер Семен Львович неожиданно, но твердо понял, что достиг некой важной для себя границы. Достиг и перешагнул черту, отделяющую одну его жизнь от другой, первый человеческий возраст от второго – последнего, худшего и неудобного – остатка жизни. И не в болячках было дело, которые особенно и не нажил. Душа его по-прежнему продолжала занимать пространство в самой середине головы, где загнездилась еще давно, до первой революции, а может, и много раньше. В начавшем увядать теле, как и прежде, порой сострадательно и отзывно ныло, не цепляя, впрочем, верхнюю, главную часть души, а касаясь грубого лишь, нижнего ее края. Но тем не менее, чувствовал академик, хрустнуло что-то внутри, надломилось и медленно по малому кусочку, по клеточке, по мелкой невидимой молекуле стало отмирать, отсыхать, отъединяться от него. Чапайкин это или не Чапайкин или другая глупая причина – не важно, а с гостем просто совпало. Быть может, такое настроение случайно, но знание новое таки обрелось.
Он, Семен Мирский, начиная с этой точки стал считать себя пожилым человеком – точно понял про себя, хотя новостью такой делиться ни с кем не собирался. Даже с Розой, которую продолжал сильно любить и которой успевал многочисленно изменять с другими неодинакового ума, души и калибра женщинами.
Такое не слишком со стороны Мирских активное, а скорее вынужденно-доброе соседство с Глебом Чапайкиным тянулось года до тридцать шестого – до той поры, пока Глеб наконец не женился, отсортировав для себя подходящий вариант, и пока в один из осенних дней того же года ночные люди в коже и с ромбами не увезли командарма Василия Затевахина в следующую по счету жизнь, незадолго до этого остановив у соседнего подъезда дома в Трехпрудном воронок цвета самой середины ночи.
С домашними командарма получилось не так жестоко, как с Зеленскими, где пострадали все без исключения члены большой семьи адвоката. Взяли одного лишь Василия Павловича, в кратчайший срок расстреляли, но сама семья репрессиям не подверглась. У командарма остались жена, Лиза Затевахина, и пятнадцатилетний сын-школьник Кирилл. Оставили и квартиру.
Роза ходила мрачнее тучи, переживая за каждый страшный случай, что был перед глазами. Иногда ей казалось, что придут и за ней – про мужа своего такое почему-то в реалиях не представлялось, не верилось, что Сема со своей наукой про жилые дома и начальственные дворцы может оказаться в зоне интереса органов. Кроме того, он орденоносец, да не просто, а ленинский, это тоже кое-чего значит, это все же не просто быть академиком, хотя и знаменитым, это кое-что поглавней, поуважительней.
Слабая надежда была и на Чапайкина, которого они с Семой, стесняясь друг друга от такого подлого разговора, не обсуждали. Но каждый знал, что другой втайне думает про слабую, если что, охранную возможность – использовать верхнего соседа не только в качестве поедателя еврейской сласти, а еще в случае, от какого никто теперь не застрахован.
Алевтина Званцева (от момента замужества – Чапайкина) оказалась на удивление милой девчурой и на редкость удачным для Глеба Иваныча приобретением. Младше Розы Аля была лет на десять, равно как и мужа, но хороша была собой не только по этой молодой причине. Знакомить Мирских с законной женой Чапайкин явился вскоре после бракосочетания. Поводов к тому было три.
Во-первых, просто по-соседски представить новую жилую единицу и заодно супругу.
Во-вторых, чтоб указать Алечке на портрет русской красавицы работы Кустодиева, что с незапамятных времен висел в квартире Мирских, и вместе с хозяевами поразиться близкой красоте персонажей, да и просто прямой похожести лица одного и другого.
И в-третьих, с тем чтобы получить интеллигентный совет относительно того, что же делать Алевтине по жизни дальше, на кого обучаться по сегодняшним культурным делам.
Тогда же Роза Марковна, отметив про себя милость и замешательство Глебовой жены, успела бросить короткий взгляд на Семена Львовича. И вовремя: тот как раз спешно возвращал глаза на место после молниеносно проведенного исследования нижней части крупных Алечкиных форм. Так же быстро Роза отвела глаза от мужа, как и тот от объекта, чтобы избежать нежелательного взаимного перекрестья взглядов. И это ей удалось, так же как и удавалось всегда, все годы их безоблачного брака, если откинуть, разумеется, случаи огорчительных подозрений.
Девушка была ни при чем, и Роза прекрасно понимала, что на месте Алевтины могла оказаться любая свежая соседка или же прочая женская случайность. В таких случаях Роза предпочитала не отдалять предполагаемую соперницу от себя, а, наоборот, максимально к себе приблизить, чтобы контроль за равновесной жизнью в семье осуществлялся сам собой, был бы при этом простым, доступным и мог предельно воспрепятствовать поддержанию очередной некрасивой тайны. И она сказала, открыто улыбнувшись гостям, оставляя, впрочем, за собой самую малость права на не полную искренность:
– Вы такая милая, Алечка, просто прелесть. А вашего Глеба мы с Семеном Львовичем очень ценим и любим, как наилучшего соседа. – Она сделала приглашающий жест рукой, чуть поклонилась и произнесла: – Милости просим, молодая семья. Сейчас нам Зина организует чай и чего-нибудь сладкого, да?
Получилось очень по-русски: и жест, и радушие, и гостеприимное слово. Сема внутренне хмыкнул и посмотрел на непрогнозируемую жену с уважительным интересом. Верила Роза в свои слова или нет – она сама не была уверена ни в чем. Но чего уж точно не присутствовало в ее поведении – так это прямого и расчетливого обмана.
Глеб же Чапайкин о нем и думать не помышлял, в смысле неискренности Мирских, несмотря на крепкую школу недоверия ко всему живому беспартийному. Оба они, Мирские, милы ему стали чрезвычайно за время соседства: и сам академик, и особенно обаятельная жена его.
После таких Розиных слов Аля тут же избавилась от натужного смущения и растаяла. Тем более что все и впрямь обнаружили сходство с кустодиевской красавицей купчихой и в шутку поздравили ее с таким любопытным фактом.
Дома у Званцевых не шутили никогда, сколько она себя помнила. Дома – служили стране. Отец Али, Степан Лукич Званцев, успешно трудился на близком к зятю начальственном фронте, где, правда, сильно превышал его по положению – к моменту дочкиного замужества занимал высочайший пост секретаря Московского городского Комитета партии. Матери не было, начиная с грудничкового возраста – 1916-го, революционного.
В эту невеселую статистику мама вписывалась по разделу «Неэпидемиологические случаи холеры, зарегистрированные в Хмельницкой губернии в период с 1913 по 1916 год». Выжила тогда Алевтина чудом из-за того, что питание получала не от материнской груди, поскольку в ту пору, оставив дочь на хуторе у тетки-повитухи, подпольщик Степан Званцев и такая же подпольная жена его, Варвара Званцева, уже пробирались в Москву с грузом листовок и прочей революционной печатной продукции для распространения ее в рабочих точках мятежной Пресни. Типография была оборудована на Украине, под Хмельницком, где было спокойней и дальше от царских сыскарей. Но в этой же самой типографии и подцепили оба страшный, хотя и случайный, вирус. Плюнул, видать, криво ангел-нехранитель в направлении этой канители, ну и отлетело в их случайную сторону воздушно-капельным путем. В общем, сплошная получилась загадка.
Но Степан, чуть не отдав концы, выдюжил, сама же Варя скончалась у него на руках, можно сказать, выдохнув в мужа напоследок смертельной заразой. Успела только сказать с последним воздухом изнутри кончающихся легких:
– Альку береги, Степа.
Про газеты, про революционный долг ничего поручить не успела, а может, не подумала уже. Приняв в руки смерть жены, Степан Лукич долго потом размышлял про Варвару: думала она про дело жизни, какому служили они, или же в последний миг простила судьбе, что не позволила та вставить ей святое заклинание о неизбежности победы пролетариата над вечным поработителем – мировым империализмом.
Свою неистраченную любовь Степан Званцев опрокинул на дочь Алевтину, когда, наконец, разобравшись с внешним и основной частью внутреннего врага и схоронив Ильича, через восемь лет на девятый добрался до спасительного хутора, уберегшего дочь от смертельного контакта с родной мамой. Все последующее воспитание строилось в основном на принципах отдания долгов героической Варваре: строгость, вера в победу коммунизма над остальным несогласным с таким постулатом человечеством, соблюдение революционной нравственности и ежедневный труд во благо социализма.
К моменту получения первого красного аттестата Алевтина подошла, вполне соответствуя раннему отцову приговору – послушной, трудолюбивой и недообразованной. Это если по внешним показателям. Что же касалось прочего, то в сдержанной снаружи, но окончательно озверевшей изнутри Альке бурлила ярая волна от неуемной отцовой заботы, от непрекращающегося родителева идиотизма, понятного даже ей, девчонке с хутора, посаженной под круглосуточный прицел расплющенной отцовской мушки. Ясно, о чем мечтала почти вызревшая для поступка Алевтина. Муж – вот где лежало спасение от ненавистного подчинения безвозвратно окаменевшему отцу. Собственная законная семья – вот оно, спасение от неволи. Случай меж тем подвернулся словно по заказу и случай – лучше не бывает.
Встреча дочери московского секретаря с моложавым военным произошла в кабинете Званцева, куда Глеб прибыл по служебной надобности, а дочь оказалась по случайности. Не заметить Алевтину Глеб не мог, как не мог и не высказать подходящих для такой редкой удачи вежливых слов. Он и высказал, пока вез ее по просьбе Степана Лукича на Тишинку, к месту проживания Званцевых. Высказал между делом похожие слова и самому Степану Лукичу, но уже при другом случае, тщательно выбрав такой момент позже, выверив и отсортировав слова прежние. А потом пошло время, которое сам он и назначил.
График охмурения вылился в стройный и логически безупречный документ, который и был утвержден капитаном Чапайкиным самолично, впервые без любого начальственного вмешательства.
«Выдержанность – наш флаг, – сказал он сам себе и уточнил для себя же: – Выдержанность, убежденность и терпение».
Правда, в разработку Глеб сознательно не включил фактор слепой удачи, так же как и на всякий случай искренность ответного чувства, – это могло бы разрушить план и методику завоевания объекта. Но с этим обошлось и без его усилий.
Ровно похожий настрой имелся и у его избранницы, готовой к брачному самопожертвованию для скорейшего выхода из-под отцовской опеки. Но и тут жертвовать не пришлось: Глебушка-то – настоящий мужчина, рослый, видный, любит сильно, слова произносит о верном чувстве и на военной должности, на ответственной. И еще отдельно хорошо, что от отца не напрямую зависим, по другому ведомству числится. А то бы и здесь в отрыв не ушла б далекий, повсюду родитель настиг бы, везде директивы б заготовил, как родине лучше да правильней служить для победы над врагом.
Все сложилось как нельзя лучше. Отец капитану не отказал, тем более что Глеб Иваныч начал с него, а не с дочери. Ей же сказал очередные слова, третьи на этот раз, смотрел прямо, не отводя глаз и не мигая, тоже как учили в академии, и точно в соответствии с разработкой закрыл имевшийся график фактом регистрации законного брака.
Как женщина Алька тоже подошла ему по всем главным показателям – все устроило в ней: и пышность охвата, и робкая неподготовленность к постельной обязанности, и быстрое овладение любовной наукой, и умелость по дому и хозяйству.
«Глядишь, и влюбишься, брат капитан, по-настоящему в свою же жену, – еще больше подталкивал он себя в направлении уже совершенной удачной операции, пребывая в добром расположении духа. – А там, глядишь, лучше и не надо, одним махом все сошлось, согласно поставленной задаче», – продолжал он удовлетворенно размышлять и плавно переходил к следующим вычислениям.
Оставался еще один важный момент, но не в смысле удачно совпавшей у супругов чепухи, а по сути вещей: что молодой его жене по жизни предпринять дальше, куда направить старания: в профессию или же в интеллигентное дело?
С этим главным образом Чапайкин к Мирским и заявился. Сам-то он всей головой желал ей другого, горячо не желая собственной участи: быть зависимым, подчиненным, вечно настороженным.
Сама Алевтина вдумываться в отдаленное будущее пока не планировала, наслаждаясь выкованной собственными руками свободой. Да и в ближайшее предстоящее – тоже. И тогда Глеб, чуя цель интуитивно, нашел, как ему показалось, верный для подруги жизни способ обрести себя в деле, но сохранив натуру без порчи, как не удалось самому ему и всем вместе с ним, кто поодаль и кто рядом.
На это он и рассчитывал, идя в гости к Мирским и ведя туда Алевтину, – на дельный совет в культурном смысле будущей жизни, в которой можно надежно устроиться, если точно позиционировать задачу и заранее определить конечную цель. Архитектура, рисунки всякие, скульптурное дело, жизнь животных, кстати, как, говорят, у чужеземного писателя Брема описывается: про макак, допустим, или жуков, а быть может, птиц или крылатых насекомых, туда же, или, например, статейки про балет, или про древний мир, где ископаемые кости и скелеты и окаменелые остатки прошлого, которые с высот сегодняшних завоеваний почти целиком исследовать можно и трактовать.
Могла быть и музыка – в гостиной у Мирских располагался огромный, зеркально отполированный черным инструмент, рояль с задранным на подставке верхом, из чего Глеб вывел умозаключение, что на нем здесь играют. И это обстоятельство также относилось к тому не до конца ясному и порой трепетному зову, что так влек к этим людям и приводил внутренность к легким почтительным вибрациям.
Но музыкальная карьера, думал Чапайкин, не для Алевтины: вряд ли слух у нее прорежется и объявится требуемый талант после хуторского воспитания и последующего вызревания при Степане Лукиче. Одно надежно понимал – в ученье нужно отдавать жену, но в такое, где ответственной составляющей места вовсе нет или же оно минимально по составу деятельности. Вуалировать вопрос особо не пришлось, хотя и пытался Глеб обрисовать проблему совершенно иными словами, маскируя по возможности цель.
Академик Мирский все схватил на лету и задумался. Потом заговорил не очень понятно, больше адресуясь к Глебу и к самому себе, а не напрямую к его молодой жене, и потому искомое в этом разговоре оборачивалось для нее слишком расплывчатым и отчетливо не бралось на ощупь. Однако она внимательно слушала, пытаясь воспринять со всей серьезностью рекомендательные выводы пожилой знаменитости.
А насоветовал Семен Львович в итоге следующее. Единственным творческим делом, где не требуется, извините, специальный навык, типа пишу, рисую, леплю, конструирую, исполняю, остается искусствознание, а если еще адресней и бесхлопотней в определенном смысле, в свете оптимально заданной нужды, то – история искусств. Это есть то самое, что человечеству давно и хорошо известно, но в то же время требует определенного развития, творческого подхода и уважительного отношения к предмету. Так, мне представляется, может вполне сложиться. Именно таким образом. Ну, а мы со своей стороны подскажем всегда, поможем, чем сумеем, если не успеем к этому времени окончательно все забыть, да, Розанька?
Одним словом, предложение интеллигентов было обмозговано обоими Чапайкиными и с чувством внутреннего согласия утверждено. Таким образом, ближайший сентябрь, 1937-й, стал в свете принятого решения начальным в деле получения Алевтиной Чапайкиной диплома историка искусств.
– Будем, Аль, подымать древнюю культуру от сегодняшнего дня, обратным хватом, – шутканул Глеб и самолично доставил в институт положенные для зачисления документы. На этом прием в учебное заведение был завершен – Алевтина стала студенткой-первокурсницей ИФЛИ – Института Философии, Литературы и Истории им. Чернышевского. С детьми супруги решили обождать до времени окончания учебы.
Другое дело, что и по-задуманному не вышло из-за войны и поэтому первенца своего, дочурку Машку, Чапайкины зачали лишь в сорок пятом, когда советская авиация уже вовсю бомбила Берлин и до победного флага над рейхстагом оставался всего один месяц.
Тогда же, в тридцать седьмом, Глеб и сам без изменений в жизни не остался – получил очередное звание майора госбезопасности. И вновь важная перемена совпала с другой, с соседской: с перемещением орденоносного Семена Мирского в следующий, высочайший по значимости государственный статус – депутата первого созыва Верховного Совета СССР, образованного в декабре того же года.
Странная эта полудружба-полусоседство Чапайкиных и Мирских, замешенная на тяге и симпатии со стороны первых и вынужденном допуске до себя на почве возможной ежечасной беды с другой стороны, тянулась вплоть до сорокового предвоенного года. Затем имела многолетний перерыв, на период вынужденного отсутствия академика Мирского, и возобновилась сама собой, но уже в усеченном варианте после того, как он вернулся после длительного отсутствия.
Со временем Роза Марковна стала ловить себя на том, что все реже возникает у нее от семейства Чапайкиных прежнее раздражительное чувство: что-то стало образовываться в их отношениях новое, несколько даже трогательное и не по взаимной нужде – нечто, что настоялось на времени, временем этим укрепилось и потому не портилось. Тем более что, как они полагали с Семой, пронесло. Время основных репрессий минуло. Всех, кого власть назначила врагами, взяли, и Мирские остались в нетронутом остатке.
Это было не то чтобы радостно осознавать, но стало им много спокойней, хотя чувство отвращения к содеянному собственной страной по отношению к своему же безропотному народу никуда не делось, просто как-то потеряло остроту.
Борька заканчивал девятый класс, считался старшеклассником, носил близорукие очки и, мечтая об архитектуре, исправно таскал в дом регулярные пятерки по всем предметам.
Семен Львович с головой сидел в работе: и в академии, и у себя в мастерской – в проекте. Тем временем близился момент, когда речь о возведении Дворца Федераций шла уже вовсю, несмотря на неспокойный для советского правительства год начавшейся оккупации Европы Гитлером.
Алевтина продолжала успешно обучаться удобной профессии, отсортированной с помощью нижних соседей. При этом наследница борцов с капиталом демонстрировала недюжинную память и быстрые мозги. Со вкусом у нее оставались проблемы: и в отношениях с изучаемым предметом, и в целом по жизни, однако конкретному существованию подобное обстоятельство особенно не мешало, не принималось в расчет и не слишком подвергалось чувственному анализу.
Язык, как ни странно, также давался ей легко, несмотря на изначальный голый нуль, и уже к четвертому курсу Алька довольно бегло изъяснялась по-французски, что вызывало у мужа скрытую гордость за такой гармоничный Алевтинин переход в интеллигентское сословие. Да и сам он тоже ни на чем не прогадал из того, как замыслил личную жизнь и выстроил индивидуальный карьерный забег.
Степан Лукич, отстав наконец от замужней дочери, видя, что та серьезничает в ученье и достойно ведет себя в браке, переступил через принцип и поспособствовал передвижке зятя на следующее место, повыше и посерьезней, в связи с присвоением звания старшего майора, хотя и до положенного срока. Отсюда, если прочее соблюдать как надо, не допуская грубых ошибок, путь вдоль карьеры мог уже бесперебойно прокладываться и сам, обозначаясь в нужных точках дорожной меткой и отсчитываясь каждым пройденным километром по накрепко врытым заранее путейным столбам.
Зина, которой к этому времени набралось уже двадцать восемь годков, положенного женского расцвета так и не обрела, оставаясь невидной, надежной и слегка пристукнутой прислугой. Она продолжала верно служить всем, кто имел на нее права, каждый свои: Мирские – в силу совместного проживания и заботы по дому, Чапайкин – по руководящей обязанности над осведомителем Домовым.
Раза три-четыре за все годы ее «агентства», пока соседство с Мирскими уверенно набирало взаимное притяжение, Глеб скорее из формального любопытства, нежели по особистской обязанности «пересекался» с Зинаидой один на один, заслушивал короткие отчеты о происходящих внутри семейства делах и выдавал дежурные наставления на будущее. Слушал вполуха, одобрительно кивал, многозначительно покачивал головой и отпускал домработницу с миром. Так шло до той поры, пока у Мирского не случилось неприятное расстройство по мужской части.
Наступивший сороковой год стал круглым для академика – Семену Львовичу стукнуло шестьдесят. В первое утро после окончания несчетных отмечаний, включая всех по кругу: академия, головной проектный институт, собственная творческая мастерская, МАРХИ, горком партии, домашние, прочие почитатели и друзья, – когда Мирский пришел в себя после этого всего, проснувшись раньше обычного на втором квартирном этаже, он ощутил чувственное неудобство в пространстве между бедрами. Там и раньше что-то зрело, медленно, но небеспокойно, сидя глубоко внутри мошонки и изредка подавая оттуда едва ощутимые сигналы слабой эпизодической боли. Но прежде академик не обращал внимания на подобную ерунду, списывая паховую случайность на собственное не по возрасту усердие в амурных делах. Это, думалось ему, как перетрудившаяся мышца, не успевающая хорошо отдохнуть перед очередной работой.
Но на самом деле все выглядело иначе. Левое яичко обволоклось странного вида опухолью, напоминающей по форме голую очищенную грушу. Он боязливо потрогал грушу пальцем и немного придавил. Дополнительной боли не последовало, и Семен Львович немного успокоился. Когда проснулась Роза, он, слегка стесняясь новообразования в паху, все же попросил жену взглянуть на голую грушу, так ему было бы спокойней. Роза глянула, так же чуть примяла пальцами, озадачилась и понеслась звонить Самуилу Клионскому, чтобы немедленно с его помощью искать подходящего специалиста.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?