Текст книги "Нюрнбергский дневник"
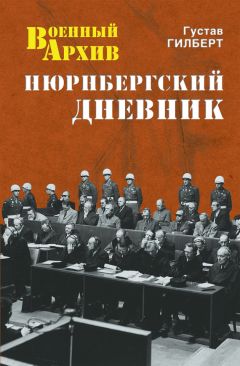
Автор книги: Густав Гилберт
Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
И все же Гесс повторил кое-какие из своих прежних ошибок, как и в первый раз дав на отдельные вопросы те же самые, ошибочные ответы, так что все его утверждения о якобы лучших результатах при повторном тестировании оказались голословными. Во время проведения теста я коснулся темы оценки Гитлером его полета в Англию, мне хотелось увидеть реакцию Гесса на утверждение Гитлера о его невменяемости.
– Не знаю, что он там сказал, да и знать не хочу! Он меня уже не интересует! – взорвался Гесс.
Потом, правда, смущенно рассмеялся по поводу своей вспышки эмоций и столь невежливого ответа. Мы продолжили тестирование. Некоторое время спустя я как бы между прочим заметил, что, дескать, до меня дошли слухи о том, что было решено пару улиц назвать его именем.
– Да, – ответил он, – прежнее название убрали – даже одну больницу назвали в честь меня.
Я поинтересовался, откуда ему это известно, и явно смущенный Гесс попытался уйти от ответа.
– Ну, я точно этого знать не могу – это лишь предположение, в конце концов, это было бы вполне логично.
Чуть погодя я напомнил ему о том, что говорил ему перед заседанием (о том, что его, возможно, освободят от дачи показаний).
– Да, после этого я подумал, что пришло время кончать с этими забавами (все предыдущее поведение Гесса есть его истерическая реакция на потерю своего «эго». Чтобы как-то справиться с негативными эмоциями от осознания, что фюрер отказался от него, как от душевнобольного, Гесс сбегает в беспамятство, однако как только речь зашла о том, чтобы сохранить лицо в окружении своих бывших коллег и единомышленников, он решает поставить точку на спектакле с амнезией).
Я спросил Гесса, что он думает по поводу разрушения немецких городов. Мне показалось, он не совсем в курсе событий, но реакция его была типично рассудочной и свидетельствовала о том, что он пытается извлечь из этих событий нечто позитивное.
– Знаете, эти старые постройки – что о них жалеть, их все равно собирались сносить, иначе они бы скоро и сами рухнули.
Камера Фриче. Фриче заявил, что несколько отошел от шока, в который поверг его увиденный фильм. В пятницу и субботу он был слишком потрясен, чтобы задумываться о вопросах своей защиты. По его собственному признанию, это были дни, когда он впервые в жизни не мог молиться. Он по-прежнему выглядел удрученным, а когда мы затронули тему фильма, сокрушенно покачал головой:
– Это превзошло мои наихудшие опасения.
Но к тестам на IQ Фриче интереса не утратил. Я сообщил ему, кто занял первые 6 или 8 мест в списке, и объяснил график роста и уменьшения коэффициента интеллекта. Мы говорили и об отпоре «фронту Геринга». Он утверждал, что даже Риббентроп уже не столь решительно поддерживает Геринга, как последнему кажется. Ширах пока что не занял четкой позиции, но Фриче не сомневался, что продемонстрированный им фильм способен привести в чувства даже самых отъявленных циников.
– Хотелось бы знать, каков будет следующий шаг Геринга – что теперь вообще можно сказать в свое оправдание? – размышлял Фриче.
– Фильм явно подпортил ему имидж для выступления в тот день, – ответил я. Но он объявил, что по-прежнему поддерживает фюрера; по-видимому, до сих пор продолжает играть свою роль мученика и насмешника. На эти слова Фриче лишь покачал головой.
Камера Кейтеля. Кейтель явно страдал от сокрушительного удара по своему авторитету после показаний Лахузена. Выглядел он весьма растерянным.
– Не знаю даже, что и сказать, – было его первой фразой, не успел я даже начать разговор на эту тему.
– Понятно, что это дело с Жиро рано или поздно должно было выплыть. Но что я могу по этому поводу сказать? Я понимаю, что офицер и джентльмен, как вы, может подумать обо мне. Это затрагивает мою честь офицера. Мне все равно, обвинят меня или нет в развязывании войны – я исполнял свой долг, повинуясь приказам. Но эти истории с убийствами – сам не понимаю, как я оказался в них втянут…
(Не отрицая оба деяния, Кейтель куда больше пекся о том, какую роль сыграл в злодейском убийстве двух представителей «почетной касты военных», нежели о своей роли в подготовке к развязыванию войны.)
Камера Франка. Франк выглядел задумчивым, но обрадовался моему приходу. Упомянул и о своем недавнем «видении», описание которого он подсунул мне в зале заседаний.
– Знаете, что было потом? – спросил он меня в каком-то мистическом экстазе. – Все слишком ужасно, чтобы описать. Дело в том, что в видении присутствовал и Гитлер. Стоя посреди зала, он грозно вопрошал: «Вы поклялись мне в вечной верности – идемте!» Разве не фантастика?
Франк столь с такой убежденностью описывал свои видения, что я был готов поверить, что он страдает галлюцинациями.
– То есть вы хотите сказать, что думали об этом в зале заседаний? – допытывался я.
– Да – и там мне и представилась эта картина, она была настолько реальной, что я решил записать свои впечатления. Подумал, что вас она заинтересует в психологическом смысле. (Тип его реакции рассеял все мои сомнения в его адекватности.)
Далее мы заговорили о том, как обвиняемые воспринимали весь этот процесс.
– Знаете, – заявил Франк, – вы просто не в курсе, что здесь происходит. Один пример. Взять хотя бы Геринга. На одной из наших последних прогулок в тюремном дворе он вдруг останавливается и, в упор глядя на меня, дожидается, что я обойду его и займу свое место слева от него, поскольку он старше меня по званию. Можете себе такое представить – здесь, в этой тюрьме? Да он для меня – пустое место.
Камера Шпеера. Шпеер был холоден и собран. Он уже свыкся с мыслью о смертной казни за все коллективные прегрешения. И, казалось, это его мало трогало, он скорее питал отвращение ко всем попыткам высокопоставленных военных во что бы то ни стало уберечь свои головы, что лишь укрепляло его уверенность в их ответственности за происшедшее.
6 декабря. Миролюбивые усилия западных держав
Утреннее заседание. М-р Гриффит-Джоунс, член британской делегации, первым заговорил с трибуны о том, как Гитлер и Риббентроп, рассуждая о мире, втайне готовились к войне. М-р Гриффит-Джоунс зачитал послание Англии и Франции, в последние часы мира 1939 года направленное Гитлеру, в котором правительства вышеупомянутых стран пытались предостеречь Гитлера от вторжения в Польшу.
Когда 23 августа 1939 года Гитлер заключал договор о ненападении с Советским Союзом, втайне поставив в известность военное командование о неизменности его намерений напасть на Польшу, Чемберлен писал ему: «Каким бы по своему характеру ни был заключенный Вами с Советским Союзом договор о ненападении, он не в силах повлиять на обязательства Великобритании по отношению к Польше, и, как уже неоднократно заявлялось правительством Его Величества, Великобритания исполнена решимости выполнить их. Считаю своим долгом заявить и о том, что если бы правительство Его Величества и в 1914 году яснее выразило бы свою позицию, это дало бы возможность предупредить глобальную катастрофу. Независимо от того, будет ли данное утверждение принято во внимание или же нет, правительство Его Величества готово позаботиться о том, чтобы и в данном случае дело не обернулось уже имевшим место трагическим недоразумением. В случае необходимости правительство Его Величества готово незамедлительно использовать все имеющиеся в его распоряжения силы и средства, и невозможно предвидеть исхода военных действий, если таковые все же будут начаты».
Ради избежания войны Чемберлен вновь призвал к переговорам по вопросу германо-польского конфликта. Ответом Гитлера стало еще более звучное бряцание оружием.
26 августа 1939 года к Гитлеру обратился и премьер-министр Франции Даладье: «…В столь трудный час я искренне верю в то, что любой человек, движимый благородными помыслами, способен понять, что речь идет о развязывании захватнической войны без каких-либо попыток мирного урегулирования разногласий между Германией и Польшей… Как глава правительства Франции, искренне заинтересованный в добрососедских взаимоотношениях французского и германского народов, с одной стороны, и связанный обязательствами дружбы и взаимной помощи с Польшей – с другой, я прямо заявляю, что готов предпринять любые шаги ради благоприятного исхода этого конфликта». Предложив еще раз все трезво взвесить, Даладье добавил: «И вам, и мне пришлось побывать в окопах последней войны. Вам, как и мне, известно, сколь глубоки в народах отвращение и осуждение горького наследия той войны… Если вновь, как и 25 лет назад, прольется кровь французского и немецкого народов, но уже в новой, еще более жестокой и опустошительной войне, то каждая нация станет сражаться с верой в свою собственную победу. Самые же пышные лавры побед этой войны достанутся варварству и разрушению».
Обеденный перерыв. Когда обвиняемых уводили на обед, Франк сдавленным голосом шепнул мне:
– Оказывается, было два письма-послания!
Во время обеда Геринг не выказывал ни малейших признаков того, что тронут усугубляющим его личную вину доказательством решимости Гитлера вопреки всем предупреждениям и уговорам все же развязать войну. Он продолжал брюзжать по поводу того, что, дескать, защите всеми средствами стараются связать руки, добавив следующее:
– Вот подождите – дойдет дело до того, что они лишат нас последнего слова.
Дёниц поинтересовался у меня, почему генерал-штабист Дэнован был исключен Джексоном из состава обвинения.
– Да, – злобно сверкнув глазами, тут же вмешался Геринг, – действительно, почему?
Я ответил, что ничего не знаю об этом. Дёниц хотел было сослаться на какую-то газету, но Геринг не дал ему договорить. Судя по всему, речь шла о заметке в «Старз энд страйпс», ссылавшейся на статью в «Арми энд нэйви джорнэл», в которой автор нападал на Джексона за то, что тот, дескать, обрушился с обвинениями на «достойную почета касту солдат», что Дёниц с Герингом сочли за основание для вывода из состава суда Дэнована.
Далее Геринг продолжил свои циничные нападки, затронув тему социальных отношений в Америке. Указав на сидевших на балконе чернокожих офицеров, он поинтересовался, имеют ли они право отдавать приказы своим подчиненным белым, и тем, можно ли им ездить в одном транспорте с белыми штатскими.
Послеобеденное заседание. М-р Гриффит-Джоунс зачитал телеграмму президента Рузвельта от 24 августа 1939 года, адресованную Гитлеру, в которой президент США вновь призывал к переговорам ради избежания войны: «Ответа на свое апрельское прошлогоднее послание я так и не получил; однако, твердо осознавая, что дело мира во всем мире является самым важным из всех существующих приоритетов человечества, я вновь обращаюсь к вам в надежде на то, что угроза войны и связанные с ней людские беды еще могут быть устранены». Президент США вновь настоятельно призвал Гитлера к переговорам. И снова не получил от него ответа на свое послание.
25 августа Рузвельт выступил еще с одним посланием: «В своем ответе на мое послание президент Польши заверил меня, что правительство Польши преисполнено решимости на основе перечисленных в моем послании принципов обсудить все спорные вопросы, возникшие между Польской республикой и Германским рейхом, на переговорах или на основах взаимных уступок. Еще остается возможность уберечь бесчисленные человеческие жизни, еще есть надежда для создания нациями и народами нынешнего мира основ для добрососедского сосуществования, при условии, что Вы лично и Имперское правительство готовы к избранию пути мирного урегулирования по примеру польского правительства. Весь мир взывает к тому, что и Германия изберет именно этот путь…»
М-р Гриффит-Джоунс обратился к суду с такими словами: «Но, господин председательствующий, Германия не пожелала пойти этим путем; не пожелала и принять во внимание предостережения Папы Римского, изложенные в следующих документах!» 31 августа Римский Папа писал: «Папа не спешит расстаться с надеждой на то, что забрезжившая вдалеке перспектива переговоров может привести с справедливому и мирному решению, о котором вот уже столько времени молит весь мир».
Но все призывы оказались тщетными. Гитлер уже принял решение – война должна начаться еще при его жизни. И пока Гитлер, Риббентроп и Геринг разыгрывали фарс псевдопереговоров, вермахт нанес удар.
Тюрьма. Вечер
Камера Йодля. Во время обеда мне бросилось в глаза, что Йодль сидит отдельно от Кейтеля, и вечером я решил навестить его. Сначала темой нашей беседы было сегодняшнее представление доказательств. Йодль внешне оставался спокоен, однако чувствовалось, что он окончательно избавился от иллюзий.
– Сознание того, что нас предали, куда горше всякого поражения. Я сражался в этой войне с верой в неизбежность этой войны, защищая свое отечество. А то, что Гитлер действительно все запланировал заранее и отклонил все мирные инициативы… Теперь легко говорить… Но знай я об этом тогда, результатом бы стал кошмарный конфликт совести и чувства долга. Может быть, и к лучшему, что я ни о чем не знал. Так я хотя бы сражался в твердой убежденности своей правоты. Есть кое-что, чего никак не совместишь с честью офицера.
– Например, злодейское убийство… – вставил я.
Помедлив пару секунд, Йодль спокойно ответил:
– Разумеется, такого в рамки офицерской чести не втиснуть. Кейтель говорил мне, что Жиро постоянно находился под контролем и что дело потом было передано в ведение РСХА – но ни слова об этом зверском убийстве! Нет, тут уже о чести офицера и речи быть не может! Но такое случается в военной истории – как вы помните, мы заявили, что царя Болгарии отравили. Но я никогда бы не мог подумать, что мы могли и нашего собственного генерала…
Не договорив, Кейтель уставился в пол.
– Я заметил, вы больше не сидите за командирским столом, – бросил я как бы ненароком.
– Так и вы заметили? – Снова Кейтель попытался не встретиться со мной взглядом.
– Только сегодня.
– Ну да, я не из тех, кто привык бить лежачего – в особенности если мы с ним в одной лодке. И Штрейхер – не исключение. (Эта беседа ликвидировала все сомнения в том, что Кейтель утратил авторитет даже в группировке военных, и даже Йодль решил втихомолку отпихнуть его от себя.)
8—9 декабря. Тюрьма. Выходные дни
Камера Геринга. Геринг осведомился о ходе событий с назначением генерала Мак-Нарни на должность командующего вооруженными силами США в Европе, в явной надежде заглянуть за кулисы, поскольку понимал, что с уходом генерала Дэнована он теряет и своего защитника (в особенности после пресловутого вырванного из контекста выражения «достойная почета каста солдат», которое «Арми энд нэйви джорнэл» связал с уходом с должности Дэнована). Я ответил, что вообще неизвестно, кто такой генерал Мак-Нарни.
Геринг: – Генерал Мак-Нарни совершил одну великую ошибку, заявив о том, что всех нацистов и их пособников следует превратить в обычных рабочих. Это только подогнало бы страну к коммунизму.
Я возразил, что мне это не совсем понятно, но коль мы уж хотим искоренить национал-социализм, сеявший разрушения в Европе и в самой Германии, то следует научить и немецкий народ жить в мире со своими соседями согласно демократическим принципам.
– Но демократия неприемлема для немецкого народа! – убежденно ответствовал Геринг. – Они просто поубивают друг друга в припадке ненависти – эти лицемеры. Я рад, что мне уже не придется оказаться там, за стенами этой тюрьмы, где каждый пытается сохранить лицо и спасти собственную башку, обвиняя теперь, когда мы потерпели такое поражение, партию. Возьмите, к примеру, этого фотографа Гофмана. Я в газете увидел его снимок с подписью, что он занимается тем, что отыскивает фотографии, содержащие доказательства против нас. И вспоминаю, сколько же он в свое время получил за снимки одного только меня. Не хочу завышать эту цифру, но это, самое малое, – 1 миллион рейхсмарок, при прибыли, скажем, 5 пфеннигов с одного фотоснимка. А теперь он ищет снимки, которые обличают меня! Нет, все это без толку – никакая демократия в Германии невозможна. Люди слишком эгоистичны и враждебны – не переносят друг друга. Разве может демократия функционировать при 75 политических партиях?
Позже Геринг заметил: – Знаете, а Гесс ненормален. Может, память к нему и вернулась, ладно, но он до сих пор одержим манией преследования. Он все время говорит о какой-то там машине, которая встроена под полом его камеры, чтобы своим гулом довести его до сумасшествия. Я сказал ему, что я слышу такой шум и у себя в камере. А он продолжает стоять на своем. Я даже всего и не припомню, что он болтает… Выходит – если кофе слишком горяч, он считает, что его хотят ошпарить, если остыл – значит, специально действуют ему на нервы. Хотя вообще-то он такого не говорил, но все равно нечто подобное приходилось от него слышать!
– Трудновато вам приходится поддерживать всю вашу группировку в постоянной боеготовности? – как бы между прочим заметил я.
– Да, приходится следить даже за тем, чтобы они друг другу глотки не перегрызли.
– Ну, что касается доказательств, то материал собран убийственный, вы не находите?
Геринг ушел от прямого ответа:
– Разумеется, не дело обвинителя подыскивать для нас оправдание. Это уж наша забота. Но есть много такого, что они сознательно игнорируют – например, то, как способен видоизмениться приказ, миновав всю исполнительную цепочку. Как уполномоченный по вопросам выполнения четырехлетнего плана я, к примеру, распорядился, чтобы оплата труда иностранных рабочих ничем не отличалась бы от оплаты труда немецких рабочих, но обязал взимать с иностранных рабочих больший налог. И министерство финансов издает соответствующую директиву, эта директива направляется потом в министерство труда… в конце концов, выходит так, что иностранные рабочие выплачивают чуть ли не три четверти своей зарплаты в виде налогов. Я и возразил, что, мол, не должны же иностранные рабочие умирать с голоду.
Я молчал, и Геринг понимал, что уходит от прямого ответа на мой вопрос. Наконец, он все же удосужился ответить мне:
– Я пока что не в состоянии все это оценить. Неужели вы полагаете, что я мог бы всерьез принять того, кто пришел бы однажды ко мне и рассказал о живых людях вместо подопытных кроликов, которых доводили до переохлаждения? Или о том, как людей заставляли рыть для себя могилы, в которые потом их бросали тысячами? Я бы сказал ему: «Отвяжись со своим бредом!»
Он разыграл этот диалог настолько убедительно, что я невольно спросил себя, не имел ли он место в действительности.
– Это просто слишком уж невероятно, чтобы поверить! Если отнять несколько нулей от тех цифр, что приводились в передачах зарубежных радиостанций, тогда, вероятно, в это еще можно было поверить. Но – Бог мой! – это же проклятье какое-то! Такого просто не могло быть. И я просто отметал все – как вражескую пропаганду.
Здесь Геринга призвал к себе его защитник.
Вечером капеллан Гереке рассказал мне, что Геринг высказал пожелание участвовать в богослужении, чтобы угодить капеллану.
– Понимаете, если я, как старший группы, появлюсь в часовне, остальные тоже последуют моему примеру.
Камера Франка. В дополнение к разговорам Франка самого с собой: «Сколько же лет нам – сколько лет Европе – сколько лет Германии… Знаете, а варварство, по-видимому, отличительная черта немца. Иначе откуда бы взялись эти приспешники Гиммлера, готовые выполнить любой его приказ? И потом, меня приводит в ужас мысль, что, возможно, Гитлер представлял собой лишь некую промежуточную ступень в развитии нового, антигуманного типа, обреченного на саморазрушение. С Европой покончено. А Гитлер заявил: “Война начнется еще при моей жизни”. Вот так – один безумец – и миллион отправлены на тот свет!.. Смерть – самая милостивая форма жизни. Я абсолютно свыкся с этой мыслью».
Затем Франк обратился к доказательствам, предъявленным в течение последних дней, свидетельствующих о том, как Чемберлен, Даладье, Рузвельт и Папа Римский убеждали Гитлера не нападать на Польшу. «Нет такого человеческого существа, которого бы эти послания оставили равнодушным. Как с точки зрения психологии вы можете объяснить такую степень бесчувственности? Можно ли вообще говорить о таком человеке, как способном на какие-то человеческие чувства? Что же это за напасть для Германии! Что за напасть для целого мира! И они еще называют его тонко чувствующим. Да любой тонко чувствующий человек никогда бы не остался равнодушным к подобным увещеваниям. Освальд Шпенглер сказал мне в 1933 году: “Все продлится 10 лет – и против Германии встанет фронт, а потом Германия, стоявшая во главе подъема западной цивилизации, станет провозвестником заката этой цивилизации”». Далее Франк утверждал, что Освальд Шпенглер, Рихард Штраус, Макс Вебер и другие немецкие интеллектуалы были его добрыми друзьями. «Воспоминания о них я возьму с собой в могилу».
В завершение нашей беседы Франк снова вернулся к теме своей личной виновности: «Всех нас погубил яд тщеславия, всех, и меня в том числе. Не передавайте мои слова остальным. Я сам скажу об этом на процессе, только по-другому».
Камера Риббентропа. Риббентроп вернулся к теме, больше всего его волновавшей – к отягчающим его вину доказательствам, приведенным в течение двух последних недель. Его беспокоили показания Лахузена, который процитировал его резкие антисемитские высказывания в поддержку проводимой Гитлером политики.
– Что касается этого еврейского вопроса, то я никогда бы не смог произнести того, что он мне приписывает – в первые годы я даже пытался сблизить евреев из других стран с Гитлером. Лично я всегда считал антисемитскую политику безумием. Разумеется, на людях я был вынужден всегда и во всем поддерживать Гитлера. Но подобные утверждения – это исключено. Разумеется, я отношусь к числу самых верных его соратников. Такое вам понять нелегко. Фюрер представлял собой невероятно притягательную личность. Осмыслить это невозможно, то есть это надо почувствовать самому. Знаете, даже теперь, семь месяцев спустя после его гибели мне так и не удается окончательно избавиться от его влияния. Не было человека, которого ему бы не удалось околдовать. Даже если самые известные представители интеллектуальной элиты собирались на дискуссии, они без всякого преувеличения на какое-то время переставали существовать, осененные этой духовной силой личности Гитлера. Даже на переговорах перед заключением Мюнхенского соглашения и Даладье, и Чемберлен не устояли перед его обаянием.
– На самом деле?
– Да, конечно, – я сам был тому свидетелем.
Риббентроп поведал мне затем, что, вероятнее всего, решения о проведении в жизнь тех или иных мер антисемитского характера принимались им под влиянием Гиммлера и Геббельса.
– Знаете, в последние два года стало невозможно даже заговорить на эту тему с Гитлером. Я рассказывал вам, как меня в 1944 году поставили в известность о том, что творилось в Майданеке и как он ответил мне, что это, дескать, вас не касается – это касается лишь его самого и Гиммлера.
– Неужели всего этого мало, чтобы доказать всему миру, что он – отпетый головорез?
Риббентроп покачал головой и невольно воздел вверх руки – жест беспомощности. После тягостной паузы он не совсем внятно пробормотал:
– Этот массовый психоз не пощадил никого из нас – так мне сказал мой адвокат.
10 декабря. Операция «Барбаросса»
Утреннее заседание. М-р Олдермен на основании документов представил доказательства, что решение о развязывании агрессивной войны против России было принято не позднее 18 декабря 1940 года и получило кодовое название «Операция “Барбаросса”». Директива Гитлера гласила: «Германский вермахт должен быть готов к тому, чтобы еще до завершения войны с Англией в результате непродолжительной кампании сокрушить Советскую Россию… Подготовку, которая потребует значительного времени – если ничего не изменится, – следует начать уже сейчас и завершить до 15 мая 1941 года… На соблюдение необходимых мер секретности разработки плана нападения следует обратить особое внимание».
Вышеупомянутая директива была подписана лично Гитлером, а также Кейтелем и Йодлем. Другой документ послужил доказательством участия в планировании этой операции в течение последующих месяцев Редера и Геринга. Даже расовый теоретик усмотрел возможность для воплощения своих тезисов в жизнь. За два месяца до нападения им были разработаны свои собственные планы, согласно которым оккупированные территории России должны были стать жизненным пространством для немцев. Именно он назначил себя имперским комиссаром для осуществления централизованного контроля над восточными областями.
Обеденный перерыв. Когда обвиняемые уже стали собираться в столовую, Розенберг, обратившись ко мне, заметил:
– Вот подождите – пройдет 20 лет, и вам придется заниматься тем же! Вам от этой проблемы не уйти!
Встав в очередь, Фриче затронул тему переселения в восточных областях:
– Волосы встают дыбом, когда сознаешь, как эти дилетанты-теоретики обращались с населением, будто пешки на шахматной доске переставляли.
Съев свой обед, Розенберг подошел ко мне, желая продолжить беседу. Но не успели мы ее начать, как Геринг, стремившийся все разговоры держать под своим контролем, проявляя при этом агрессивность, выкрикнул через всю столовую:
– Разумеется, мы стремились подорвать этот российский блок! А теперь это предстоит сделать вам!
Мы подошли к нему, и я высказал следующее:
– Может быть, именно в этом и состоит ваша основная ошибка.
Когда Фриче и кое-кто из остальных обвиняемых дали понять, что не разделяют точку зрения Геринга, он решил прибегнуть к своему излюбленному приему – замешанному на цинизме юмору:
– Ладно, следующими, с кем вам придется разбираться, будут русские. Мне будет приятно поглядеть, как вы разделаетесь с ними. Мне-то, конечно же, все равно, откуда я буду за этим наблюдать – с небес или из другого места!
И разразился своим обычным смехом. Кое-кто из его группировки из солидарности тоже вполголоса рассмеялся.
Позже Фриче сказал мне:
– Я всегда говорил, что мы лишь на 50 процентов повинны в войне с западными державами, потому что этот Версальский договор сыграл очень большую роль. Но за войну на Востоке мы несем ответственность на все 100 процентов. Эта война была бесчеловечной, беспардонной и безосновательной!
После того как все обвиняемые снова вернулись на скамью подсудимых, Келли впервые ввел в зал заседаний Кальтенбруннера. На скамью подсудимых будто холодом повеяло, как от внезапного сквозняка.
Судя по всему, Кальтенбруннер, ожидая, что его встретят как важную особу, сразу же перешел к приветствиям своих подельников. Йодль, ближе всех сидевший ко входу, все же сумел заставить себя подать ему руку. Но остальные продолжали демонстративно смотреть в сторону. Я усадил его в первом ряду между Кейтелем и Розенбергом. На лицах обоих соседей Кальтенбруннера отразилось недовольство, казалось, их занимало нечто совсем другое.
Кальтенбруннер попытался завязать разговор, но они сделали вид, что не слышат его.
Кейтель наклонился ко мне и попросил передать от него привет майору Келли – явно выбрав благовидный предлог начать со мной разговор и избежать пытки общения с Кальтенбруннером.
Франк со скрежетом зубовным уткнулся носом в какую-то книгу. Когда я оказался возле него, он, кивнув в сторону Кальтенбруннера, произнес:
– Присмотритесь к его голове. Любопытно, не правда ли?
После нескольких минут столь холодного приема Кальтенбруннер, с трудом взволнованно сглотнув, принялся тереть указательным пальцем глаз.
После того как его адвокат, покончив с обедом, вернулся, Кальтенбруннер протянул ему руку для приветствия, однако защитник демонстративно заложил руки за спину. В разговоре со своим подзащитным адвокат Кальтенбруннера держался вполне дружелюбно, но вот руки подать ему не посмел.
Геринг с явным неодобрением взирал на происходящее – внимание всех фоторепортеров и корреспондентов было приковано к особе Кальтенбруннера. По-видимому, теперь их искренний интерес переместился с некритичного юмора Геринга к неприятнейшей теме изуверств, творимых в концентрационных лагерях.
– Почему его понадобилось притащить сюда именно сегодня? – мрачно осведомился Геринг.
– Сегодня он впервые хорошо чувствует себя после приступа, – пояснил я.
– Что говорят врачи? Он здоров?
– Вполне здоров для участия в процессе.
– Но если уж он здоров, то я тогда – атлант, никак не меньше. Не вижу причин для сегодняшней доставки его сюда.
Геринг продолжал наблюдение за репортерами, фотографировавшими новичка, обводя взглядом зал заседаний, чтобы оценить реакцию присутствовавших.
Послеобеденное заседание. М-р Олдермен продолжал изложение того, как Риббентроп выступил с предложением к партнерам по «оси» присоединиться к Германии в деле воплощения в жизнь идей «нового порядка» и объявить союзным державам войну. Результатом стало вероломное нападение Италии на Францию и Японии на США. Риббентроп бомбардировал Японию требованиями немедленно вступить в войну с Советским Союзом, но та все же не рискнула пойти на такой безрассудный шаг.
11 декабря. Национал-социалистические документальные фильмы
Утреннее заседание. Демонстрация нацистских фильмов на тему их прихода к власти вызвала у обвиняемых волну положительных ностальгических воспоминаний о былых днях и событиях – речах Гитлера, Геббельса, Гесса, Розенберга; на экране мелькали кадры, свидетельствовавшие о росте мощи вермахта, о ликвидации безработицы, военных парадов, звучали вопли «Зиг хайль!» и так далее.
Кадры нацистской хроники, изображавшие возрождение германской мощи после прихода Гитлера к власти, выжали слезу умиления даже у Шахта. После он задал мне вопрос:
– Что дурного можно увидеть в ликвидации безработицы?
Фриче признался:
– У меня хотя бы есть чувство удовлетворенности от осознания того, что в один прекрасный день родилась Германия, во славу которой можно было и вкалывать – до 1938 года.
Франка очень тронули кадры, но они же вызвали и муки. В перерыве он попытался что-то шепнуть мне, так, чтобы это не услышали остальные.
– Смех Божий? – переспросил я.
– Да, да. И этого человека немецкий народ возвысил до божества!
Далее на экране мелькали кадры, показывавшие, как Гитлер сооружал и запускал в действие военную машину. Когда в кадрах впервые замелькали самолеты, Дёниц хихикнул:
– Ого! Летчики!
Геринг, наклонившись вперед, шепнул ему:
– Тише! Помолчите!
Чуть позже, когда стали показывать и военно-морские парады, Дёниц произнес:
– Все видят, что они – лучшие из лучших!
– Неплохо, неплохо, – расщедрился на признание Геринг.
Затем пошли кадры заседания рейхстага, на котором депутаты разразились смехом после зачтения обращения Рузвельта, в котором президент США призывал к миру. Геринг рассмеялся и в этот раз – но уже сидя на скамье подсудимых.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































