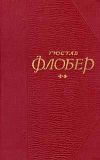Текст книги "Бувар и Пекюше"
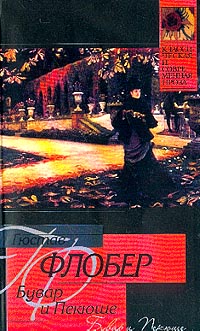
Автор книги: Гюстав Флобер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Надо было, однако, возвратить сочинения де Местра, и недели через две они отправились в замок, хотя и предполагали, что их не примут.
Их приняли.
В будуаре собралась вся семья, включая Гюреля и, против обыкновения, Фуро.
Наказание не исправило Виктора. Он отказывался учить Катехизис, а Викторина сыпала непристойными выражениями. Короче говоря, решили отдать мальчика в исправительный приют, а девочку поместить в монастырь.
Фуро взял на себя хлопоты; он уже уходил, когда графиня окликнула его.
Поджидали аббата Жефруа, чтобы сообща установить дату венчания; заключение гражданского брака в мэрии должно было произойти гораздо ранее церковного в знак того, что первому не придают ни малейшего значения.
Фуро попытался защитить гражданский брак. Граф и Гюрель нападали на него. Что значит гражданская формальность в сравнении с таинством! Барон не считал бы себя состоящим в браке, если бы все ограничилось церемонией перед трехцветной лентой мэра.
– Браво! – воскликнул Жефруа, входя. – Ведь брак установлен самим Христом…
Пекюше прервал его:
– В каком Евангелии? Во времена апостолов браку придавали так мало значения, что Тертуллиан сравнивает его с простым сожительством.
– Оставьте!
– Право же! Брак вовсе не таинство. Таинство должно подтверждаться каким-нибудь знамением. Покажите мне знамение, подтверждающее брак.
Тщетно кюре утверждал, что брак символизирует соединение Бога с церковью.
– Вы не понимаете христианства, а закон…
– На законе сказалось влияние христианства, иначе он допускал бы многобрачие, – сказал граф.
Кто-то вставил:
– А что в этом было бы дурного?
Это сказал Бувар, полускрытый за шторой.
– Можно иметь несколько жен, как, например, у патриархов, у мормонов, у мусульман, и тем не менее быть честным человеком!
– Нет, нет! – вскричал священник. – Честность заключается в том, чтобы исполнять свой долг. Наш долг – поклоняться Богу. Следовательно, нехристианин не может быть честным.
– Все одинаковы, – возразил Бувар.
Граф, приняв эти слова за выпад против религии, стал восхвалять ее. Она дала свободу рабам.
Бувар привел несколько цитат в доказательство противного.
– Апостол Павел советует рабам подчиняться хозяевам как Христу, святой Амвросий называет рабство даром Божьим.
– Книга Левит, Исход и соборы санкционировали его. Боссюэ считает, что рабство – одно из прав человека. Монсеньор Бувье одобряет его.
Граф возразил, что как-никак христианство содействовало цивилизации.
– Оно содействовало и лености, потому что объявило бедность добродетелью.
– А как же быть с евангельской моралью?
– Сомнительная мораль! Работники последнего часа получают столько же, сколько работники первого. Дают тому, кто уже имеет, и отнимают у неимущего. Что же касается предписания принимать пощечины, не отвечая на них, и давать себя обворовывать, то это только поощряет дерзких, подлых, вороватых.
Страсти разгорелись, когда Пекюше заявил, что, по его мнению, уж лучше буддизм.
Священник расхохотался:
– Буддизм! Ого!
Госпожа де Ноар всплеснула руками:
– Буддизм!
– Буддизм? То есть как буддизм? – повторял граф.
– А вы с ним знакомы? – спросил Пекюше аббата Жефруа, но тот замялся.
– Так знайте же, что буддизм глубже и раньше христианства постиг тщету всего земного. Обряды его величественны, последователи его многочисленнее, чем все христиане вместе взятые, а что касается воплощений, то у Вишну их не одно, а целых девять!
– Все это враки путешественников, – возмутилась г-жа де Ноар.
– Поддержанные франкмасонами, – поддакнул кюре.
Тут все заговорили сразу:
– Ну что ж, продолжайте в том же духе!
– Прекрасно!
– А по-моему, так просто нелепо!
– Быть того не может.
Пекюше довели до того, что он от отчаяния заявил, что перейдет в буддизм.
– Вы оскорбляете христианок, – сказал барон.
Госпожа де Ноар без сил опустилась в кресло. Графиня и Иоланда молчали. Граф таращил глаза. Гюрель дожидался распоряжений. Аббат, чтобы успокоиться, стал читать молитвенник.
Вид его подействовал на де Фавержа умиротворяюще, и он сказал, глядя на двух чудаков:
– Прежде чем хулить Евангелие, особенно когда собственная жизнь небезупречна, надо самим исправиться…
– Исправиться?
– Небезупречна?
– Довольно, господа! Вы должны меня понять!
Граф обратился к Фуро:
– Сорель все знает, ступайте к нему.
Бувар и Пекюше удалились, не простившись.
Дойдя до конца аллеи, все трое дали волю своему негодованию.
– Со мной обращаются как с лакеем, – ворчал Фуро.
Друзья сочувствовали ему, и он, несмотря на воспоминание о геморроидальных шишках, почувствовал к ним нечто вроде расположения.
В поле производились дорожные работы. Человек, руководивший рабочими, подошел к ним: то был Горжю. Разговорились. Он наблюдал за мощением дороги, прокладка которой была одобрена в 1848 году; своей должностью он был обязан де Маюро, инженеру по образованию…
– Тому самому, который женится на мадемуазель де Фаверж! Вы, вероятно, там и были?
– В последний раз, – резко ответил Пекюше.
Горжю прикинулся простачком.
– Поссорились? Да что вы? Неужто?
Если бы они видели выражение его лица, когда пошли дальше, то поняли бы, что он догадывается о причине.
Немного погодя они остановились перед изгородью, за которой виднелись собачьи конуры и домик, крытый красной черепицей.
На пороге стояла Викторина. Поднялся лай. Из домика вышла жена сторожа.
Догадываясь, зачем пришел мэр, она кликнула Виктора.
Все было заранее подготовлено, пожитки детей увязаны в два узла, заколотых булавками.
– Счастливого пути! – сказала она. – Какое счастье избавиться от этой дряни!
А разве они виноваты, что родились от каторжника? Вид у них был самый смирный, и они даже не спрашивали, куда их ведут.
Бувар и Пекюше наблюдали за ними.
Викторина на ходу напевала песенку, слов которой нельзя было разобрать; на руке у нее висел узелок с вещами; она была похожа на модистку, несущую готовый заказ. Порою она оборачивалась, и Пекюше, видя ее белокурые завитки и милую фигурку, сожалел о том, что у него нет такой дочки. Если бы вырастить ее в других условиях, она со временем стала бы очаровательной. Какое счастье следить за тем, как она растет, изо дня в день слышать ее щебетанье, целовать ее, когда вздумается! Чувство умиления, идущее из сердца, увлажнило его взор и стеснило грудь.
Виктор по-солдатски закинул себе узелок на спину. Он посвистывал, бросал камушки в ворон, скакавших по бороздам, отбегал в сторону, чтобы срезать себе тросточку. Фуро подозвал его, а Бувар взял его за руку – ему приятно было чувствовать в своей руке крупные, крепкие мальчишеские пальцы. Бедному проказнику хотелось только одного – свободно развиваться, как развивается цветок на вольном воздухе. А в четырех стенах, от уроков, наказаний и прочих глупостей, он просто зачахнет. Бувара охватили возмущение, жалость, негодование на судьбу – один из тех припадков ярости, когда хочется ниспровергнуть весь государственный строй.
– Скачи, резвись, – сказал он. – Наслаждайся последним днем свободы.
Мальчишка побежал.
Брату и сестре предстояло переночевать на постоялом дворе, а на рассвете фалезский дилижанс возьмет Виктора, чтобы доставить его в Бобурский исправительный приют. За Викториной придет монахиня из сиротского приюта в Гран-Кане.
Сказав об этом, Фуро погрузился в свои мысли. Но Бувар спросил, во что может обходиться содержание двух таких малышей.
– Ну… пожалуй, франков в триста. А граф дал мне на первое время двадцать пять. Вот скряга!
Фуро никак не мог успокоиться, что в замке столь неуважительно относятся к званию мэра; он молча ускорил шаг.
Бувар прошептал:
– Мне их жаль. Я охотно взял бы их на свое попечение.
– Я тоже, – сказал Пекюше.
Обоим пришла в голову одна и та же мысль.
– Вероятно, тут встретятся какие-нибудь препятствия?
– Никаких, – ответил Фуро.
К тому же он в качестве мэра имеет право доверить сирот, кому найдет нужным. После долгого колебания он сказал:
– Что ж, берите их! Назло графу!
Бувар и Пекюше повели детей к себе.
Дома они застали Марселя на коленях перед мадонной; тот горячо молился. Он запрокинул голову, полузакрыл глаза, оттопырил заячью губу – он был похож на факира в экстазе.
– Вот скотина! – сказал Бувар.
– Чем же? Быть может, он видит такие вещи, что ты ему позавидовал бы, если бы сам мог их видеть. Ведь существуют два совершенно обособленных друг от друга мира. Предмет, о котором размышляешь, не так ценен, как сам процесс мышления. Не все ли равно, во что верить? Главное – верить.
Таковы были возражения Пекюше на замечание Бувара.
X
Они раздобыли труды по педагогике и остановили свой выбор на одной из систем. Надлежало отринуть все метафизические идеи и, придерживаясь экспериментальной методы, следовать за естественным развитием. Можно было не торопиться, так как воспитанникам сначала надо было позабыть то, что они знали.
Хотя дети и отличались выдержкой, Пекюше, как спартанцу, хотелось еще более закалить их, приучить к голоду, жажде, ненастью и к дырявой обуви, чтобы предотвратить простуду. Бувар возражал против этого.
Темная каморка в конце коридора стала их спальней. В ней стояли две раскладные кровати, две кушетки, кувшин с водой; над головой у них было слуховое окошко, по оштукатуренным стенам бегали пауки.
Они часто вспоминали свою старую лачугу, где происходили нескончаемые перепалки.
Как-то ночью отец вернулся домой с окровавленными руками. Немного погодя в лачугу явились жандармы. Затем они ночевали где-то в лесу. Мужчины, занимавшиеся изготовлением сабо, обнимали их мать. Когда она умерла, их увезли на тележке. Им приходилось терпеть побои, они совсем пропадали. Потом в их памяти возникал полевой сторож, г-жа де Ноар, Сорель и вдруг – теперешний дом, куда они попали каким-то чудом и где были счастливы. Зато они огорчились, когда, восемь месяцев спустя, к их удивлению, возобновились уроки. Бувар взял на свое попечение девочку, Пекюше – мальчишку.
Виктор был знаком с буквами, но ему никак не удавалось составить из них слоги. Он путался, вдруг умолкал, и его можно было принять за дурачка. Викторина задавала множество вопросов. Отчего «цыпленок» и «цикорий», «счет» и «щетка» произносятся одинаково, а пишутся по-разному? То надо соединять две гласные, то разъединять. Это нечестно. Она возмущалась.
Учителя занимались с детьми в одно и то же время, каждый у себя, а перегородка между комнатами была тонкая, и четыре голоса – высокий, басистый и два пронзительных – сливались в ужасающий гам. Чтобы положить этому конец и вызвать ребятишек на соревнование, было решено, что их надо учить вместе, в музее; приступили к письму.
Ученики, сидя на противоположных концах стола, списывали примеры; однако посадка у них была плохая. Приходилось их выпрямлять, но тогда бумага у них разлеталась, перья ломались, чернила капали на стол. Иной раз Викторина, смирно просидев минуты три, начинала марать бумагу какими-то каракулями, потом от отчаяния уставлялась в потолок. Виктор вскоре засыпал, развалившись посреди стола.
Быть может, они захворали? Чрезмерное напряжение вредно для юных мозгов.
– Отдохнем, – говорил Бувар.
Нет ничего глупее, как заставлять детей заучивать что-либо наизусть; однако, если не упражнять память, она совсем атрофируется, поэтому они стали вдалбливать им ранние басни Лафонтена. Ребятишки одобряли муравья-скопидома, волка, сожравшего ягненка, льва, забирающего себе всю добычу.
Осмелев, они принялись опустошать сад. Чем бы их развлечь?
Жан Жак в «Эмиле» советует воспитателю заставлять ученика самостоятельно мастерить игрушки, незаметно помогая ему при этом. Но Бувару никак не удавалось соорудить обруч, Пекюше – сшить мячик. Они перешли на поучительные игры, стали вырезать из бумаги фигуры. Пекюше демонстрировал им свой микроскоп. Когда горела свеча, Бувар показывал на стене очертания зайчика или свиньи, образованные тенью от его пальцев. Зрителям все это скоро надоело.
В книгах расхваливают в качестве развлечения завтрак на лоне природы, прогулку в лодке; но разве это осуществимо? А Фенелон рекомендует время от времени «невинную беседу». Им не удалось придумать ни одной.
Они вновь обратились к урокам; кубики, полоски, разрезная азбука – детям ничто не нравилось; тогда они прибегли к хитрости.
Виктор был склонен к чревоугодию – ему показывали название какого-нибудь кушанья; вскоре он стал бегло читать поваренную книгу. Викторина отличалась кокетством; ей обещали новое платье, если она сама напишет портнихе. Не прошло и трех недель, как она совершила это чудо. Это значило поощрять их пороки, это метода вредная, однако она принесла плоды.
Теперь они умели читать и писать – чему же учить их еще? Новая забота!
Девушкам, в отличие от юношей, ученость ни к чему. И все же воспитывают их в большинстве случаев как невежд, их умственный кругозор ограничивается всяким мистическим вздором.
Надо ли обучать их иностранным языкам? «Испанский и итальянский, – утверждает Камбрейский Лебедь, – только способствуют чтению всевозможных зловредных сочинений». Такой довод показался им глупым. Но все же Викторине эти языки не нужны, зато английский находит большее применение. Пекюше стал изучать английскую грамматику; он с серьезным видом показывал, как произносить th.
– Смотри, вот так: the, the, the!
Но прежде чем обучать ребенка, следует выяснить, к чему он способен. Это можно узнать при посредстве френологии. Они погрузились в эту науку, потом пожелали проверить ее на себе. У Бувара оказались шишки доброжелательства, воображения, почтительности и любовного пыла, попросту говоря, эротизма.
Височные кости Пекюше говорили о философичности и энтузиазме в сочетании с долей хитрости.
И действительно, характеры у них были именно таковы. Еще более дивились они тому, что и у того и у другого обнаружилась склонность к дружбе; в восторге от этого открытия они растроганно обнялись.
Затем они приступили к исследованию Марселя. Величайшим его пороком, небезызвестным им, была прожорливость. И все же они ужаснулись, когда обнаружили у него над ушною раковиной, на уровне глаза, шишку обжорства. С годами их слуга, чего доброго, уподобится той женщине из Сальпетриер, которая ежедневно съедает восемь фунтов хлеба и поглощает то четырнадцать тарелок похлебки, то шестьдесят чашек кофе. У них на это не хватит средств.
Головы обоих воспитанников не представляли ничего любопытного; друзьям, вероятно, еще недоставало исследовательского опыта. Пополнить свои знания им удалось весьма простым способом.
В базарные дни они отправлялись на площадь, протискивались в гущу крестьян, среди мешков с овсом, корзин с сыром, телят, лошадей, – толкотня ничуть не смущала их; встретив какого-нибудь мальчика, сопровождавшего отца, они просили позволения ощупать его череп с научной целью.
Большинство даже не удостаивало их ответом; другие, решив, что речь идет о какой-нибудь мази от лишаев, обижались и отказывали им; лишь немногие, ко всему равнодушные, соглашались пойти с ними на церковную паперть, где никто не помешает исследованию.
Как-то утром, когда Бувар и Пекюше только что принялись за дело, неожиданно появился священник и, увидев, чем они занимаются, обрушился на френологию, утверждая, что она ведет к безбожию и фатализму.
Воры, убийцы, прелюбодеи могут теперь в свое оправдание ссылаться на свои шишки.
Бувар возразил, что органы только предрасполагают к тому или иному действию, но отнюдь не принуждают к нему. Если человек носит в себе зерно преступности, это еще не значит, что он непременно станет преступником.
– Впрочем, я восторгаюсь людьми, мыслящими ортодоксально: они отстаивают врожденные идеи и отвергают склонности. Какое противоречие!
Но френология, по словам Жефруа, отрицает всемогущество Божье, и заниматься ею под сенью святого храма, возле самого алтаря, непристойно.
– Уходите отсюда! Уходите, уходите!
Они устроились у парикмахера Гано. Чтобы предотвратить колебания, они предлагали родителям ребенка побриться или завиться на их счет.
Как-то в послеобеденное время в парикмахерскую зашел врач, – ему надо было постричься. Садясь в кресло, он в зеркале увидел, как наши френологи ощупывают шишки на головке ребенка.
– Вы занимаетесь такой ерундой? – спросил он.
– Почему ерундой?
Вокорбей презрительно улыбнулся; потом объявил, что в мозгу никаких шишек нет.
Так, например, один человек легко переваривает пищу, которую не переваривает другой. Следует ли предположить в желудке столько желудков, сколько имеется различных вкусов? Между тем за одной работой отдыхаешь от другой, умственное усилие не напрягает одновременно всех способностей, у каждой из них свое определенное место.
– Анатомы таких мест не обнаружили, – заметил Вокорбей.
– Значит, плохо вскрывали, – возразил Пекюше.
– Как так?
– Да очень просто. Они режут слои, не считаясь с соединением частей. (Эту фразу он вычитал из какой-то книги.)
– Что за вздор! – воскликнул доктор. – Череп не лепится по форме мозга, внешнее – по внутреннему. Галль ошибается. Попробуйте-ка доказать его теорию, взяв наугад трех человек из числа присутствующих.
Первою оказалась крестьянка с большими голубыми глазами.
Пекюше сказал:
– У нее превосходная память.
Муж ее подтвердил этот вывод и сам предложил подвергнуться обследованию.
– Ну, почтенный, ладить с вами нелегко.
Присутствующие подтвердили, что другого такого упрямца не сыскать.
Третьим подопытным стал мальчишка, который находился здесь с бабушкой.
Пекюше заявил, что он, несомненно, обожает музыку.
– Совершенно верно, – подтвердила старушка, – покажи-ка господам, как ты умеешь играть.
Мальчик вынул из кармана сопелку и принялся дудеть.
Тут раздался громкий стук – это доктор, уходя, изо всех сил хлопнул дверью.
Теперь друзья уже больше не сомневались в самих себе и, призвав питомцев, возобновили исследования их черепов.
У Викторины череп был в общем гладкий – знак уравновешенности, зато череп ее брата производил прискорбное впечатление: значительные выпуклости в сосцевидных углах теменных костей указывали на склонность к разрушению, убийству, а выпуклость пониже говорила об алчности, вороватости. Бувар и Пекюше сокрушались по этому поводу целую неделю.
Нужно вникать в точный смысл каждого слова; то, что принято называть драчливостью, подразумевает презрение к смерти. Если человек может совершать убийства, то может также и спасать людей. Стяжательство заключает в себе как ловкость мошенника, так и рвение коммерсанта. Непочтительность идет рука об руку с критическим духом, хитрость – с осмотрительностью. Всякий инстинкт раздваивается, образуя начало хорошее и дурное. Можно свести на нет дурное, развивая хорошее, – при такой методе отчаянный озорник станет не разбойником, а полководцем. У труса останется только осторожность, у скупца – бережливость, у расточителя – щедрость.
Они увлеклись прекрасной мечтой: если воспитание их питомцев пойдет хорошо, они со временем учредят заведение, цель которого будет развивать ум, укрощать своенравие, облагораживать сердце. Они уже поговаривали об открытии подписки и постройке здания.
Триумф у Гано прославил их, и теперь к ним приходили, чтобы посоветоваться и узнать, можно ли рассчитывать на удачу.
Через их руки прошли самые разнообразные черепа: круглые, грушевидные, похожие на сахарные головы, квадратные, вытянутые, сжатые, приплюснутые, с бычьими челюстями, с птичьими носами, со свиными глазками; но такое множество народа мешало парикмахеру работать. Люди задевали локтями стеклянные шкафы с парфюмерией, разбрасывали гребни, разбили рукомойник, и цирюльник выгнал вон всех любителей френологии, попросив Бувара и Пекюше последовать за ними; ультиматум этот они приняли безропотно, ибо черепоскопия уже успела их утомить.
На другой день, проходя мимо палисадника капитана, они заметили самого капитана, беседовавшего с Жирбалем, Кулоном и стражником; тут же был и младший сын стражника Зефирен, одетый в певческий стихарь. Стихарь был совсем новенький; мальчик разгуливал в нем, прежде чем сдать в ризницу, и все поздравляли его с обновкой.
Желая узнать мнение ученых господ о сыне, Плакван попросил их ощупать подростка.
Кожа у него на лбу казалась натянутой; нос был тонкий, хрящеватый на кончике и чуть вкось нависал над тонкими губами; подбородок был острый, взгляд бегающий, правое плечо выше левого.
– Сними скуфейку, – приказал отец.
Бувар запустил пальцы в светлые, как лен, волосы мальчика, потом то же проделал Пекюше, и они шепотом поделились результатами обследования.
– Явная биофилия! И апробативность. Совестливость отсутствует. К деторождению неспособен.
– Ну как? – спросил сторож.
Пекюше открыл табакерку и взял понюшку.
– Признаться, ничего хорошего, – ответил Бувар.
Плакван покраснел от обиды:
– Как бы то ни было, он будет делать то, что я велю.
– Ну-ну!
– Да ведь я же ему отец, черт побери! Значит, имею полное право…
– До некоторой степени, – возразил Пекюше.
Жирбаль вставил:
– Родительская власть неоспорима.
– А если отец дурак?
– Все равно, – возразил капитан, – это не умаляет его власти.
– В интересах детей, – добавил Кулон.
По мнению Бувара и Пекюше, дети ничем не обязаны тем, кто произвел их на свет, родители же, наоборот, обязаны их кормить, обучать, оберегать и т. д.
Шавиньольцы возмутились, услышав столь безнравственные рассуждения. Плакван был оскорблен, словно ему нанесли личную обиду.
– Посмотрим еще, что выйдет из тех, кого вы подобрали на большой дороге. Эти далеко пойдут. Берегитесь!
– Чего нам беречься? – язвительно спросил Пекюше.
– Да я вас не боюсь.
– И я вас не боюсь.
Кулон вмешался в спор, угомонил сторожа и спровадил его.
Несколько минут помолчали. Потом речь зашла о капитановых георгинах, и тут капитан не отпустил собеседников до тех пор, пока не показал им все цветы.
Бувар и Пекюше отправились домой и шагах в ста перед собою увидели Плаквана; Зефирен шел рядом с отцом и, подняв локоть, защищался от оплеух.
То, что они сейчас слышали, выражало в несколько измененном виде образ мыслей графа, но пример их питомцев докажет, насколько свобода сильнее принуждения. Впрочем, некоторая дисциплина необходима.
Пекюше повесил в музее грифельную доску для всякого рода чертежей и упражнений; они решили завести журнал; записи о поведении детей, занесенные в него вечером, будут на другой день читаться вслух. Все будет делаться по звону колокольчика. По Дюпон де Немуру, сначала все будет основываться на отеческих распоряжениях, потом на военных приказах, обращение на ты будет запрещено.
Бувар попробовал обучать Викторину арифметике. Иногда оба запутывались в счете, оба потешались над этим, потом девочка целовала его в шею, в то место, где не растет борода, и просила отпустить ее; он не возражал.
Сколько бы ни звонил Пекюше в колокольчик в часы уроков, сколько бы ни отдавал в окно приказов на военный лад, мальчишка не появлялся. Носки у него всегда болтались на лодыжках; даже за столом он ковырял пальцем в носу и не сдерживал газов. Брусе не позволяет наказывать за это, ибо «надо считаться с требованиями охранительного инстинкта».
И он и Викторина изъяснялись на каком-то ужасном языке; они говорили: «ляжь» вместо «ляг», «откудова» вместо «откуда». Но так как детям трудно понять грамматику и они знакомятся с нею, главным образом слыша правильные выражения, то оба воспитателя строго следили за своей речью и иной раз даже уставали от этого.
Насчет географии мнения их расходились. Бувар считал, что логичнее начинать с родных мест, а Пекюше – с общего знакомства с земным шаром.
Вооружившись лейкой и песком, он задумал наглядно представить, что такое река, остров, залив, и даже пожертвовал три грядки под три материка, но страны света никак не умещались в голове Виктора.
Однажды вечером, в январе, Пекюше повел его в открытое поле. По пути он стал расхваливать астрономию: моряки руководствуются ею в плавании, без нее Христофор Колумб не сделал бы своего открытия. Мы многим обязаны Копернику, Галилею и Ньютону.
Стоял крепкий мороз, иссиня-черное небо было усеяно бесчисленными мерцающими огоньками. Пекюше поднял глаза вверх.
– Что такое? Куда же делась Большая Медведица?
Когда он видел ее последний раз, она была повернута в другую сторону; наконец он отыскал ее, потом показал мальчику Полярную звезду, – она всегда на севере, по ней мы ориентируемся.
На другой день он поставил посреди гостиной кресло и стал вальсировать вокруг него.
– Представь себе, что это кресло – солнце, а я – земля; она ведь тоже вертится.
Виктор глядел на него в полном недоумении.
Потом Пекюше взял апельсин, воткнул в него прутик, долженствовавший изображать полюсы, затем углем провел ободок, чтобы обозначить экватор. Наконец он стал водить апельсином вокруг свечи, обращая внимание ученика на то, что точки на поверхности апельсина освещаются не одновременно, от чего зависит разница в климате, а чтобы объяснить смену времен года, он наклонил апельсин, ибо земля держится не прямо, и этим вызываются явления равноденствия и солнцестояния.
Виктор ничего не понял. Он вообразил, будто Земля вертится на длинной булавке и что экватор – это кольцо, сжимающее ее по окружности.
Пекюше показал ему в географическом атласе карту Европы, но мальчик был настолько ослеплен множеством линий и красок, что не мог разобрать никаких надписей. Котловины и горы не совпадали с государствами, политический строй затемнял строй физический. Все это, пожалуй, разъяснится, когда он приступит к изучению истории.
Лучше было бы начать со своей деревни, потом перейти к округу, к департаменту, к провинции. Но поскольку о Шавиньоле ничего не говорится в летописях, приходилось довольствоваться всеобщей историей. А там такое обилие материала, что следует выбирать только самые прекрасные страницы.
Из истории Греции: «Мы будем сражаться в тени»; завистник, осуждающий Аристида на изгнание, и доверие Александра к своему лекарю. Из истории Рима: капитолийские гуси, треножник Сцеволы, бочонок Регула. Для Америки очень существенно ложе из роз Гватимоцина. Что касается Франции, то тут имеется суасонский кубок, дуб святого Людовика, казнь Жанны д’Арк, куриная похлебка Беарнца – глаза разбегаются, – не считая «Ко мне, овернцы» и кораблекрушения «Мстителя».
Виктор перепутывал героев, века и страны. Пекюше не утруждал его какими-либо тонкими соображениями, но само множество фактов – истинный лабиринт.
Он ограничился перечнем французских королей. Виктор забывал имена, ибо не знал хронологии. Но раз мнемоника Дюмушеля не пригодилась им самим, могла ли она помочь мальчишке? Вывод: историю можно изучить только посредством усиленного чтения. Так они и поступят.
Умение рисовать полезно при многих обстоятельствах; Пекюше отважился сам преподавать рисование с натуры, приступив прямо к пейзажу.
Книготорговец из Байе выслал ему бумагу, резинок, две папки, карандаши и фиксатив для их произведений, которые будут вставлены в рамки со стеклами и явятся украшением музея.
Встав спозаранку, они отправлялись в путь с ломтем хлеба в кармане; немало времени уходило у них на поиски подходящего ландшафта. Пекюше хотелось одновременно изобразить и то, что лежало у него под ногами, и далекий горизонт, и облака, но неизменно получалось так, что даль подавляла ближний план; река низвергалась прямо с небес, пастух шествовал над стадом, спящая собака, казалось, убегала. В отношении самого себя Пекюше вскоре отказался от этой затеи, памятуя следующее, прочтенное где-то определение: «Рисунок состоит из трех элементов: линии, фактуры, растушевки и, наконец, завершающего штриха. Но последний доступен только мастеру». Он выправлял линию на рисунке ученика, обрабатывал фактуру, корпел над растушевкой и ждал, когда настанет время нанести завершающий штрих. Но ему так и не удавалось этого дождаться – настолько рисунок был невразумителен.
Сестрица Виктора, такая же лентяйка, зевала над Пифагоровой теоремой. Служанка Рен учила ее шить; девочка, вышивая метки на белье, так мило шевелила пальчиками, что Бувару жалко было мучить ее арифметикой. Они займутся этим как-нибудь на днях. Конечно, и арифметика и шитье необходимы в семье, но Пекюше считал, что жестоко воспитывать девочек только в интересах будущего мужа. Не все предназначены для замужества; если хотят, чтобы они в дальнейшем обходились без мужчин, надо обучить их очень многому.
Насчет самых простых вещей можно вдалбливать кое-какие знания: рассказать, например, как образуется вино. Получив объяснение, Виктор и Викторина должны были повторить его. То же произошло с бакалейными товарами, мебелью, освещением. Но свет отождествлялся в их сознании с лампой, а лампа не имела ничего общего с искрой, высеченной из кремня, с пламенем свечи, с лунным светом.
Однажды Викторина спросила:
– Отчего горит дерево?
Учителя переглянулись в замешательстве: теории горения они не знали.
В другой раз Бувар весь обед, от супа до сыра, разглагольствовал о питательных веществах и забил ребятишкам головы фибрином, казеином, жирами и клейковиной.
Затем Пекюше вздумал объяснить им, как обновляется кровь в организме, и запутался в кровообращении.
Дилемма нелегкая: если исходить из фактов, то даже самый простой из них требует сложных обоснований; если же начинать с принципов, то приходится обращаться к абсолюту, к вере.
Как же быть? Надо сочетать оба вида обучения, теоретическое и практическое, но двоякий путь к единой цели противен любой методе. Ну что ж, пусть!
Чтобы приобщить их к естественной истории, воспитатели попробовали совершить несколько научно-познавательных прогулок.
– Видишь, – говорили они, указывая на осла, лошадь, быка, – у них по четыре ноги, их называют четвероногие. В общем, птицы отличаются перьями, пресмыкающиеся – чешуей, а бабочки относятся к разряду насекомых.
У них имелась сетка для ловли бабочек, и Пекюше, осторожно держа пойманного мотылька, обращал внимание детей на то, что у него четыре крылышка, шесть лапок, два усика и твердый хоботок, чтобы высасывать из цветов нектар.
Он собирал на обочинах полевые цветочки, говорил, как они называются, а если не знал названия – сам его выдумывал, чтобы поддержать свой авторитет. Ведь в ботанике номенклатура – не самое главное.
Он написал на грифельной доске следующую аксиому: у всякого растения имеются листья, чашечка, венчик, прикрывающий завязь, или околоплодник с семенами. Потом он велел детям собирать гербарий и рвать все, что попадется под руку.
Виктор принес ему лютиков, а Викторина – пучок земляничника; тщетно искал он в них околоплодник.
Бувар, не доверявший его познаниям, перерыл всю библиотеку и в конце концов нашел у Редуте де Дама рисунок ириса, у которого завязь помещается не в венчике, а под лепестками в стебле.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.