Текст книги "Экзамен. Дивертисмент"
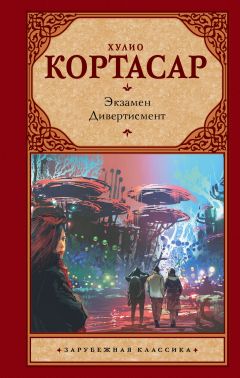
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Че, послушай, – сказал репортер, довольный, что вспомнил. – Мне рассказал это один мой друг, фотограф. Слушай внимательно, это первостатейный пример стиля. Одна парочка сфотографировалась и через неделю пришла смотреть пробные снимки. Думали, думали и в конце концов выбрали один. Девушка говорит парню: «Мне кажется, тебе все-таки не очень нравится…» Тот, немного удивленный, отвечает: «Ну да, снимок-то хороший, и ты хорошо получилась, жаль только, что у меня не видны значок и шариковая ручка».
– «Сеста»! – завопил мальчишка-газетчик, и в мгновение ока у него разобрали все газеты.
Они уже стояли перед самым входом (брезент тут был забрызган чем-то черным, гудроном или клеем), и люди в очереди занялись газетами. Совсем рядом завывала собака, и все засмеялись, снопы света дрогнули и вновь упали ровным ярким светом. Из репродукторов неслась «Венгерская рапсодия», одна из самых популярных. «Странно, что Абель здесь, – подумал Андрес, глядя ему вслед. – Это он, я уверен. И Хуан перед ужином его видел».
Вчера все было как обычно, домой вернулись пьяными в стельку. По словам соседей, вскоре после их прихода началась страшная ссора, быстро переросшая в драку, в ходе которой Перес схватил нож, напал на своего противника и нанес ему десять страшных ножевых ранений в различные части тела, отчего тот свалился бездыханным.
– Какое варварство, – сказала сеньора. – Смотри, Эстерсита, что творится.
– В газете написано? – спросила Эстерсита, оказавшаяся косоглазой.
– Все, все, от слова до слова. Бедняжка, сегодня никто не может быть спокоен за свою жизнь. Если бы не Господь Бог, мы бы все уже были мертвы.
– Послушай, что играют, – сказала Эстерсита. – У Куки есть эта пластинка. Брат жениха подарил, у него своя лавочка. Запись Кастеланеса. Божественная.
– Да, классическая вещь, – сказала сеньора. – Вроде того, что играла та, из восьмой квартиры, в субботу, когда мы были в гостях у тетки.
– О, божественная вещь! Грандиозная! Если бы у меня была радиола, я бы целыми днями слушала классику. Божественно! Послушай, как скрипка играет!
– О, грандиозно, – сказала сеньора. – Похоже на «Лунную сонату».
– И правда, – сказала Эстерсита. – Почти точь-в-точь, только «Лунная соната» немножко романтичнее.
– Мать вашу, – сказал репортер. – Ну, пошли, наша очередь. Возьмемся покрепче за руки, да смотрите в оба, как бы в карман не залезли.
Входя, они услыхали, как следующий оратор провожал выходящую людскую колонну. «Кажется, чешет стихами, – подумал Андрес. – С ума сойти».
«О боги», – подумал Хуан и вспомнил:
И ходят боги среди брошенного хлама,
брезгливо подбирая полы одеяний.
И бродят меж гнилых кошачьих трупов,
открытых язв и аккордеонов,
подошвами сандалий ощущая волглость
гниющего тряпья,
блевотины времен.
Им не живется больше в голом небе,
их сбросили оттуда боль и сон тревожный,
и бродят, раненные грязью и кошмаром,
вдруг останавливаясь, чтоб пересчитать
почивших, мертвых,
и облака, упавшие ничком, и издыхающих собак
с разодранною пастью.
Они лежат без сна ночами и любятся застывшими
движеньями сомнамбул,
валяются вповалку на ложе нищенском,
обмениваясь хмурыми, как плач, лобзаньями
и с завистью заглядывая в пропасть,
где крысы ловкие, визжа, дерутся
за лоскуты знамен.
– Тише!
– О’кей, о’кей, – сказал репортер смиренно, и охранник пристально поглядел на него.
– Поменьше «океев» и побольше уважения, сеньор. Это – священное место поклонения. Постройтесь в цепочку, один за другим, по очереди. И вы тоже, молодой человек. Сеньора, я же сказал: по очереди. Тише!
В полутьме, робко ощупывая мягкую почву (оттого, что ее огородили брезентом, земля под ногами не стала иной), пятнадцать вошедших построились в цепочку. В почти полной темноте охранник направил луч фонарика в пол. Снаружи доносился собачий лай —
а брезент дрожал, как будто огромный пес
чесался об него,
и голоса, дурманящая тьма —
«Ну, сукин сын, заводи свою проповедь в децимах», – подумал Андрес, разъяряясь и зная, что на самом деле злился не на оратора, а на Абеля; и даже не на самого Абеля, а на то, что он где-то здесь, более того —
хотелось, чтобы была причина разозлиться (вообще, на Абеля, на что-нибудь еще) и, наконец, что-то сделать. «Вот она, великая проблема, о Арджуна: делать что-то и иметь на то причину».
Фонарик уперся в потолок, и занятно было видеть, как белый луч ударялся о брезент, дырявил его и перебегал на другую сторону (мощные лампы снаружи освещали только контуры, но не внутреннее пространство святилища), натыкался на хрупкую колонну, повторявшую мощные очертания такой же колонны, державшей брезент снаружи. Наверху, где концы брезента сходились, луч разбивался о блестящий диск; и тогда казалось, будто два вражеских прожектора шарят по небу
– но тот, что снаружи, был слабее —
и сходятся на брезенте в яростной схватке, гонятся друг за другом и сшибаются, кусая брезент. Внутренний луч был достаточно сильным, чтобы высветить фигуру охранника, цепочку посетителей и квадратный черный ящик на четырех ножках, возносивших его на метр шестьдесят сантиметров над землею. (На стеклянной крышке ящика слабо отражалось светящееся отверстие в потолке, луч света метался по крышке, это было красиво.)
– Можете по одному подходить поближе, – сказал охранник, резко опуская фонарь (луч хлыстом ударил по цепочке людей) и направляя его на ящик. – Смотрите под ноги, земля скользкая.
Стелла шла первой с полным на то правом. Хуан забавлялся (не подсознательно, а всем своим существом, кожей), глядя, как она остановилась у ящика —
высунув кончик языка, крепко прижав к груди сумку,
поднялась на цыпочки, вся дрожа в отблеске света,
падавшего на стеклянную крышку,
прелестная языческая почитательница без веры,
мощепоклонница, праздношатающаяся просительница
из породы зевак, созданных матерью-природой.
– ДАВАЙТЕ, СЕНЬОРА, ПОВОРАЧИВАЙТЕ НАЗАД. —
На вате лежала кость. В луче света она искрилась, будто крупинками сахара. Все смотрели,
– ДАВАЙТЕ, СЕНЬОРА, ПОВОРАЧИВАЙТЕ НАЗАД, НЕ СПИТЕ —
видно было прекрасно, хотя мощи были почти такие же белые, как вата, чуть розовее ваты, с какими-то светло-желтыми пятнышками.
– ВЫ ЧТО, ВСЮ НОЧЬ ТАМ СТОЯТЬ СОБИРАЕТЕСЬ? —
Пройдя мимо ящика, цепочка людей оказывалась у выхода – незакрепленного куска брезента. Репортер, замыкавший цепочку, задержался около ящика, не спеша разглядывая мощи. Охранник погасил фонарь.
– СЕАНС ОКОНЧЕН: ВЫХОДИТЕ, —
и пришлось выходить, натыкаясь на людей, остановившихся у помоста послушать оратора. На их долю выпал рыжий толстяк в жилете с золотой цепочкой на брюхе.
– Хорошо бы произнес что-нибудь эдакое, – сказала Клара. – Для полноты впечатлений.
Шеренга на выходе рассыпалась, люди столпились у помоста. Сверху лились потоки света (лучи прожекторов иногда двигались), пришпиливая людей, словно насекомых к картонке. Ничего не оставалось, как сбиться в кучку, прижаться друг к другу, Андресу к Стелле, Кларе к Хуану, а в центре – репортер. В двадцати метрах от них рокотал барабан, пели женщины, но все глаза были устремлены на оратора, который чего-то ждал.
– Я не буду говорить, – произнес наконец оратор, поднимаясь на цыпочки. (Он был маленького росточка, похожий на певца.) – Наоборот. – Розовым пальчиком он указывал на святилище. – Я прошу минутку молчания. – Но все и так молчали. – Чтобы почтить великое. – (Нерешительная пауза.) – Величайшее из величайших. – Все продолжали молчать. – Уникальное, единственное в своем роде.
– Только этого нам не хватало, – сказал репортер. – Ждешь захватывающей речи, а нарываешься на тягомотину.
– Тише, – сказал сеньор в черном галстуке.
– Тише, – сказал Андрес. – Одну минуту.
– Помолчи, пожалуйста, – взмолилась Стелла, озираясь по сторонам.
Оратор снова поднялся на цыпочки и замахал ручками, отгоняя москитов. «Считает секунды, как рефери на ринге», – подумал Хуан. Оратор раскрывал и закрывал рот, и люди ждали, но тут поднялся брезент над выходом и из святилища вышла следующая партия; у подмостков стало тесно, люди начали роптать и вдруг разом смолкли: так отчаянно замахал ручками оратор. «Самый момент выбить скамейку у него из-под ног и послать в задницу этот рыжий кусок мяса», – подумал Хуан. Он отстранил Стеллу, расчищая пространство и становясь так, чтобы выходящие из шатра вытолкнули его вперед, но в этот самый миг оратор издал пронзительный клич и застыл, закатив глаза и выбросив ручки вперед (золотая цепочка раскачивалась на брюхе).
– О, минута! – завопил он. – Что такое минута, если веков не хватило молча умиляться, глядя на это свидетельство, —
– Послушайте, вы думаете, у меня ноги железобетонные?
в сравнении с которым, дамы и господа, ничто —
– Давайте рвать отсюда когти, – сказал репортер. – У него заготовлена целая речь.
величие самых великих святынь —
– Убери свой локоть, всем святым заклинаю!
и властителей, ибо настало время сказать это:
Мы – АРГЕНТИНЦЫ!
– Наконец-то произнесено словечко, которое все объясняет, – сказал Андрес. – Давайте выбираться отсюда, вот здесь просвет. Пошли за этим лохматым псом, он знает, что делает!
Пес в мгновение ока вывел их из толпы, и репортер даже отважился почесать его за ухом в знак благодарности. Пес в ответ попытался куснуть его.
В кафе «Боливар» они немного стряхнули с себя пыль и усталость. Официант, бровастый испанец, отозвался о тумане как о своем личном недруге. Труднее всего было с глиной: Стеллины туфли пришлось отчищать ножом, а Кларе стыдно было даже смотреть на свои чулки. Официант оказался потрясающим парнем; его волновал только туман, это действительно дело серьезное. Он принес сигары, лимонный сок и опять пустился в рассуждения о тумане.
– А может, это и не туман, – сказал репортер. – Никто не знает, что это такое. Исследуют в лаборатории.
– Да еще ягуар, – сказал официант, который был знаком с репортером. – Не читали? В Колонии, в Серильос, в Энтре-Риос. Такой ягуарище, полсвета напугал. Просто кошмарный.
– Все звери семейства кошачьих – свирепы, – сказал Андрес. – А ягуар из семейства кошачьих.
– А ягуары свирепы? – спросила Клара.
– Ну да, – сказала Стелла. – Все звери из семейства кошачьих – свирепы.
Репортер со Стеллой говорили о мощах. Официант иногда отлучался к стойке или к другим столикам, а потом возвращался поговорить. Поскольку стол был большой, то за ним сидели —
Клара с Хуаном (но между ними еще стоял стул, на котором лежали кочан и Кларина папка) и Андрес, совсем близко к Хуану, занимая, таким образом, весь этот край,
а на другой стороне – Стелла болтала с репортером (да еще официант втиснулся между ними).
В зале стоял ровный, густой гул, который туман приносил снаружи, и он расползался по залу и существовал сам по себе; это был не шум кафе, где ложечки отзванивали колокольчиками наподобие «Лакме» и официанты выкрикивали заказы: ШЕСТЬ СМЕШАННЫХ САНДВИЧЕЙ, ДВА С АНЧОУСАМИ!
Андрес не был уверен, что они смогут поговорить с Хуаном так, чтобы Клара не слышала. Клара смотрела на здание Муниципалитета: пористая громада в тумане, красноватые фонари, балкон, а на нем – тени. А на одном балконе – густой туман и много теней.
– Мне кажется, ты его тоже видел, – сказал Андрес.
– Абеля? Конечно, видел, – сказал Хуан. – Это был он, он.
– В Заведении ты мне сказал, что уже видел его сегодня. А теперь он здесь – стоит задуматься.
– Ты же знаешь, он сумасшедший, – сказал Хуан. – Может быть, чистое совпадение.
– На Майской площади Абелю делать нечего, – сказал Андрес. – А если пришел, значит, шел за нами.
– Пускай его развлекается.
«А мне не нравится, что он развлекается за счет Клары», – хотел сказать Андрес.
– Я бы на твоем месте покончил с этим делом, – сказал Андрес.
«Она грустна», – подумал Андрес.
«А все туман, – думала Клара. – Приходим туманом, говорим туманом, но ведь это даже и не туман».
– Правда, что это не туман?
– Правда, – ответил репортер, оборачиваясь. – Никто не знает, что это такое. Наша газета занялась этим вопросом.
– Ничего, – сказал Хуан. – Он сумасшедший. Какое мне до него дело.
– Послушай, – сказал Андрес. – Горячие души более других открыты для гнева. Люди рождены неодинаковыми; они подобны четырем стихиям природы – огонь, вода, воздух и земля.
– Что это?
– Сенека. Прочитал сегодня утром. Но это относится и к Абелю.
– К Абелю? У Абеля, бедняжки, душа не горячая. Все его горение – внешнее, как одежда. Он может сбросить с себя горение, как галстук.
– Я в этом не очень уверен, – сказал Андрес. – Слежка, преследование – такое занятие требует постоянства чувств.
– Или скуки.
– Еще хуже. В таком случае дело гораздо серьезнее.
– А может быть, – сказал Хуан, пристально глядя на Андреса, – может быть, Абель просто обучается на бойскаута. Проходит практику.
– Ладно, – Андрес пожал плечами. – Не хочешь говорить об этом, не надо.
«Хочу, – подумал Хуан, оборачиваясь, чтобы улыбнуться Кларе. – Мне бы хотелось поговорить об Абеле, вместе с Андресом защититься от Абеля».
– Все эти пумы, дикие кошки – очень вредные животные, – сказал официант, отходя от стола. Репортер кивнул с излишней готовностью, а у Стеллы мурашки побежали по коже при мысли о ягуаре.
– Я устала, – сказала Клара, потягиваясь. – Спать не хочется, я бы не заснула. Со мной никто не разговаривает, я сижу тут такая одинокая, словно персонаж Вирджинии Вулф, вокруг огни, разговоры, а я – как персонаж Вирджинии Вулф, ужасно усталая.
– Пошли домой, – забеспокоился Хуан. – Возьмем такси и Андреса со Стеллой подвезем. А репортера оставим газете.
– Я все равно не усну, накануне события наверняка будут сниться кошмары. Ты же знаешь, какие мне кошмары снятся. Модель А и Б. Модель А – специально для канунов. Модель Б для lendemains[30]30
Следующего дня (франц.).
[Закрыть]. – Она провела кончиками пальцев по лицу, словно нащупывая паутину. – Нет, Джонни, домой не пойдем. Мы встретим рассвет в городе, будем бродить и петь старые песни.
– Ты и вправду персонаж Вирджинии Вулф, – сказал репортер. – Меня в расчет не берите, я буду спать, как говорится, в фойе клуба.
(Il était trois petits enfants
Qui s’en allaient glaner aux champs
S’en vinrent un soir chez un boucher:
«Boucher voudrais-tu nous loger?» —
«Entrez, entrez, petits enfants.
Y’a de la place assurément».)[31]31
Три малыша, резвясь на воле,Пошли за колосками в поле.В дом мясника поздней поройСтучат: «Дай нам приют ночной». —«Зайдите, детки, знайте – тутВсегда найдете вы приют» (франц.).
[Закрыть]
– Выпей еще лимонного соку, – сказал Хуан. – Наберешься сил и едкости для своих статеек. Че, какую славную песенку ты напеваешь.
«Как она красива с закрытыми глазами», – подумал Андрес.
– Клара, – сказала Стелла, дотрагиваясь до нее. – А говоришь, что не хочешь спать. Сумасшедшая женщина.
– Я не сплю, – сказала Клара. – Я просто вспоминала… Да, и песня тоже была будто в страшном сне. Какая страшная пора – детство, Стелла. Ты девочкой не испытывала страха, постоянного, непрекращающегося страха? А я испытывала, и он возвращается ко мне каждую ночь. Только эти образы из детства и остаются прочными и яркими. А может, это просто ощущение, что они были прочными и яркими. А все, что я вижу теперь, – как здание Муниципалитета, погляди на него, белесый сгусток в тумане.
– Очень хорошо говоришь, – одобрил Хуан.
– А может, это вовсе и не туман, – вздохнул Андрес. – Может, если продолжить мысль Клары, просто сгусток прожитых лет.
– Раньше у вещей был объем, они кончались, сверкали, – сказала Клара. – А теперь нам приходится довольствоваться знанием, что они есть, и пялиться на них, как обезьяны. Меня это до того бесит, что я приглушила все свои чувства и не даю им воли. Когда я на углу жду Хуана, один Бог знает, как сосет у меня внутри, и, прежде чем он появится, я два или три раза вижу его: вижу его лицо, походку, все. Сегодня со мной случилось то же самое.
– Он такой обычный, можно спутать с любым, – сказал Андрес.
– Не смейся, все это довольно грустно. Это – смазанная проекция мыслей, логический механизм. Однажды я ждала письма от мамы; почтальон всегда оставлял письма на стуле в гостиной. Я вошла в комнату и вижу: три письма. Еще в дверях я увидела верхнее письмо (мама всегда посылала письма в длинных конвертах), я увидела ее почерк, крупный, красивый. Увидела свое имя на конверте, первую букву, хорошо выписанную. И только когда взяла письмо в руки, увидела его: и конверт оказался не продолговатый, и почерк не мамин, и первая буква не К, а М.
– Желание – волшебный фонарь, – сказал Хуан. – Бедная Клара, как бы тебе хотелось упразднить посредников.
– Мне бы хотелось знать, кто я есть и кем была. И быть ею, а вовсе не той, за кого принимаешь меня ты, за кого принимаю себя я и все остальные.
– Со мной происходит то же самое, – сказал Хуан. – Почему, ты думаешь, я пишу стихи? Бывает такое состояние, такие моменты… Знаешь, перед тем, как проснуться, иногда возникают удивительные ощущения: кажется, например, будто ты, словно клин клином, разом выбьешь все препятствия. И когда просыпаешься (с тобою бывает такое, Андрес?), в тебе остается память об этом. И ты оглядываешься вокруг: рядом тумбочка, а на ней – часы, только и всего, а поодаль – зеркало… Поэтому по утрам я бываю печален, во всяком случае до завтрака.
– Память о потерянном рае, – сказала Клара. – То, что ты рассказал, представляется мне смутным перепевом Платоновых идей. Быть может, в некоторых снах человек способен подступиться к Идеям.
– Хорошо бы, – сказал репортер. – Беда лишь, что сны битком набиты телефонами, лестницами, дурацкими полетами и преследованиями, совершенно не вдохновляющими.
– Знаешь, – сказал Андрес, – я иногда испытываю нечто похожее на то, о чем рассказывает Хуан, только я воспринимаю это не как отголосок сна, а гораздо хуже. Например, такое: утром я открываю глаза и вижу: встает солнце. И меня судорогой пронзает ужас, словно воспротивилось все мое существо – и тело, и душа (простите мне такое выражение). Я понял, что пережил ужас потери рая, ужаснулся тому, что нахожусь в подлунном мире. Солнце – каждый день, снова – солнце, солнце, нравится оно тебе или не нравится, солнце взойдет в шесть часов двадцать одну минуту, даже если Пикассо рисует «Гернику», даже если Элюар пишет «Capitale de la Douleur»[33]33
«Град скорби» (франц.).
[Закрыть], даже если Флагстад поет Брунгильду. Человечек – к солнцу. Солнце – к своим людишкам, и так – день за днем.
– Черт возьми, – сказал репортер. – Они рассуждают все сложнее и сложнее.
– Хватит, – сказала Стелла. – Может, пойдем отсюда?
Клара, разглядывавшая в окно витрину напротив, жестом выразила удивление.
– Конечно, пойдем, – сказал Андрес. – The night is young[34]34
Ночь юна (англ.).
[Закрыть], как, наверное, поется в «London again».
– «London again» – музыка без слов, – сказал репортер обиженно. – По-моему, пора отваливать, че. Но я вижу китайца, и, по правде говоря, мне хотелось бы задать ему вопрос.
– Он знаком с китайцем! – сказала Стелла и всерьез заломила руки.
– Он китаец в смысле мышления, – пояснил репортер. – Немного вроде Андреса, только у Андреса китайская диалектика, а у этого китайца все формы поведения китайские.
Андрес смотрел на Клару, как она ищет в сумке то, чего там нет, делая вид, что страшно занята. Ему показалось, что Клара побледнела.
– Отдай десять монет, негр, бля, – закричал разносчик газет на углу. – Мать твою так-разэтак, бля, сукин сын, падло.
– Dixit, – возвестил репортер в полном восторге. – Какая скотина! Шесть дней в неделю он не слазит с матерщины.
– В этом мы тоже чемпионы, – сказал Хуан. – Сила сквернословия, должно быть, находится в обратно пропорциональной зависимости от силы народа.
– Не так это просто, – сказал Андрес. – Все дело в напряжении. Ты, видно, хочешь сказать, что наше сквернословие – вялое, оно служит для заполнения жизненных пустот. Мы материмся просто так, чтобы подстегнуть себя, чтобы перекинуть мостик над тем, что вдруг разверзается под ногами и может поглотить нас. Матерщина дает нам запал преодолеть эту пропасть и еще какое-то время поддерживает нас до следующего раза. У Гюго, напротив, человек выпаливает ругательства, разряжаясь от напряжения, и они вылетают из него, как заряд из арбалета, когда Ватерлоо уже позади.
– На, на, возьми свои десять монет, – проверещал голосок. – Какой визг поднял.
– Я защищаю свои права, – сказал разносчик газет.
– Давайте я познакомлю вас с китайцем, – сказал репортер.
– А с другой стороны, мы испытываем гораздо большие напряжения, чем другие народы, – продолжал Андрес. – Жаль только, что они негативные – подавленные.
– Ну вот, старая песенка, – сказал репортер. – Скажи еще, что, если бы мы умели откладывать про запас, у нас бы не подводило животы, и тому подобное.
– Нет, это не то, психоаналитик ты наш из кафетерия. Просто я хотел сказать, что у нашего сквернословия две стороны: полная бесполезность с точки зрения рассудка, хотя оно и стимулирует нас, и крайняя необходимость ввиду трагической напряженности (прошу прощения), которая захлестывает нас. Другими словами, оно имеет право на существование, по сути, это – трагедия, видишь, как это понятие ввиду его существенности превратилось у меня из прилагательного в существительное. Что есть трагедия? Грандиозная ошеломляющая брань, направленная против Зевса. Не думай, что и муки, терзающие мозг Эсхила, не имеют последствий. Паскаля, обратись он к Зевсу вместо Господа Бога, уверен, поразило бы громом.
– А туман все гуще, – сказал официант, принесший кофе для Клары. – Сколько машин столкнется. Вон тот сеньор, кажется, знает вас.
– Да, это Салавер, – сказал репортер. – Иди сюда, старик. Сейчас я вас познакомлю с китайцем, я хочу сказать, с Хуаном Салавером. Хуан, мой друг, сеньорита; сеньорита Стелла, тоже друг. Садись, Салавер, поговорим немножко, прежде чем разойдемся. Что ты поделываешь?
– Я – ничего, – сказал Салавер. – А вы что?
– Я? – спросил репортер. – Я пишу «Юдоли».
– А, – сказал Салавер, который обошел вокруг стола и теперь протягивал ему шершавую и довольно грязную руку. – Хорошо.
– Вы журналист? – спросила Стелла Салавера, остановившегося справа от нее.
– Да, точнее, хроникер, – сказал Салавер. – А сегодня как раз хожу собираю материал для заметки —
НА КРЕСТНОМ ПУТИ ЖЕЛАНИЙ
(у типа, который шел от улицы Иригойена и пел, наверное, были аденоиды; проходя мимо кафе, он запел во всю мочь)
МГЛОЮ ЗАЛЬЕТ МНЕ ДУШУ,
ПОМЕРКНЕТ ЛАЗУРНОЕ НЕБО,
И СНА Я ЛИШУСЬ НАВЕКИ,
КОГДА ТЫ УЙДЕШЬ ОТ МЕНЯ.
– Узнаю тебя, Общество аргентинских писателей, узнаю твой почерк, – сказал Хуан, ежась. – Но обрати внимание, – какая символика. Туман проникает этому типу в самую душу. Он называет его мглою, что поделаешь, не всем дано подняться до высокого уровня культуры.
– …и религиозного восприятия, – сказал Салавер. Репортер смотрел на него ласково, задержавшись взглядом на лысине, на треугольных бачках, на его удлиненном лице. «Китаец, – подумал он, – потрясающий тип».
– Ладно, поговорим о Евгении Гранде, – улыбнулся репортер. – Когда ты отправляешься в Испанию?
– Если все будет хорошо, через пять квадратов, – сказал Салавер.
– Он хочет сказать, через пять месяцев, – перевел репортер. – Ну-ка, объясни сеньорам свою систему.
Салавер достал портмоне, из него – кошелечек для визитных карточек, а из кошелечка целлулоидный футлярчик, на обороте которого была изображена glamour girl[35]35
Шикарная девица (англ.).
[Закрыть] в темных очках и реклама оптики Киршнера, а внутри – великолепный календарь из клеточек-дат на 1950 год. Год Освободителя генерала Сан-Мартина —
(именно тогда в Париже Иегуди Менухин исполнял сонаты Баха для скрипки без сопровождения, а в Падуе находился Эдвин Фишер,
и Арлетти представляла «Трамвай “Желание”» (в Париже), а в Барракасе умирала сеньора Энкарнасьон Робледо де Муньос.
И кто-то в гостинице плакал, закрыв лицо руками, думая о сонате для скрипки Прокофьева,
и какой-нибудь надсмотрщик из Чивилкоя, остановив машину возле кондитерской «Галарсе и Треза», приказывал батраку: «Ну-ка, Синяя Птица, слетай купи сластей!» А в Монреале шел мелкий дождь).
– Пять квадратов, – сказал Салавер и положил календарь временем кверху между двумя тарелками с жареными овощами.
– А, – сказала рассеянно Клара, – понятно.
– Действительно, понять довольно легко, – подтвердил Салавер. – Вы знаете, что моя тетушка Ольга живет в Малаге. Я желаю встретиться с тетушкой Ольгой с целью конкретизировать мои планы относительно окончательного переселения на полуостров.
«Рассказывает по пятому разу», – подумал Андрес, и ему вспомнились слова Мурены, с которым он не был знаком, но кто был его товарищем по одиночеству и антагонистом по двадцати разным пунктам, однако союзником по многим другим:
«Содействуя – посредством извращения слова – тому, чтобы человек превратился в ничего не уважающего циркового зрителя, пресса…»
«Но китаец не похож на человека, ничего не уважающего, – подумал Андрес. – Он, бедняга, просто дурак».
– Вследствие этого, – сказал Салавер, – я привел в порядок этот беспорядок и полагаю, что в пятый квадрат как раз попадает Малага. Справа внизу.
– Между двадцать пятым и тридцатым августа, – сказал репортер, разглядывая квадратики, заполненные красными и черными цифрами.
– Но у меня нет уверенности, потому что контрслучай способен на самое худшее.
– Объясни нам про контрслучай.
– Все на свете – дело случая, – сказал Салавер. – Все. Философы этому учат, об этом написано во многих книгах. А значит, надо идти наперекор случаю, и я изобрел контрслучай – особый способ жить. Вот здесь все объяснено. Все мы живем в квадратах. И потому сначала надо сформировать суперслучай, чтобы естественный случай при входе в квадрат столкнулся с препятствием. Мой метод таков: каждое утро, глядя в потолок, я прокалываю булавкой мой квадрат и смотрю: если булавка попала на уже прожитые дни, то не считается и надо колоть снова. Когда же булавка попадает на тот период времени, к которому мы подходим, я смотрю на условный знак, обозначающий длину светового дня в этой части земли. А потом думаю. Водыˊ.
– Держи. – Репортер подал ему сок.
– Теперь надо создать второй суперслучай, а это самое тонкое дело. Если, например, проколешь день, до которого остается, скажем, две недели, то принимаешься думать, как будешь жить этот кусок квадрата. Сначала обдумываешь физические обстоятельства: будет ли дождь, сильным или слабым будет ветер, придется ли тебе писать заметку относительно горючих материалов, которые самовозгорятся в городе под названием Буэнос-Айрес, или человек, облеченный полномочиями секретаря редакции, велит тебе подготовить справку по вопросу о рождаемости. Предположим, все это должно произойти. Ты предполагаешь эти обстоятельства. Это и есть суперслучай. И тогда, – Салавер выпрямился, – тогда ты подготавливаешь контрслучай. Я говорил о дожде и ветре; так вот, когда наступает указанный день, ты выходишь из дому в светлом костюме независимо от того, идет дождь или нет; я говорил о пожаре: в этот день ты приходишь в редакцию и пишешь о Бетховене, даже если горит Троя или Альбион-Хауз. Не важно, были или не были пожары. Заказали тебе или не заказали материал о рождаемости. Ты предусмотрел суперслучай и уничтожил его при помощи контрслучая.
– Ясно, – сказал Хуан в полном восторге.
– Разве я не говорил, что это грандиозно? – сказал репортер, до того не проронивший ни слова.
– По-моему, здорово, – сказал Андрес. – Значит, вы сможете отправиться в Малагу?
– Вполне вероятно, – сказал Салавер. – Пятый квадрат внизу справа, довольно-таки просто.
– Ах, так?
– Суда отходят в определенные дни, – сказал Салавер. – В этом преимущество: случай тут преодолевается грубо практически, надо просто подняться на судно, другими словами, не остаться на берегу. А против всего остального будет действовать суперслучай, подкрепленный контрслучаем.
– Вам бы, – сказала Клара тусклым тоном, – следовало зваться Саласаром[36]36
Al azar – по воле случая (исп.).
[Закрыть].
– В моем имени тоже содержится знак, имеющий ко мне прямое отношение, – сказал Салавер[37]37
Концовка фамилии Салавер – глагол «смотреть» (ѵег).
[Закрыть]. – Я – Опередивший Свое Время, и судьба велит мне смотреть, что ждет впереди.
– Очень интересно, – сказала Стелла, погруженная в календарь. – Так мы идем или нет?
– Идем, идем, здесь жарко.
– Всего хорошего, – сказал Салавер и быстро поднялся. – Мне было чрезвычайно приятно.
– Всего хорошего, – ответили ему все.
А В ВИТРИНЕ ОТРАЖАЛСЯ АБЕЛЬ.
– Пусть репортер платит за всех в наказание за квадраты и тетушку Ольгу, – сказал Хуан. – Допускаю, что он вполне китаец, если ты имеешь в виду то же самое, что и я.
– Расплачиваемся по-английски, – сказала Клара и положила на стол два песо. «Или я сошла с ума, или это опять Абелито. Только бы Хуан его не видел, только бы Хуан —»
– Пошел прочь! – закричал официант, пинком выбрасывая иссиня-черного песика, подбиравшегося к огрызку на полу. Потом отсчитал сдачу и сердечно попрощался, до крайности довольный тем, как ему удался пинок и как визжала собака.
Женщины вышли первыми, репортер еще прощался с официантом, а рука Андреса тихонько прикоснулась к плечу Хуана, шедшего впереди.
– Да, я его тоже видел, – сказал Хуан, не оборачиваясь. – Что поделаешь, он такой. Поразительно одно: как он улетучивается в мгновение ока, словно дым.
Андрес подождал репортера.
– Как дым – над этим следует подумать, – сказал он. – А ведь именно дым замечают прежде всего. Ты можешь прославиться: предложи через свою газету, чтобы благодарные пожарные воздвигли статую в честь дыма.
– Обязательно предложу, – сказал репортер. – А статую можно заказать Тройяни. Ну, ребята, туман совсем сгустился. Ничего себе ночку выбрали для прогулки. Одни мы… Ну да ладно, нужно проводить наших экзаменующихся.
Две колонны женщин шли в направлении Майского проспекта. Шли стройными рядами в сопровождении молодых людей с факелами и электрическими фонарями. В тумане процессия походила на гусеницу из японского сада, которая ползла, медленно подтягивая туловище. Кто-то вдруг закричал, и Хуан вспомнил —
– но Абель, этот болван, опять тут, —
сирены машин «скорой помощи», мчавшихся по улице Леандро Н. Алема. Он переложил сверток с кочаном под левую руку и крепче прижал к себе Клару.
– Ну, как ты, старушка?
– В порядке, все вижу и слышу, все понимаю и немного грущу.
– Клара, – сказал Хуан тихо.
– Да, я видела. А почему ты беспокоишься?
– Я не беспокоюсь. Просто мне это кажется абсурдным. Андрес тоже видел его.
– Бедный Андрес, – сказала Клара.
– Почему Андрес бедный?
– Потому что ему видятся призраки.
– А мы с тобой?
– И мы – тоже, – сказала Клара. – Но Абель живой, а не призрак.
Ей вдруг страшно захотелось плакать. Хорошо бы достался четвертый билет.
Репортер купил газету, и они пошли по улице Боливара к Алсине. Моросил теплый мелкий дождичек.
– Замечательно, – сказал репортер. – Депутаты утвердили проект защиты диких животных.
Когда подходили к проспекту Колумба, скользя на покатом спуске улицы Алсина, Андрес выпустил Стеллину руку, – та всегда заставляла его вести ее под руку, – и чуть отстал, прислушиваясь к резкому голосу репортера и вспыльчивым репликам Хуана; он смотрел, как Хуан ведет Клару – будто ее хотят у него отнять. Хуан выглядел нелепо: прижимал к себе сверток и Клару и что-то выкрикивал в ответ репортеру, да еще останавливался время от времени, поджидая Стеллу и оглядываясь на нее, словно за поддержкой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































