Текст книги "Экзамен. Дивертисмент"
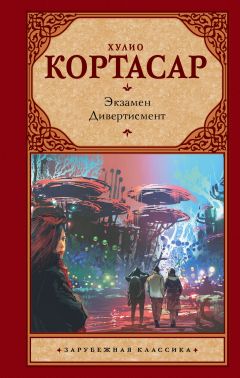
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Как я устал, – сказал Андрес. – Ну и ночь.
Свет фонарей падал с высоты, высвечивая щиколотки Клары, ее стремительную поступь. К утру, наверное, пойдет тонкий, горячий дождь, который всегда наводит уныние. «Я в это не верю!» – выкрикнул Хуан, останавливаясь на углу. Свет омывал волосы Клары и половину лица; Андрес остановился и смотрел на нее; он увидел, как репортер, знаками попросив подождать его, побежал на противоположную сторону улицы. Стелла и Клара разговаривали с Хуаном и совсем позабыли об Андресе, стоявшем в тени. «Я – свидетель, – подумал он. – Свидетельствующий… О чем я могу свидетельствовать, кроме как о себе самом, да и то…»
Из подъезда вышла женщина и тихонько свистнула. Высокая худая жгучая блондинка в черном платье, обтягивающем груди. Она остановилась в тени и снова свистнула, глядя на Андреса.
– Простите, что я не виляю хвостом, как воспитанный пес, – сказал Андрес, – но я не люблю, когда мне свистят.
– Пошли, – сказала женщина. – Пошли со мной, красавчик.
Андрес указал ей на группу на углу, на обернувшуюся Стеллу. Репортер уже возвращался с пакетом в руке.
– А, – проговорила женщина, сникая. – Так бы и сказал.
– Что поделаешь. Ты всегда тут?
– Иногда. Можешь найти меня в час в «Афмуне».
– Заметано, – сказал Андрес и помахал ей рукой на прощание. Он видел, как она снова отступила в глубину подъезда, как сразу стали темными ее волосы. «Кто его знает, – подумал он. – Может, лучше напиться с этой бедняжкой, чем…»
– Винцо первосортное! – кричал репортер. – Пришла пора для эутрапелии, старик, час ночи. Andiamo a fare una festicciola[38]38
Пойдем кутнем (итал.).
[Закрыть] на площади Колумба, и пусть полиция questa sera[39]39
В этот вечер (итал.).
[Закрыть] будет слепа и нема.
– Андрес! – крикнула Стелла, глядя, как он медленно подходит к ним, опустив руки в карманы. – Одинокий крысеныш, иди сюда, к своей кошечке.
– Кисеныш, – сказал Андрес, – ты – ангел, удерживающий меня от искушений.
– Ах так, значит, правда, – сказала Стелла. – Кларе показалось, что ты разговариваешь с… – Она вдруг замолчала, смутившись. «Зря я помянула Клару», – подумала она, но мысли этой не высказала, потому что
Андрес, котенок,
блондинка, винцо и festicciola[40]40
Вечеринка (итал.).
[Закрыть], проститутка, голос Клары,
голос такой, будто она сердится, однако глупый, котенок,
котик-обормотик, все-таки я —
имею ПРАВО,
руки, такие тонкие,
он никогда,
а как он пахнет, какой он жаркий
в любви, о, какое блаженство.
– Чмок, – сказал Андрес, наклоняясь к ней всем телом (как наклоняются, когда руки – в карманах, наклоняются словно на шарнирах), и звонко чмокнул ее в волосы. «Кларе показалось… – подумал он, испытывая смущение и счастье. – Она видела, что я разговаривал с этой женщиной». Клара шла и слушала тишину, наполнявшую все ее существо, этот бархат, что трепещет на самом дне ушей; слушала, как ночь в ее теле сопротивлялась вторжению улицы с ее шумами и огнями. Рядом с ней разговаривали, слова проходили сквозь ее волосы, сквозь уши, сквозь кожу. «Deep river, – подумала она, – my soul is the Jordan»[41]41
Глубокая река, моя душа – Иордан (англ.).
[Закрыть]. И приходили нелепые желания – остаться одной, оказаться в объятиях Хуана, слушать Мариан Андерсон, читать о приключениях Пуаро, статью Сесара Бруто, выпить воды с лимоном, увидеть прекрасный сон, какие снятся рано утром, когда внутренним взором видишь, что уже шесть часов, но так сладко потянуться, вытянуть ноги, прижаться к теплой, плотной спине и позволить себе снова опуститься в глубину и —
хищный стервятник,
зато – кольцо и жестокая принцесса,
а потом – водоворот, да, баллада —
– Ты грустная, – сказал Андрес.
Они шли по проспекту Колумба, и клочья тумана то и дело окутывали их, а мимо проходили люди и машины, такие им чужие и чуждые.
– Нет, просто ночь существует для того, чтобы думать, – ответила она чуть насмешливо.
– В таком случае прошу прощения, – сказал Андрес. Она коснулась кончиком пальца его руки.
– Я не тебя имела в виду. Говори, ты же знаешь, что…
– Да, да. Но это еще не значит…
– Что не значит?
– Что ты на самом деле хочешь, чтобы я говорил.
– Не глупи. Ах, какой ты обидчивый. Хуан, Андрес на меня обиделся.
– Жаль, – сказал Хуан, догоняя их. – Обиды Андреса благородны, потому что они, как правило, метафизические. Когда сосредоточиваешься на объекте, эффективность падает. Aquila non capit, et cetera[42]42
Орел не ловит, и так далее – часть латинского выражения Aquila non capit muscas – Орел не ловит мух.
[Закрыть].
– Отвратительно, – сказала Клара. – Ты относишься ко мне как к мошке.
– Накануне экзамена тебе бы следовало вспомнить, что в устах Гомера это звучало бы почти хвалой. А у Лукиана, дорогая? Я люблю мошек, так грустно видеть, когда они с приходом зимы начинают умирать на оконных стеклах, на занавесках. Мошки – камерная музыка фауны. Ты и на самом деле псиная мошка инвективы. Псиная мошка, потрясающе! – И, сжимая кочан, захохотал как сумасшедший —
(только сумасшедший мог бы так смеяться,
а он не сумасшедший).
А разносчик газет на углу Иполито Иригойена смотрел, смотрел на него и тоже начал смеяться, сперва тихо, словно не желая.
– Псиная мошка! Собачья блоха! – завывал Хуан и сгибался в три погибели от хохота. – Потрясающе!
– Что же с ним будет, когда он хлебнет старого трапиче, – сказал репортер, испытывая неловкость. – Че, перестань, пошли, хватит ребячиться.
Андрес, ушедший на несколько шагов вперед, обернулся. Туман мешал разглядеть их. Он вспомнил мальчонку на Майской площади и жаждущие ритуального зрелища ненасытные лица присутствующих. «Не за тем ли и он пошел туда?» – подумал Андрес. Очень может быть, у него самого белое лицо, как у тех, кто идет следом за ужасом. Он провел ладонью по влажному лицу.
– Пойдемте на прекрасную площадь Христофора, – распоряжался репортер. – Стеллита, вашу руку. Да, это старое вино, трапиче, надо вернуться к простым ритуалам, к эутрапелии.
Высокий призрак вынырнул из тумана спиной к ним, вокруг его ног суетились неясные тени, хлопотливые фигуры, проступил крест. «Еще один стоит спиной ко всему, – подумала Клара. – Еще один созерцает воды ностальгии, бесполезную тропу бегства». Пес обнюхал Кларину юбку и уставился на нее ласково и преданно. Она почесала его щетинистую шею; он был мокрый, как Томас, —
Томас, ее медвежонок,
она оставляла его на улице, под открытым небом,
а утром, когда вставало солнце:
«Клара, Клара, что за девочка! Разве для этого
тебе дарят игрушки!»
Какой ужас, как стыдно, Томас замерз,
Томас намок, бедный мой Томас, промок, бедняжка, всю ночь один, а вокруг домовые и мохнатые совы, прости, прости, Томас, я никогда больше не буду так делать —
– Военное министерство – как будто из картона, – сказала Стелла.
– Тонкое наблюдение, – сказал репортер. И все равно было странно обнаружить, что Андрес так непрост, оказывается, он любит тишину, а это так некстати в Буэнос-Айресе, и немного рисуется, то и дело отставая от других на несколько шагов —
а женщина была блондинкой; вышла из подъезда неожиданно, как в кино, —
или уходит вперед, а потом с видом статуи поджидает остальных. «Он как будто чего-то ждет от меня, – подумала Клара. – Как будто я ему что-то должна».
– А она подошла и положила на ладонь муравья, – рассказывала Стелла репортеру. – Ужасно. Никогда не знаешь, что она натворит. Такая озорница.
– Дети, – сказал репортер, – трагичны.
– Ой, они такие славные!
– Кошмарные, – сказал репортер. – Мерзкие дикари. Вы любите их кожей, ваш нос, ваш язык любят их. Но если вдумаетесь…
– Все мужчины одинаковые, – сказала Стелла. – А потом у них появляется ребенок, и они распускают слюни.
– Я не распущу слюни, даже лежа щекою на животе Гейл Рассел, – сказал репортер. – Че, надо сесть на хорошую скамейку и одурманить себя как следует, созерцая Колумба и звездное коловращение.
– Вы гораздо более чувствительны, чем кажетесь, – сказала Стелла, проявляя интерес. – Насмешничаете, а сами добрый.
– Я просто ангел, – сказал репортер. – А потому не боюсь, что от меня будут дети. Что с тобою, Хуан?
Но Хуан смотрел куда-то вдаль, на деревья, терявшиеся в тумане. Потом достал платок и швырнул его на скамейку —
как Дарио – в море, —
и Клара села, вздохнув с облегчением, справа от нее сел Андрес, и Клара подвинулась, давая место Хуану; Стелла села на самый край, а репортер – между нею и Хуаном. И тогда Андрес поднялся со скамьи, а за ним и Хуан, по-прежнему не отрывая глаз от деревьев.
– Че, отдохните немножко, – говорил репортер. – Мы находимся на самой красивой, самой центральной, самой шикарной площади Буэнос-Айреса. Никто сюда не ходит, только влюбленные и министерские служащие. Однажды ночью я видел тут негра – он целовал мальчика лет четырнадцати. Мальчик слабо сопротивлялся, ему было стыдно – он видел, что я наблюдаю за ними.
– А зачем ты это делал? – спросил Хуан. – Ведь в твоих репортажах любовью не пахнет.
– Что вы такое говорите, – запричитала Стелла. – Негр целовал мальчика, какая гадость.
– Не скажите, в этом что-то было, – возразил репортер. – Некая статуарность в позе, на площади это хорошо смотрится. Ну-ка, Хуан, дай твой знаменитый штопор.
– Я больше не ношу его с собой. А если и у тебя нет, то плохо дело.
Но у репортера был, просто он стеснялся вынимать огромный перочинный нож с рукояткой из пожелтевшей кости и семью лезвиями из фирменной золингеновской стали.
– Придется пить из горла. Сначала – дамы, и не забудьте чокнуться с Колумбом, задрапированным в туман. Стелла, не жеманьтесь, берите пример с Клары, она, сразу видно, из племени пьющих.
– Выпьешь, и туман не будет к тебе липнуть, – сказала Клара, передавая бутылку Стелле. – По правде говоря, надо было купить белого вина.
– Белого у них не бывает, – ответил репортер. – Как говорится, совершенно не их профиль. Это все равно что просить Чарли Паркера сыграть мазурку. Ну, а теперь ты, Хуанито. Да что ты застыл, как часовой? Кто там, Хуан?
– Я бы сам хотел это знать, – сказал Хуан, завладевая бутылкой. – Думаю, и Андрес не прочь бы узнать. Ты что-нибудь видел, Андрес?
– Не знаю. Такой туман. По-моему, да.
Клара остановилась и глядела в сторону клуба автомобилистов, проследив взглядом все изгибы непрямой улицы, огоньки автобусов «А» и «С», застывших на остановке.
– Совсем как начало «Гамлета», – сказал репортер. – Или «Макбета»?
– Пускай их, – сказала Стелла. – Они все трое обожают сочинять романы. Что это у вас на лице прилипло? Позвольте, я сниму.
– Это пушинка, – сказал репортер в некотором удивлении. – Странное дело: у меня на лице – пушинка.
– Ветер, – пояснила Стелла. – И влажность, вот она и прилипла к носу.
Две женщины с мальчиком шли по площади и остановились, чтобы мальчик пописал на газон. В тишине площади слышно было, как струйка упала на гравий.
– Так всегда, – сказала одна из женщин. – Сколько времени сидели у тебя, и ему в голову не пришло пописать, а только вышли – сразу приспичило.
– Ничего страшного, если только это, – сказала другая.
– Вот и имей детишек, – сказал репортер, забавляясь от всей души.
– А что такого? Что особенного? Слышишь, Клара? Представляешь?
– Нет, я замечталась, – сказала Клара. – Андрес, что мы так нервничаем? Можно подумать, он собирается нас съесть.
– Кто? – спросил репортер.
– Никто, Абель, – сказала Клара. – Один парень.
Андрес устало сел на скамейку.
– Ну, раз уж мы его назвали, давайте поговорим, – сказал он. – Третий раз я его вижу сегодня.
– И я два раза, – сказали Клара и Хуан одновременно.
– А может, нам показалось. Туман…
– Это не туман, – сказал репортер. – Я уже устал повторять. Но вы что-то скрываете. Что за история с этим Абелем?
– Ничего не скрываем, – сказал Хуан, отдавая ему бутылку. – С этим парнем что-то не в порядке последнее время.
– Абелито немного странный, – сказала Стелла. – Но чтобы три раза за ночь… Он же не преследует нас.
– Блестящая мысль, – захлопал в ладоши Андрес.
– Перестань.
– Хорошо. Я перестану. Скамейка мокрая.
– Пошли домой, – сказал Хуан Кларе на ухо, но не понижая голоса.
– Нет, нет. Ты что, нервничаешь?
– Нет, я не поэтому. Просто боюсь, как бы ты не заболела, такая ночь. А завтра надо быть в порядке.
– Завтра никогда не бывает в порядке, – сказал репортер. – У меня такие ловкие фразочки здорово получаются, видели бы вы, как они нравятся нашему Диреку. Он называет меня афористом.
– Аферистом, – сказал Андрес. – Кто говорит «завтра»? Завтра – вот оно, эта мучнистая липкость, что наваливается на нас, и есть завтра.
– Ну и ну.
АБЕЛЬ. БЕАЛЬ. ЛЬЕБА. АБЬЕЛ. ЛЬАБЕ.
ЕЛЬАБ. БЬЕАЛ. АЛЬБЕ. АЛЬЕБ. ЕЛЬБА.
– В воздухе полно пуха, – сказала вдруг Стелла. – Я проглотила пушинку.
– Это не пух, а слова, произнесенные людьми, туман их подхватывает и носит, – сказал Хуан. – В такую ночь…
Такая ночь нам
красит жизнь,
в такую ночь
забудет сердце
свои сомненья и раздоры,
и звездный свет сияет в выси,
как свет лампад у алтаря,
и полная луна,
неспешно встав
над гладью моря,
к нему несет свои моленья.
– Спорю на десять монет, что не назовете автора.
– Кто-то из испанских романтиков, – сказал Андрес. – Такая ночь – превосходный материал для децим.
– Разумеется. Я заклинал стихами ночь. Здравствуйте, звезды, здравствуй, Беласель, сладкий, как сахар, свей лианы в косу, пусть нас не жалят осы! Я знаю много заклятий. Уйму.
БЕАЛЬ ЛЬЕБА ЕЛЬАБ
АЛЬБЕ ЛЬАБЕ
– Кампоамор, – сказал Андрес.
– Нет.
– Герцог де Ривас.
– Габриэль-и-Галан, – сказал репортер.
– Нет. Кто еще? Нуньес де Арсе.
СЕРА APEC РЕСА
САРЕ АСЕР РАСЕ
– Ладно, – сказал Андрес. – Ты подобрал хороший пример.
Пройдя перекресток улиц Леонардо Алема и Митре, Абель свернул в боковую улочку, зашел в подъезд и закурил сигарету. Почему-то (может, из-за разницы температур или еще почему-то) в этом закоулке не было тумана. Возвращавшиеся с Майской площади шли по улочке, словно по световому туннелю, потому что яркие фонари тут стояли через каждые восемь метров (после покушения на Кардинала-примаса, произошедшего как раз напротив книжной лавки «Знания»).
Закурить сигарету для Абеля всегда было делом кропотливым и долгим.
БЕЛЬА АЛЬБЕ
– У Марии-Андреа корзинки,
корзинки, одни корзинки,
– пропел негритенок – разносчик газет.
Абель порылся в кармане жилета, потом в правом наружном. Нужна была почтовая марка. Аккуратно достал какуюто бумажку, оглядел ее. Розовый автобусный билетик. Может быть, в другом кармане.
– В ночь, когда мы поженились,
я не спал ни минутки…
БАЛЬЕ
– Мы уже больше двух часов не говорим о литературе. Невероятно, – сказал Хуан, опрокидывая вверх дном пустую бутылку. – Погасим фонарь?
– Настоящий портеньо, – сказал Андрес. – Гаси, не оставляй неудовлетворенных желаний.
Но Хуан, устыдившись, сунул бутылку под скамью.
– Хорошо здесь, – сказала Стелла. – Не так жарко, как на площади.
– Воспользуемся случаем и проведем опрос, – сказал репортер. – Какое образование получил ты, Андрес? Не злись, че, я журналист как-никак, nihil humani a me alienum puto[43]43
Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
[Закрыть]. Заметил, как смехотворно выглядит человек, употребляющий латинские цитаты?
– И всякие иные. А потому лучший способ – цитировать на своем родном языке, но не говорить, что это цитата. Именно это я проделываю сейчас.
– Ты – потрясающий, – сказал репортер. – Но серьезно: я бы хотел обойти всех и спросить: «Какое образование вы получили? Что вы читали в десять лет? Какие фильмы смотрели в пятнадцать?»
– Только и всего? – сказал Хуан насмешливо. – Только об изящных, до невозможности изящных искусствах и литературной чепухе?
– Дай репортеру сказать, – проговорила Клара. – Это великий час, мы на великой площади, в великом тумане – самое время и место говорить о таких вещах.
– Я думаю, можно много узнать об Аргентине, исследуя эволюцию нашего поколения. Проку от этого нет, но знаешь, старик, все-таки статистика… Какая наука! – воодушевился репортер. – Сперва допытываются, сколько собак было раздавлено за пять лет и сколько рек выходит из берегов в Судане.
– В Судане нет рек, – сказал Хуан.
– Я имел в виду Трансвааль. Потом сопоставляют результаты и на основании полученного выводят закон о рождаемости в семьях певцов итальянской школы.
– Статистика, имейте в виду, – это демократия в ее научной ипостаси, определение сути в расчете на душу населения.
– Как плетешь, – захохотал Андрес.
Клара слышала, как он смеется, и удивилась своему удивлению. «Как странно, – подумала она. – Он хороший, пусть посмеется». Она тихонько дотронулась до его колена, он посмотрел на нее.
– Репортер хочет знать, где ты черпал культуру. Ты будешь его первым подопытным кроликом.
– Вторым, – сказал репортер. – Первый – я сам. Статистик должен жертвовать собою в интересах науки и первым заполнять анкету для истории.
– У меня было дурацкое детство, – сказал Хуан. – Говори ты первым, Андрес.
– Я не люблю говорить о своем детстве, – сказал Андрес угрюмо, и Клара вдруг почувствовала во рту отчетливый вкус чего-то нежного, отдававшего плодами рожкового дерева, ощутила сладкую слюну лета.
– Детство —
лучше не говорить о нем, лучше не трогать его,
пусть остается в темном уголке памяти, в своей клеточке,
лучше его не предавать —
Укромный уголок, арбузы, шепот на ушко,
сиеста,
улитка, улитка, высуни рога.
Боженька, Боженька, запахи,
карнавал, считалочки —
Я буду тармангани, а ты гомангани, ой, хватит —
– …Итак, вперед. Я только хочу знать, как ты из него выскочил. Когда распрощался с отрочеством, с порою изгрызенных ногтей и повышенного интереса к физиологическим отправлениям.
– Дорогой репортер, ты, я вижу, заинтересовался не на шутку, – сказал Андрес. – Ну что ж, я, пожалуй, помогу тебе. Итак, я не был скороспелкой, однако отважно принялся писать о вещах, о которых сейчас не отважился бы говорить. Интересно, что я писал языком фальшивым, ханжеским, без единого непристойного словечка. Персонажи говорили правильно, как в книжках, а действие всегда происходило anywhere, out of Buenos Aires[44]44
Где-то, не в Буэнос-Айресе (англ.).
[Закрыть]. Уму непостижимо, до чего я тяготел к глобальному и приходил в ужас от одной мысли написать что-нибудь конкретное об окружающей жизни; я старался, чтобы мои стихи – да, Хуанчо, именно тогда я разразился жестокими сонетами – и мои рассказы были одинаково понятны как в Упсале, так и в Сарате. Язык был дурацкий, однако то, что я пытался с его помощью выразить, обладало большей силой, чем то, что я пишу сейчас.
– Ты глубоко ошибаешься, – сказал Хуан. – Но продолжай, посмотрим, какой путь ты прошел.
Андрес сидел, опершись затылком на спинку скамейки, и курил.
– Иногда, – продолжал он, – хлесткий детерминизм бьет по струнам и рикошетом в кровь разбивает тебе лицо. Например, я до двадцати пяти лет испытывал подлинное творческое горение. Нельзя сказать, что я писал много по объему; но я без конца отрабатывал, тщательно отделывал свои вещи. И все равно я тогда писал больше, чем за всю дальнейшую жизнь, и теперь, перечитывая, вижу, что шел правильным путем. Я лез во все, перевел понапрасну горы бумаги, но сегодня мне бы не хватило духу сказать некоторые вещи или таланта, чтобы написать хотя бы один сонет, подобный тем. Мне просто нравилось писать, я получал наслаждение. Сладостное мучение, похожее на то, когда чешешь место, которое чешется, расчесываешь до крови, но получаешь удовольствие.
– И почему же источник иссяк? – спросил репортер.
– Влияния и предрассудки под личиною опыта сгубили его. Плохо, что они были необходимы и выглядели благими. Но в конечном счете благо, что они подействовали на меня плохо. Это нелегко объяснить, но я попробую. У меня было двое друзей, которые меня очень любили и, наверное, поэтому почти никогда не хвалили моих вещей, а, наоборот, сурово и самоотверженно критиковали их. Я никогда не ждал от них восторженных оценок. Они отмечали все погрешности моего пера, указывали на все ненужное и считали, что мой долг – исправлять. И это вынудило меня – из верности нашей дружбе и благодарности – привернуть кран, оставить лишь тонкую струйку. Несколько дней и ночей я перелопачивал написанное, чистил, вылизывал и перетряхивал, пока не начинало вытанцовываться то, что можно было оставить. Да еще чтение: именно в ту пору я первый раз прочитал Кокто, мне было девятнадцать лет, и я просто бредил «Опиумом». «Opium». Сейчас я произношу название по-французски, но тогда это мне было не по карману, я достал дешевенькое испанское издание. Ты не представляешь, чем был Кокто для меня. После «Илиады», моего первого рывка к абсолюту, вдруг погрузился в Кокто. Просто невероятно, я неделями не причесывался, дошел до того, что сестра и мать стали называть меня идиотом, я забивался в кафе и проводил там долгие часы – нейтральная обстановка способствовала одиночеству. Каждая фраза Жана точно стеклянным острием пронзала мозг. Все – по сравнению с этим – казалось мне жидким дерьмом. И представь, старик, всего за два года до этого я читал Элинор Глин. И мог плакать над Пьером Лоти, чтоб пусто было его японской душе. И вдруг я натыкаюсь на эту книгу, итог целой жизни, но жизни, которая не чета твоей, жизни девятнадцатилетнего мускулистого портеньо. Я погружаюсь во все это с головой и открываю рисунок, да, еще и это: я открыл пластику в рисунках, их крайнюю наивность, самую прекрасную; теперь-то я знаю, они недостойны такого изумления, однако эти геометрически простые букашки, эти матросы, эти опиумные безумства, знаешь, я ночи напролет разглядывал, изучал и разглядывал, просто не отрывался от них – рачки, рачки, рачки, какое-то безумие.
– Черт возьми, – сказал репортер.
– Такая она, эта книга. На первый взгляд она трудна и сложна для понимания даже не тем, что там говорится, а тем, что подразумевается; об этом я не имел тогда даже отдаленного представления. Рильке, Виктор Гюго, серьезный Гюго, Малларме, Пруст, «Броненосец “Потемкин”», Чаплин, Блез Сандрар, и я открыл, сам того не сознавая, насколько все это серьезно. И стал бояться писать; я стал выбрасывать бумажки, на которых нацарапывал что-нибудь на площади Сан-Мартина или в «Ла-Перла» на Онсе. Эта книга и двое моих друзей прямым ходом отсылали меня к Малларме, я хочу сказать, к тому, что делал сам Малларме. Но меня иссушали, с одной стороны, неверие в себя, а с другой – страстное желание прикоснуться к абсолюту. Я стал писать герметические стихи, такие, что, наверное, не найдется и четырех человек, которые бы одолели даже первые строки. Я начал придавать исключительное значение обстоятельствам: писать только тогда, когда имелся совершенно необходимый повод. Так я написал плач на смерть Д’Аннунцио, которого безумно любил, написал, чтобы, как говорится, клин клином, и еще потому, что с ним, по сути, происходило то же самое, разве что он писал очень мало, но многими словами.
– А потом?
Но Андрес сидел с закрытыми глазами и, казалось, заснул.
– Потом я стал писать хорошо, – сказал Хуан, прикоснувшись пальцем ко лбу Андреса. – Смотри, на нем, как и на нас всех, – лунный свет. Он – здесь, а свет идет к нему из дальнего далека. Кокто… Мой свет иногда зовется Новалис, а иногда – Джон Китс. Мой свет – это Арденнский лес, сонет сэра Филипа Сидни, сюита для клавесина Пёрселла, картина Брака.
– И я, – сказала Клара, неприлично потягиваясь.
– И ты, мышонок. Ах, репортер, только провинциалы, и то иногда, лишь иногда, способны создавать автономную культуру. Обрати внимание, я не говорю: автохтонную, потому что… Но, во всяком случае, со значительным местным колоритом. И правильно делают, как ты считаешь, репортер, правильно они делают?
– Ты себе противоречишь, – возразил репортер. – Можно специализироваться и на местном колорите, однако культура по самой сути своей экуменична. Должен ли я пояснить свои слова? Только на втором этапе можно оценить собственное своеобразие. Я понимаю Роберто Пайро постольку, поскольку я прочитал моего Мериме и мою «Бесплодную землю». Останавливаться на сиюминутном и полагать, что оно самодостаточно, свойственно моллюскам и дамам, прошу прощения у присутствующих здесь дам.
– Это так грустно, репортер, – сказал Хуан, вздохнув. – Так грустно чувствовать себя паразитом. Молодой англичанин определенного толка есть сонет Сидни или рассуждения Порции. А какой-нибудь cockney[45]45
Кокни – пренебрежительное прозвище лондонцев невысокого происхождения (англ.).
[Закрыть] – это твой «London again». А я, притом что так люблю и знаю первых, я – всего лишь тонкая стопочка стихов и прозы, я – всего лишь погоня и ловля, лишь закованный в кожу гаучо.
– По-моему, это мелочные жалобы, – сказала Клара, выпрямляясь. – И не к лицу человеку, который всерьез, как ты, занимается настоящей, интересной поэзией.
– Если взглянуть трезво, – сказал Хуан, – мало радости принадлежать к культуре пампы исключительно в силу случая, носящего демографический характер.
– А, в конце концов, какая разница, к какой культуре ты принадлежишь, если ты создаешь свою собственную, как Андрес и многие, ему подобные? Тебя беспокоит, что ты не известен людям, собравшимся на Майской площади?
– Этим нужны химеры, – сказал репортер. – Они – здешние больше, чем мы с вами.
– Меня не волнуют эти люди, – сказал Хуан. – Меня беспокоят мои взаимоотношения с ними. Беспокоит, что какойнибудь подонок именно потому, что он подонок, становится моим начальником в конторе, и вот он, заложив пальцы за жилет, говорит, что Пикассо следовало бы кастрировать. Меня бесит, когда какой-нибудь министр заявляет, что сюрреализм —
ах, зачем повторять все это,
зачем?
Меня бесит, что я не могу с ними ужиться, понимаешь? Не-мо-гу-у-жить-ся. И вопрос тут вовсе не в интеллектуальном уровне Брака, не в Матиссе, не в двенадцати ладах, в генах или в архимедузе. Эта несовместимость у нас в коже и в крови. Я скажу тебе страшную вещь, репортер. Я тебе скажу, что каждый раз, когда я вижу эти прилизанные черные волосы, эти удлиненные глаза, эту смуглую кожу, когда слышу этот провинциальный говорок, —
– меня с души воротит.
Каждый раз, когда вижу представителя этой породы, эдакого портеньо, воротит с души. И от этих служащих – их ни с кем не спутаешь, они – продукт этого города, – с их парикмахерской прической, с их дерьмовой элегантностью, с их манерой насвистывать на улице – от них меня воротит с души.
– Ну что ж, понятно, – сказала Клара. – Вижу, ты и нас не обойдешь.
– Нет, – сказал Хуан. – Такие, как мы, вызывают у меня жалость.
Андрес слушал, сидя с закрытыми глазами. «Какое убожество, – думал он. – Только в страстях, только в элементарных вещах мы похожи на других. А там, где зарождаются отношения пары, где возникает сложная шкала ценностей, где образуются тонкие связи между человеком и окружающим его миром, где вспыхивают противостояния, там мы теряемся…»
Пух, отяжелев от влаги, срывался с мокрых листьев и падал на гравий. Сапог полицейского прошагал рядом, едва не придавив его. Легкий ветерок приподнял его над землей, и он закрутился на своих тоненьких щупальцах-волокнах, прихватывая пылинки, крошечные частицы волокон, а потом струя воздуха подхватила пушинки и подняла вверх, к горящим фонарям. И пух летел от фонаря к фонарю, касаясь светящихся опаловых шаров. А потом силы у него иссякли, и он стал падать вниз.
Закрыв глаза, Андрес слушал разговор друзей. Репортер стал вспоминать стихи, которые Хуан написал давным-давно. Клара помнила их лучше и прочитала немного усталым тоном, но усталость, казалось, шла не от голоса, а была рождена словами. Стихи были несколько выспренные и отражали его тогдашнее настроение, о чем Хуан как раз и говорил. «Можно блевануть в цинковый таз и в севрскую вазу», – с горечью подумал Андрес.
– Как элегантно, – сказал Хуан, нарушая затянувшееся молчание. – Совсем неплохо, но эти приливы, эти морские раковины…
– Очень красиво, – сказала Клара. – Чем дальше, тем все больше ты боишься слов.
– Это хорошо, что хоть кто-то их боится, – пробормотал Андрес. – Я с Хуаном заодно.
– Но мы рискуем прийти к обнищанию, если будем и дальше бояться чрезмерности в манере выражения. Если вы думаете, что вернее сможете выразить суть, ограничивая себя в средствах выражения, то вы ошибаетесь.
– Может, прежде чем затевать столь жаркую дискуссию, договоримся о терминологии? – предложил репортер. – Средства выражения, например, и тому подобное.
Но Клара не желала терять время, ей нравились стихи Хуана, и она считала, что и приливы, и морские раковины – все на месте.
– Что ни говорите, мы отступаем, – настаивала она. – Наши деды обильно уснащали свое письмо цитатами, а теперь это считается вычурным. Однако цитаты спасают нас от того, чтобы выразить плохо то, что кому-то уже удалось выразить хорошо, и к тому же указывают направление, наши предпочтения, помогая понять того, кто их использует.
– Cuoth the raven: Nevermore[46]46
Каркнул Ворон: «Никогда» (англ.).
[Закрыть], – сказал репортер. – Сорока тоже может произнести: Panta Rhei[47]47
Все течет (греч.).
[Закрыть].
– И этим нас не возьмешь, – сказала Клара. – Боязнь использовать цитаты, отыскивать сопоставления с классикой и есть форма стремительного обнищания. И потому настаиваю: худшее из зол – боязнь слов, тенденция замкнуться в своего рода basic Spanish[48]48
Здесь: упрощенный испанский (англ.).
[Закрыть].
– Лучше уж basic Spanish, чем лексикон «Войны гаучо», – сказал репортер.
– Даром теряете время, – сказал Андрес как бы сквозь сон. – Опять эта дурацкая путаница целей и средств, формы и содержания. «Война гаучо» – блистательна, потому что она блистательно —
– простите мне великодушно это наречие —
осмыслена. О чем мудро замечено: скажи мне, как ты пишешь, и я скажу тебе, что ты пишешь. Блистательная манера приводит к блистательному качеству, старик.
– С кем поведешься, от того и наберешься, – сказал репортер, глядя на Стеллу, почти засыпавшую на краю скамейки. – Не хватало только краткого экскурса в музыку, слегка коснуться живописи, разок-другой пройтись по психоанализу – и можно по домам, завтра всех ждет работа.
– Завтра, – сказал Хуан, – надо сдавать экзамен.
Андрес снял прилипшую к губе пушинку.
– Если говорить все меньше и меньше, – пробормотал он, – то в конце концов придется говорить больше. Хуанито, поэту следует быть монофонным.
– Вот именно, – сказал Хуан насмешливо. – И кончить, как семинаристы Германа Гессе, – онанизмом.
– Интересно, меня тоже тошнит от этого швейцарца, – сказал Андрес. – Однако справедливо признать правоту Клары. Язык аргентинцев богат лишь восклицательными формами в выражении нашей фальшивой трескучей агрессивности да еще тем, что в провинции передается изустно. Самое удивительное – это как мы разделались с прилагательными. Послушай простую испанскую кухарку, как она расписывает паэлью или пирог: она пользуется прилагательными гораздо богаче, чем любой из нас, рассказывая о книге или о чем-то очень важном.
– Это совсем неплохо – опираться на существительное.
– Согласен, однако делаем ли мы это? Далеко не уверен. Боязнь цветистости приводит к поляризации эпитета. И возникает невероятный перечень —
ну и зверь, как он играл Дебюсси,
зверский виртуоз,
ну и талантище, звериный, —
возьми, к примеру, магические прилагательные, циркулирующие в узких кругах, прилагательные для удобства, удобно подменяющие целый ряд слов. «Потрясающий» – одно из таких прилагательных. А раньше было и до сих пор еще сохранилось – «убойный».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































