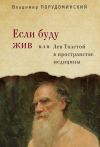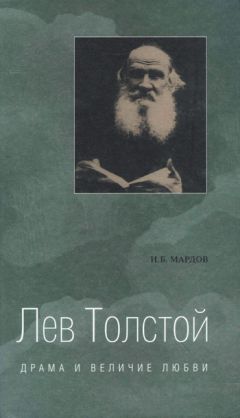
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
6(12)
В 1898 году Толстой прочел чеховскую «Душечку» и восхитился этим рассказом. Попробуем понять, почему чеховская Душечка для Толстого «навсегда останется образцом того, чем может быть женщина для того, чтобы быть счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем её сводит судьба» (41.377).
Чем же Оленька, Ольга Степановна Племянникова (так звалась героиня Чехова) «образец» женщины и, более того, образец на все времена, «навсегда»? Любила она кого попало, а когда никого не любила, то была безучастной, жила без мыслей и в полной сердечной пустоте: «И так день за днем, год за годом, – и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо». И это пустейшее, жалкое существо – образец? А вот Толстой уверяет, что его трогает не только рассказ о любви Душечки, но «еще больше о том, как она страдает, оставшись одна, когда ей некого любить».
«Автор, – объясняет Лев Николаевич, – заставляет её любить смешного Кукина, ничтожного лесоторговца и неприятного ветеринара, но любовь не менее свята, будет ли её предметом Кукин, или Спиноза, Паскаль, Шиллер…»
Люди не называли Ольгу Степановну Лапушкой, Милочкой, Любушкой, а называли Душечкой, и вот как Чехов объясняет почему:
«Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на её полные, розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую, наивную улыбку, которая бывала на её лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить её за руку и не проговорить в порыве удовольствия: “Душечка!”»
Ольга Степановна потому и Душечка, что и плоть и душа её светится той духовной чистотой любви, которая сама по себе вводит душу в духовное благосостояние. Не только глаза и улыбка, но даже шея её излучала благо и святость её души. Любя кого-нибудь или только слушая «что-нибудь приятное», она изнутри наслаждалась, и это состояние душевного наслаждения выливалось вовне, на людей. Зато не любя она страдала. Не так, как страдают от влюбленности, а так, как страдают от безлюбия.
Ольга Степановна способна только на истинные движения души, и она страдала от безлюбия в чистоте душевной, без камуфляжа всяческих дел и мыслей, ничем не одурманивая себя, без тех желаний, забот и «интересов», с помощью которых женщины исхитряются жить не любя. Женские духовные страдания безлюбия невыносимы. Их надо чем-то забить и прикрыть. Оказалось, что их лучше всего забить стремлением жить по-мужски, культивируя в себе мужские достоинства, не несущие чистого свечения любовной духовности. Прикрывая такими способами свои духовные страдания безлюбия, женщина, по сути, отказывается от любви, охлаждает себя, свою душу, работающую в любви. Ольга Степановна так мучительно страдает, страдает в чистоте сердца своего потому, что в ней вовсе нет, нет никаких мужских достоинств, дел и интересов. Её к ним не приучили. А приучили бы, и она могла стать биологом, скажем, или «живописицей». Только вот блага в душе ее несомненно стало бы поменьше…
Ольга Степановна еще и потому Душечка, что она женщина неиспорченной души. Женская душа рушится, когда она не умеет или разучилась любить. Верный внешний признак порчи души женщины – её капризность, грубость и особенно истеричность; истерична женщина всегда только от того или иного рода погашения любви или её недостатка. Безлюбие – разрушение женской души,[55]55
И неудовлетворенность в любви, как и все разнообразные ее мучения, тоже род безлюбия, которое рушит душу.
[Закрыть] а грубость, раздражение, истеричность есть, как Толстой видел на своей жене, последствия этого разрушения. Конечно, внешние проявления этих последствий можно сдержать, но нельзя их сдержать в самой себе. В Ольге Степановне не заметно этих последствий, но не потому, что не позволяют приличия или общая культура, она – антипод женской истеричности, и не по сдержанности, а непосредственно, исключительно благодаря душевной неиспорченности. Душечка духовно страдала в пустоте безлюбия, страдала – и не рушилась! Одного этого достаточно, чтобы вслед за Толстым признать эту женскую душу образцом.
Представить себе не только ругающуюся, а просто раздраженную Ольгу Степановну по рассказу Чехова нельзя. Никогда в ней нет ни слова, даже мысли упрека. Она не умеет требовать и обижаться, предъявлять претензии или свои права. Она не играет в жизни, ничего не выигрывает и не проигрывает, никогда не выгадывает для себя, ни с кем не тягается, не борется за власть или за свое положение рядом с мужчиной, не завидует, не ревнует (хотя и имеет случай), просто боится потерять то благо любви, то духовное благосостояние, которое несет в себе ее душа. Она кротка, искренна, бескорыстна, некапризна, не знает, что можно по-женски давить, устраиваться, рассчитывать, блефовать, ждать и искать услад и развлечений, тянуть к себе и стараться привязать. Ни изменить, ни разлюбить Ольга Степановна не может. Она никогда не говорит «я», всегда – «мы»: «мы с Ванечкой», «мы с Васечкой». К тому же она в высшей степени восприимчива ко всему, чем живет любимый ею человек, за которого она всегда горюет и к которому всегда относится религиозно, отдавая ему всю себя. Это ли не «образец» женского сторгического действия?
Многое в Ольге Степановне не могло не импонировать Толстому. Большинство женщин чувствуют свое превосходство над Ольгой Степановной только потому, что она смогла любить этого Кукина или этого пошлого лесоторговца. Любовь её действительно свята, говорят они, но не Кукин же достоин её. Подразумевается, что будь на его месте Шиллер, Паскаль или Спиноза, то и они бы могли любить так, как любила у Чехова Оленька. Но, согласитесь, что любить Шиллера, отдавать себя Паскалю, признавать превосходство Спинозы нетрудно, во всяком случае куда легче, чем отдавать всю себя Кукину. С Паскалем или Толстым, может быть, и тяжело жить, но женская путевая судьба легче. И разве Софья Андреевна, бескорыстно любя мужа, могла относиться к своему «Лёвочке» столь же трепетно и религиозно, как Ольга Степановна к своему Ване Кукину? Не много найдется женщин, которые были бы достойны любить Льва Николаевича. А Душечка любила так какого-то ветеринара. В каждом из своих любимых она видела совершенство и относилась к нему как к наивысшему существу, т. е. так, как в большинстве случаев не относились к величайшим людям их жены.
Не великий предмет нужен, чтобы любить так, как любила Ольга Степановна; нужна неиспорченная женская душа. Любовью Душечки иначе нельзя любить никого: ни Кукина, ни Льва Толстого, ни Христа. «Без женщин – врачей, телеграфисток, адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, – пишет Толстой, – но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине всё то лучшее, что есть в нем и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее, – без таких женщин плохо было бы жить на свете/…/ В этой любви, обращена ли она к Кукину или к Христу, главная, великая, ничем не заменимая сила женщины» (41.376). Но в какой же любви?
Эта «главная, великая, ничем не заменимая сила женщины» обращена не на того, кто её «достоин» или кого она желает, а на того, кому она нужна. Ольга Степановна прельстилась не мужскими статями маленького Кукина, не интеллектом Пустовалова (Чехов умеет смеяться фамилиями) и не возвышенностью ветеринара Смирника, а только тем, что каждому из них была надобна её женская поддержка. Душечка отдает себя не первому попавшемуся, как это может показаться, а только тому, кому необходима была её душа, её способность любить в мужчине «все то лучшее, что есть в нем». Ольга Степановна так чутко откликается на мужскую просьбу помочь и поддержать потому, что, отдавая себя, она сама испытывает духовное наслаждение. Женщина не женщина, когда в ней нет потребности вхождения в благосостояние помощи другой душе в любви.
Разграничение на диких женщин, которые любят для себя, не давая мужской душе то, что ей надо, и женщин, жертвующих собою, – не верно. Для всегда готовой к жертве Душечки её любовь не жертва, а наслаждение удовлетворением духовной потребности. Кладя душу свою для другого, она не геройствует и не умаляет себя, а, напротив, находит и осуществляет себя. Поэтому в ней нет и не может быть претензии или упрека к любимому – одна благодарность за то, что ей дали возможность любить, за дарование осуществления блага любви её душе. Она боится потерять это благо, благо, которое есть. Конец рассказа так трогателен потому, что Душечка знает, что ей непременно придется расстаться с её гимназистиком, и молит: ещё немного, только не сейчас…
«Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у неё сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.
«Это телеграмма из Харькова, – думает она, начиная дрожать всем телом. – Мать требует Сашу к себе в Харьков… О, Господи!»
Она в отчаянии; у неё холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее её нет человека на всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.
«Ну, слава Богу!» – думает она.
От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко, она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:
– Я ттебе! Пошел вон! Не дерись!»
Представляете, что ей предстоит в жизни дальше…
Не смеяться, плакать хочется. И не слезами умиления, а от обиды за Ольгу Степановну. Она любила опереточного Кукина, и получился вроде бы несмешной фарс. Любила добропорядочного Пустовалова, и была пошлость. Теперь этот чужой ей мальчик, за которого, «за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает – почему?» Быть может, такова её участь?…
При всех достоинствах её души, она обездолена, и жестоко обездолена в жизни. Птицы и лисы имеют своих детенышей, а Душечке, Ольге Степановне, образцу женщины, отказано в этом. Оленька всю жизнь трудилась душою на сторгический союз – как трудилась! – и все вроде бы впустую. Несоответствие её великой женской души и ничтожной судьбы ужасает. Ужас весь как раз в том, что она по своей великой душе находится в полной власти своей судьбы, которая может быть какой угодно и часто (хотя далеко не обязательно) – ничтожной. Отдавая себя и жалея того, кому она нужней, Ольга Степановна не отказывала мужской душе, не выбирала и принимала за своего мужчину того, кого посылал ей случай. Вышла же трагедия: вся «главная, великая, ничем не заменимая сила женщины», весь грандиозный труд сторгического единения души Ольги Степановны именно в сторгическом отношении оказался произведенным вхолостую. Но почему это вовсе не умаляет величия ее души?
Не удивительно ли, что в толстовском восприятии рассказа Чехова нет ничего трагического. Личная неудача или, лучше сказать, жизненный крах им же вознесенной женщины не потряс Льва Николаевича и не вызвал вопроса, подобного тому, какой возникал у него при столкновении с бессмысленностью жизни человека и его смертностью. Почему? Возможно, что все движения ее высшей души, несмотря на видимые поражения в ее земной жизни, совсем не холостые и не бессмысленные. Драматизм ее житейской судьбы только подчеркивает это.
Жизнь Душечке дана, чтобы отдать ее кому-то. Она всегда готова охранять каждого, кого поручит ей судьба. Она любит, кого хранит, и хранит, кого любит. Одна она, без того, кого хранит душою, как бы не существует. К тому же она обладает высшим даром замыкать на себя мужчину и самой замыкаться на него. Жизнь, как это часто бывает, больно и жестоко экзаменует сторгическую силу ее души. И она «несет свой крест», выдерживает свой экзамен обездоленностью судьбы. Чтобы ни происходило в ее жизни, она продолжала быть сама собою, всегда готовой быть душевным убежищем тому, кому это оказывалось нужно. Жизнь колотила ее, а она оставалась целомудренной и при этом податливой на просьбы о помощи, исходящие от мужской души, чуткой к мольбе мужчины о женщине, о женском утешении любви, которая «незаметным внушением» поддерживает и вызывает все хорошее в другой душе, что только и есть действительный и достойный предмет такой любви – равной ко всем женской сторгической любви, отчетливо обретшей черты агапического жизнечувствования. Грань между агапическим и сторгическим в душе Душечки стерлась. Сторгическая любовь в этой душе возведена в сугубо женскую агапическую любовь. Вот что так поразило Толстого в героине Чехова.
«Ваша «Душечка» – прелесть! – писала Чехову Татьяны Львовна Толстая. – Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи».[56]56
Литературное наследство. Т. 68. С. 872.
[Закрыть] С чего бы мудрецу Толстому на старости лет «поумнеть от этой вещи»? Если Толстой и «поумнел», то никак не от своих и тем более чужих мыслей о женской эмансипации, а от чего-то другого.
Ко времени написания Послесловия (1905 год) Лев Николаевич, очевидно, уже устал слушать бесконечные рассуждения своих критиков о несоответствии толстовского разума и толстовского чувства и таланта. Не удивительно ли, что он сам прибегнул к тому же противопоставлению при анализе произведения другого писателя? Антон Чехов, пишет Толстой, подобно библейскому Валааму, желал посмеяться над жалкой героиней, но «вознес ее».[57]57
Кстати, Толстой писал Послесловие к «Душечке» уже после смерти Чехова.
[Закрыть] Что вряд ли справедливо. Чехов, несомненно, учитывал восприятие рассказа публикой, которая реагирует в соответствии с умственными и эмоциональными эпидемиями своего времени. Но все же он писал не пародию, а драму и думал при этом, видимо, не о женской эмансипации, а о несостоятельности и странной участи любви – и именно сторгической любви – в этом мире. Может даже показаться, что то самое, в чем Толстой уличал Чехова, случилось с ним самим: в Послесловии к рассказу Толстой вознес не ту любовь, которую он проповедовал.
Ровная, не усиленная, целомудренная, изливающаяся на всякого агапическая любовь противостоит в учении Толстого любви страстной, исключительной, направленной на одного того, «кто нравится». Если чеховская Душечка постоянно жила в полной готовности к любви, то не только и не столько в силу таинственного жизнедействия Божеской любви в человеке, но более всего для осуществления непреодолимой женской потребности в сторгической любви к мужчине. При всем удивительном благоволении души Ольга Степановна любила земной человеческой любовью. Она ждала и желала того же, чего желала и Наташа Ростова, и Кити, и Маша, – непосредственного объединения своей души с душою «своего» мужчины.
Антон Павлович писал о драме сторгической любви земного человека. Толстой же нашел в рассказе Чехова высший образец агапической любви женщины, образец «навсегда» – и «поумнел от этой вещи».
7(13)
С конца 90-х годов в жизнесознании Толстого происходят значительные перемены. Он оставляет поприще личной духовной жизни и все больше переходит на поприще вселенской духовной жизни. Он перестает отождествлять понятие Жизни с понятием Любви. Связано это с его новыми представлениями о Боге и его существованием в человеке.
Бог – неограниченное нетелесное неизменное Начало; «наше духовное существо» – то же самое неизменное духовное начало, но заключенное в пределы пространства, времени, материи. «Отдельность, несливаемость, непроницаемость одного существа другим может представляться только телом (материей), движущимся независимо от движений других существ. И потому как телесность и пространство, так и движение и время суть только условия возможности представления отделенности нашего духовного существа от всего остального, то есть от неограниченного, не телесного, не пространственного и не движущегося, не временнóго духовного Существа».
«Жизнь есть сознание» (54.173), «сознание Бога, проявляющееся из-за пределов пространства и времени», сознание того, кого Толстой в разное время называл сыном человеческим, духовным Я, «Богом своим», духовным существом человека.
В человеке, по Толстому, – два сознания, то есть два рода жизни. Одно – «высшее сознание: сознание своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей духовности, сознание всемирности». Другое – «низшее сознание: сознание своей отделенности от Всего» (54.173).[58]58
И в продолжение записи: «Первое сознание – своей отделенности – я называю низшим потому, что оно сознается высшим духовным сознанием (я могу понять, сознать себя отделенным). Второе же сознание – духовное – я не могу сознать. Я сознаю только, что я сознаю, и сознаю, что я сознаю, что сознаю и так до бесконечности. Первое сознание (низшее) дает, вследствие своей отделенности, понятие телесности, материи (и движения и потому пространства и времени); второе же сознание не знает ни телесности, ни движения, ни пространства, ни времени, ничем не ограничено и всегда равно само себе. Вся задача жизни состоит в перенесении своего я из отделенного во всемирное, духовное сознание» (54.180).
[Закрыть] Это низшее сознание создает жизнь пределов отделенности, жизнь тела и животной личности, которая не есть «жизнь истинная».
«Жизнь же истинная есть проявление сознания из-за пределов пространства и времени. И она всегда есть». Отсюда с неизбежностью «вытекает то, что составляет основу доброй жизни: вытекает любовь, т. е. признание единства своей жизни со всеми существами мира» (90.142). Это в чистом виде агапическая любовь.
Конкретная работа агапической любви в человеке состоит все же не в единении «со всеми существами мира», а в расширении пределов отделенности. Агапическая любовь расширяет область жизни и тем просветляет человека и приближает его к вселенской жизни (см. 54.111).
Увеличение агапической любви приближает к Богу (54.113). «Сознание свое отдельного существа есть жизнь человека. Сознание Всего – есть жизнь Бога. Любовью, т. е. расширением своих пределов, человек приближается к Богу, но любовь не есть свойство Бога, как говорят обыкновенно: любовь есть свойство только человеческое» (54.155). «Любовь есть стремление захватить в себя Все, сделать свое сознание сознанием Всего» (54.167). «Любовь есть стремление вынести свое духовное Я из своих пределов, сделать своим я жизнь других существ. И в этом вся основа нравственности» (54.166).
Взгляды эти складывались у Толстого постепенно, на протяжении нескольких лет, примерно с 1897 года. Тем не менее и в эти годы Толстой продолжает думать и писать об Обителях, но в его мыслях уже нет тех завязывающихся в земной жизни узлов сторгической любви, на которых ранее держался ход из Обители в Обитель. Через смерть переходит единичное духовное существо: «Я», один (см. 54.49). Одно и то же духовное существо совершает переход из одной формы в другую, когда «я здешнее закончено и начинается новое» (54.46). «Вся жизнь в этом мире есть только образование новой формы жизни» (54.35) – всё того же, а не нового духовного существа. При смерти «уничтожаются только пределы в роде освобождения сжатого газа. Кажется, что он исчез, а он только вступил в новые соединения» (54.121). Задача жизни человека – готовить свою жизнь в следующей Обители. Так что «любовь есть проявление в этой жизни стремления, которое полное осуществление свое получит только после смерти» (54.339).
Пока у Толстого остаются представления об Обителях, до тех пор у него есть, пусть и в скрытом виде, сторгические представления. Так что и в начале 900-х годов Лев Николаевич не совсем отказался от той мысли, которую он хотел исключить из «Христианского учения». «Вся жизнь в этом мире есть только образование новой формы жизни, которую мы познаем в сознании – в том, что мы любим. Чувство самосохранения в молодости и вообще до старости есть не что иное, как противодействие всему тому, что нарушает процесс образования новой формы. Когда же новая форма готова, человек спокойно, радостно переходит в нее, т. е. умирает» (54.35).
«Думалось как-то хорошо по случаю моих отношений к людям близким, что эта близость к ним не безразлична, а обязывает». Обязывает тем, что «через мои отношения с ними я устанавливаю новую форму» (54.47). Это сказано в 1900 году. В дальнейшем у Толстого уже не найти столь откровенно сторгически окрашенных мыслей.
Для любви доступно не «свое другое Я», а только «свое Божественное Я». Более того: «Любовь не есть главное начало жизни. Любовь последствие, а не причина. Причина любви – сознание своей духовности. Это сознание требует любви, производит любовь» (54.186). Отсюда вывод:
«Любовь настоящая есть только любовь к ближнему, ровная, одинаковая для всех. Одинаково нужно заставлять себя любить тех, которых мало любишь или ненавидишь, и перестать слишком любить тех, которых слишком любишь. Одно не дошло, другое перешло линию. От того и другого все страдания мира» (54.150). Это – полный отказ от мысли сторгии ради надмирности агапии.
Людское счастье достигается не в личной духовной жизни отдельной души. «Бог хотел, чтобы мы были счастливы и для того вложил в нас потребность счастья, но Он хотел, чтобы мы все вместе были счастливы, а не отдельные люди. От того и несчастливы люди, что стремятся не к общему, а к отдельному счастью… Высшее же счастье человека – это быть любимым, и потому в человеке вложено это желание (превратно это выражается честолюбием, тщеславием). Для того, чтобы быть любимым, очевидно, надо любить самому» (54.188).
25 февраля 1904 года Толстой пишет о трех ступенях сознания:
«Сознание на первой ступени ищет добра только себе, воображаемому материальному существу; на второй ступени ищет добра только себе, воображаемому отдельному духовному существу; на третьей ступени оно есть добро себе и всему, с чем оно соприкасается: оно ничего не ищет, оно есть, одно есть… На первой и второй ступени я, настоящее я (Божественное) принимает свои пределы за самого себя. Только на 3-й ступени оно сознает себя тем, что есть» (55.15–16).
Долгое время, трудясь на поприще личной духовной жизни, Толстой считал, что в человеке есть плотско-психическое существо, животная личность и духовное существо, духовное Я. Затем, уже на поприще вселенской жизни, он думал, что плотско-психического существа как такового нет, а есть пределы отделенности духовного существа – есть только отграниченное духовное существо и его пределы, представляющиеся нам материальными. Теперь Толстой решает, что и этого отграниченного духовного существа нет так же, как нет материальной личности, что и отдельное духовное существо – плод воображения. По его жизнепониманию 900-х годов, «меня нет, а есть только через меня, через мое сознание, действующая в мире вечная, бесконечная сила Божья. Жизнь в росте сознания: в переходе из первой во вторую и третью ступень и в усилении, в очищении, в оживлении сознания, находящегося на этой высшей степени. В этом усилении, очищении, оживлении, которому нет конца, в этом и смысл жизни, и благо жизни, и всё нравственное учение»(88.317–318).
Во времена работы над «В чем моя вера?» Толстым двигало агапическое чувство жизни. Теперь, спустя двадцать лет, он обрел еще и агапическое сознание жизни, которое выразило себя в учении «монизма жизни».
«Жизнь, которую я сознаю, есть прохождение духовной неограниченной (Божественной) сущности через ограниченное пределами вещество. Это верно» (55.109).[59]59
Но через 10 дней поправка: «У меня написано: Жизнь есть прохождение духовной неограниченной (Божественной) сущности через ограниченное пределами вещество. Точнее надо выразить так: Жизнь есть сознание духовной сущности в пределах. Пределы эти представляются веществом и движением, и потому жизнь представляется прохождением духовного сознания через вещество» (55.111).
[Закрыть]
Жизнь есть проявление Сущего «в бесконечно многих ограниченных сознаниях, которые нам представляются материальными движущимися существами так же, как и мы сами. Эти зарождающиеся и уничтожающиеся сознания суть как бы дыхания Бога. Бог дышит нашими жизнями. Это сравнение неточно. Сравнение будет вернее с живыми клетками тела. Каждая живет и умирает и, живя и умирая, служит всему. Но чтобы сравнение было полно, надо прибавить, что клетка человек (про другие не знаю, но думаю, что и они смутно сознают) сознает то, что он и все другие клетки имеют источником одно общее начало. Из этого понимания жизни прямо вытекает нравственное учение всех религий. Человек, дух, сын Божий, брат всех существ [60]60
Обратите внимание на новое употребление Толстым понятия «сын Бога».
[Закрыть], призван служить всем существам, Всему, Богу. Как хорошо! Особенно ясно выясняется из этого понимания жизни нравственное обязательство не только не уничтожать жизнь существ, но служить жизни. Жизнь всякая есть проявление Бога. Уничтожить жизнь значит уничтожить орган, вместе со мной служащий Богу – служащий и мне» (55.34–35).
Впрочем, через полгода Толстой делает шаг от «человека-клетки» к прежнему представлению об отделенном духовном существе:
«Мне приходит мысль, что переход от жизни животной к жизни духовной, от радостей, интересов животных к радостям, интересам духовным, есть начало, зародыш нового отделенного духовного существа, еще не познавшего своих пределов, еще не пришедшего к сознанию. Когда же существо это придет к сознанию, ему представятся его пределы веществом так же, как и теперь в нашей жизни, и так же он поймет жизнь подобных ему существ, как и мы понимаем в нашей жизни» (55.171).
В конце концов у Толстого устанавливается такой взгляд:
«Человек есть проявление божества, но ему кажется сначала, что он особенное существо: «я». Ему кажется, что он – «я» отдельный, что он человек; а он Бог – проявление его. Не знаю, как животные, но человек не только может, но должен это познать. А познав это, человек не может не полагать свою жизнь в соединении со всем – т. е. в любви. – Последствием этого для человека – благо». И в продолжение этой мысли: «Не любишь себя – пропал. Любишь себя одного – тоже пропал. Спасение только, когда любишь себя и все, т. е. Бога. Когда же любишь так, то Бог становится и тем, что любят, и то, что любишь» (55.247). «Что значит любить Бога? Любить Бога значит любить то Все, чего я сознаю себя частью» (55.284). «И эту возможность участия в жизни Всего мы имеем, когда сознаем себя тем духовным началом, которое дает нам жизнь. Сознание это проявляется в нас любовью» (56.13). «Как живо чувствую теперь, что основа, жизнь есть Божественная частица, сознаваемая нами любовью» (55.282). «Мы то, что мы сознаем. А любовью мы сознаем очень много вне себя» (55.266).
Вера для Толстого, это «внутренняя неизбежность убеждения, которая становится основой жизни» в отличие от «веры как следствия усилия воли, при которой можно сказать: я велю верить, я хочу верить, ты должен верить».[61]61
Из Заключения к исследованию Евангелий.
[Закрыть] Вера в любовь есть собственная, толстовская основа жизни, исходная установка его духовной жизни. Эта вера питала его до конца дней. В 1905 году она целиком основывается на агапической любви:
«Я знаю, что живу в этом мире, что, живя, мне надо увеличивать любовь. Я спрашиваю, для чего это? И ответа нет. Но я верю, не могу не верить, что это хорошо, что это так надо. В этом вера. Когда я спрашиваю себя: кто сделал, что это так, и кто знает, для чего это так? Я тоже не нахожу ответа. Но я верю, не могу не верить, что есть Тот или То, Кто или что сделало это и знает, зачем. В этом вера в Бога» (55.231). При этом «вера любви, как высшего закона жизни, не исключает никаких радостей жизни. Можно играть, плясать, все противное любви делать ЛЮБЯ» (56.121).
Во второй половине 900-х годов Толстой приходит к новому выводу: человек как таковой живет своего рода «двойной жизнью», словно два разных существа. Но это уже не животная личность и духовное Я, как он думал, будучи на поприще личной духовной жизни. По теперешним представлениям Льва Николаевича, человек живет и жизнью своей отдельной духовной личности (в личных пределах отделенности), и жизнью «более обширного существа, включающего наши отдельные существования так же, как тело включает в себя составляющие его отдельные клетки» (56.13). Два взгляда Толстого на человека: как на «человека-клетку» и как на отдельное духовное существо – таким образом совмещаются. Вера в любовь обретает новые черты.
Перенесение сознания из отдельной личности «в более обширное существо» совершается тогда и тем больше, когда и чем больше человек работает – работает исключительно агапической любовью – на благо этого «более обширного существа». Кто же это существо? Это, может быть, и «люди вообще, всё человечество, весь мир, которого мы составляем частичное проявление» (89.61), а может быть, и «Начало Всего». Толстой учитывает возможность первого, но преимущественно развивает второе предположение.
«Так что мы живем здесь и своею отдельной жизнью и жизнью другого более обширного существа, включающего наши отдельные существования так же, как тело включает в себя составляющие его отдельные клетки… Смерть поэтому, может быть, есть только перенесение сознания из отдельной личности в более обширное существо, включающее в себя отдельные личности. И это вероятно потому, что вся жизнь человеческая есть все большее и большее расширение сознания» (56.13).
Общий круг жизни человека состоит из двух частей (см. 55.228). Одна, видимая, часть круга жизни (которая «от рождения к смерти») – в нашей Обители отделенности. Другая часть круга скрыта и проистекает в Обители Бога, которую можно назвать Обителью нераздельности. В видимой части «круга» производится далеко не вся работа. Есть работа и в скрытой части, в составе «более обширного существа». Об этой работе нам, людям, ничего известно быть не может. Но это именно работа, а не отдых и блаженствование, как в раю.
В Обители нераздельности – действующая часть (и большая часть?) жизни духовного существа, только нам непонятная. Там идет непонятная кипучая жизнь «сущностей, какие они действительно суть». Когда читаешь о скрытой части круга, то сам собой возникает образ не имеющего размеров живого, колеблющегося шара, вся поверхность которого состоит из капель, плотно сжатых между собой и стремящихся разлиться – образ «живого глобуса» Пьера Безухова.
Из скрытой части круга жизни, с поверхности «живого глобуса» капля отправляется (посылается?) в навигацию Обители отделенности, рождается в нее, проходит в ней видимую часть круга, что-то совершает и возвращается туда, откуда вышла, в Обитель Бога. Прозрение Толстого состоит в том, что человек живет вместе и «личной» жизнью той Обители отделенности, в которую он родился (капля, отделившаяся от поверхности), и жизнью той Обители нераздельности, куда он возвращается («как человек-клетка»). Проходящее «круг жизни» духовное существо нигде не перестает быть частью «более обширного существа».
Особенно важно отметить, что то духовное существо, которое исходит из Обители нераздельности, проходит полукруг земной жизни и возвращается обратно, не имеет отношения к тому сторгическому существу, которое переходило из Обители в Обитель в учении середины 90-х годов. Это два рода независимых друг от друга духовных существ в человеке, которые могут встречаться или не встречаться, работать вместе или по отдельности. И для духовного существа второго рода, которое назвать мы еще не умеем, может быть ряд Обителей отделенности, но каждая из них – «в круге», который замыкается в Обители нераздельности, в Боге. В Боге не при переходе из Обители в Обитель (как виделось прежде), а в Боге в результате процесса хождения «в круге».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?