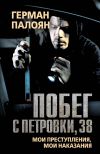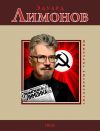Текст книги "Преступления без наказания"

Автор книги: Игорь Онофрей
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Когда завод получал премиальные, ликовали все 10 тысяч. Появлялась возможность быстрее рассчитаться с долгами и отложить на отпуск. Отпуск в обязательном порядке брали все 10 тысяч. В разное время, но и пионерский лагерь, и дом отдыха под Москвой, и пансионат в Сочи были всегда задействованы. Завод содержал свою клинику, спортзал, салон красоты и два кинотеатра.
Те, кого это интересовало, знали о диссидентах, нeконформистах. Читали запрещённые и не совсем признанные книги. Смотрели иностранные фильмы, и больше не из-за сюжета, а из любопытства: как там живут, что надевают и как обставлена квартира. Знали, что там «лучше», но не роптали. Завод встречал новое поколение работников и провожал ветеранов, и все были уверены, что так будет всегда.
После официального развала СССР завод ещё три года работал по инерции. Три года директор отказывался слушать экономистов и плановиков и задумываться о поэтапном сокращении и свёртывании производственных мощностей. К концу третьего года он понял, что чуда не произойдёт. За 3 года его ни разу не вызвали в Кремль или даже министерство. На завод приезжали из Госимущества, но зачем – не говорили. Забрали планы цехов и прочую документацию о владениях завода, но даже не зашли к директору.
Директор был в ярости. Он приказал без его ведома больше на завод никого не пускать. Подобная реакция была вызвана скорее растерянностью, так как он не знал, что нужно и можно делать в подобных случаях. Ещё никто и ничего ему конкретно не говорил, а он чувствовал, что его владычеству наступает конец. Он не боялся за себя. Он жил заводом и для завода. Он знал всех и обо всех. Он женил, разводил, хоронил и даже исподтишка крестил. Его все уважали, и это уважение, как нервная сетка тела, объединяла все 10 тысяч.
Чуть меньше года тому назад к проходной подкатил зелёный джип. Из него вышли трое почти в одинаковых тёмных костюмах явно не советского пошива. Тогда ещё работала вертушка между охранниками-милиционерами и приёмной директора. Один из приехавших приказал сообщить об их приезде директору.
– Приказано никого не пускать без предварительной договорённости.
– Я тебе сейчас такую договорённость покажу, что тебя родная тёща не признает!
– Может быть, он этого хочет, – заржал другой.
Милиционер опешил. Рука машинально потянулась к кобуре. Он слышал о перестройке и больших переменах, но такого неуважения к милиции он просто не ожидал. Неизвестно, что бы произошло, если бы оба милиционера вытащили свои пистолеты, но в замешательстве они непонимающе лишь посмотрели друг на друга.
Кто эти трое? Начальники и партийные боссы и раньше грубили и даже, случалось, били, но часовой под приказом и на посту не имел начальников, только разводящего. Может быть, у этих троих есть такая власть, о которой милиционеры и слыхом не слыхивали?
Они продолжали тупо глядеть друг на друга и этим сдали свои позиции. Продемонстрируй они данную им власть, подкрепив пистолетами, глядишь, дело бы приняло другой оборот.
– Да ты… – начал было орать тот, что обратился первым, но третий остановил его жестом и спокойным, но твёрдым голосом отчеканил:
– Звони своему боссу и скажи, что пришли новые хозяева.
Милиционеры оставались в оцепенении. Максимум, что они могли воспринять, – это смену хозяев квартиры, дачи и собственного автомобиля. И то это обычно сопряжено с определённой волокитой, привычной для законопослушных граждан СССР. Все знали, что политически грамотно называть народ хозяином всего, но были любимые партия и правительство и любимые заводские партия и правительство во главе с директором.
Советский гражданин никогда не подвергал сомнению и критике власть вышестоящую, если не хотел неприятностей. Когда власть менялась, в стране или на заводе, сначала шли слухи, потом появлялись статьи в газетах, а затем обнародовали приказы о назначении нового главы правительства или директора завода, но они верили, что хозяином в стране всегда оставался народ.
В лицах этих троих милиционеры видели не привычную грубость начальства, а пугающую и никогда раньше не испытываемую наглость самозванцев, портреты которых никогда не висели на досках почёта и имена которых не мелькали в газетах и приказах.
Самоуверенный третий снял трубку и ткнул ею в грудь милиционера. Тот взял её, но продолжал смотреть на напарника в надежде, что он выведет его из оцепенения. Тот недоумённо пожал плечами, слова словно застряли в горле…
Он лишь выдавил:
– Звони.
– Тут пришли… говорят, новое начальство…
– Хозяева, – поправил его третий.
– Хозяева, – очень тихо повторил непривычное слово милиционер.
Секретарь в приёмной, видимо, не расслышала его, потому что он почти прокричал в трубку:
– Хозяева!.. Говорят… новые!
Секретарь вошла к директору, он был занят делами и не заметил, что вошла она без предварительного стука. Однако по её лицу он понял: случилось что-то из ряда вон выходящее.
– Там, на проходной, гости… делегация… – А затем после небольшой паузы испуганно добавила: – Говорят, новые хозяева.
Директор поднялся, вышел из-за стола, остановился у грамоты от Брежнева и подчёркнуто медленно сказал:
– Я же распорядился без формальной заявки не принимать.
– Я поняла, – секретарь поспешно вышла из кабинета.
После услышанного ответа секретаря к милиционеру вернулось самообладание.
– У меня приказ – без заявки не пускать.
– Какая там заявка? – грязно выматерился первый в чёрном. – Да я вас, б…й, сейчас так разделаю!!!
Третий опять жестом остановил его и после нескольких секунд раздумья сказал:
– Хорошо, будет вам заявка! Официальная! В трёх экземплярах! И на цветном бланке. Пошли!
Наутро у директора собрался поредевший состав руководства. Все уже знали о происшедшем.
– Что скажете? – обратился директор к начальнику планового отдела. Начальник был, но отдела уже не существовало.
– Ростислав Михайлович, – неуверенно начал плановик. – Вопрос приватизации мы уже обсуждали не раз…
– Я что-то опять не понял, – прервал его директор. – Есть Минфин, Госкомимущества, инстанции, процедуры, протокол. Я готов делать всё по закону, хотя в голове не укладывается, как это после приватизации, как по мановению волшебной палочки, вдруг всё заработает?!
– Ростислав Михайлович! – вступил в разговор главный инженер. – Кто говорит о том, что что-то должно заработать?! Появился человек с деньгами, купил завод у Госкомимущества, вроде бы по выигранному конкурсу, и на месте завода построил бордель для богатых.
– Это гордость советской космической индустрии, – ни к кому не обращаясь, промолвил директор.
Главный инженер встал и подошёл к грамоте Брежнева.
– Вчера по ТВ обсуждали вынос Ленина из мавзолея…
Директор опустил голову. Он не знал, что сказать. Если бы ему сообщили о начале третьей мировой войны, он бы обратился к коллегам с призывом работать для Родины. Третья мировая – это понятно. Вынос Ленина, даже мысль об унижении Ленина!.. Его зазнобило и стало подташнивать.
– Может быть, нам нужна третья мировая война? – непроизвольно озвучил он свои мысли. Присутствующие переглянулись.
– Мы проиграем, – уверил плановик.
– Мы уже всё проиграли. Нет, мы прос…али империю… – возбуждённо проговорил главный инженер.
– И нам не нужна третья мировая. Парашютный десант из Нигерии сделает больше, чем Гитлер во Второй!
Директор переводил затуманенный взгляд с одного на другого. Он вдруг вспомнил о своём друге в райкоме партии. Он всегда с ним общался, когда было трудно. И тот приходил на помощь.
– Страной-то кто правит? К кому обращаться-то в наших делах? – спросил директор и сам понял бессмысленность своего вопроса.
– Вы хотите официальную версию или вам развить теорию? – прищурился плановик. – Да Бог с вами, Ростислав Михайлович! Сейчас-то мы можем обо всём говорить. Когда вы сами-то могли ответить, кто нами правит? Дедушка Ленин, Сталин, Хрущёв?!
– Не трогайте Ленина, – поморщился директор. – Пусть даже правили от их имени, но всё работало…
– Что работало-то? – усмехнулся плановик. – Если бы всё работало, разве были бы мы в этом говне сейчас?!
– Всё работало, – упрямо твердил директор. – Народ заставит прекратить это сумасшествие и вернуть нам мощь.
– Вы сами-то хоть верите в эту вашу мифическую силу народа? – как-то злобно и ехидно подковырнул главный инженер.
– О каком народе вы говорите, – неожиданно для себя самого выдавил бухгалтер. К демократии в беседе с руководством он ещё не привык, но чувствовал, что это уже не так опасно. – О том, который строил коммунизм, или о том, что удушил социализм?
– Как и мы, народ ослеплён и обманут… – пытался поспорить директор. Он уже не удивлялся смелости бухгалтера. Он понимал, что если бухгалтер на планёрке ересь говорит, то, видно, пришла пора воспринять происходящее со всей серьёзностью.
– Это старая избитая истина. Какая же надежда на народ, который веками обманывают такие, как Ленин? – добавил главный инженер.
– Я просил не трогать Ленина, – уже без прежнего напора сопротивлялся директор.
Все замолчали.
– Давайте высказываться по существу, – предложил директор.
– А что по существу? – спросил плановик. – Мы знаем не больше, чем вы, Ростислав Михайлович. Хотите добраться до сути – встречайтесь с новоиспечёнными хозяевами. Раз пришли, то, наверное, с чем-то.
– Давайте покумекаем с недельку. Поразведаем, а встретиться мы всегда сможем, если это неизбежно, – подвёл итог директор.
– Это неизбежно, – сказал плановик перед выходом. – Это было неизбежно с декабря девяносто первого! – А затем добавил: – Нет, это было неизбежно с февраля семнадцатого!
Леон Евстасьевич покидал собрание с тяжёлым сердцем. Как и многие его сверстники, рождённые во второй половине тридцатых годов, Леон Евстасьевич не вникал в политику и предпочитал плыть по течению. Такие, как он, в ряды борцов с властью не вступали. Ровно настолько, насколько это было безопасно, он, как и другие, почитывал запрещённую литературу, слушал «голоса» и знал почти все антисоветские анекдоты, но ни в кругу семьи, ни в кругу собутыльников Леон Евстасьевич ни разу не рисковал «обсуждать». За это власть разрешала таким существовать, а иногда и баловала их маленькими, но приятными привилегиями.
Привилегии состояли из дешёвых путёвок, внеочерёдной покупки мебели и машины, пробивания места в университете для детей и гарантии работы по специальности для всей семьи. Даже если бы судьба и гарантировала таким, как Леон Евстасьевич, полную безопасность, они бы предпочли отсиживаться дома, в то время как «мыслящие» выходили на баррикады.
Историю России Леон Евстасьевич знал хорошо и считал, что ни Стенька Разин, ни Емеля Пугачёв с «народом» историю не изменят, а в последнее время вообще цинично относился к революциям. Он был на сто процентов уверен, что даже если девяносто девять процентов всего населения страны примкнули бы к повстанцам Белого дома в 1993-м, события происходили бы так же и результат был бы тот же. Кроме того, Леон Евстасьевич верил, что вся власть страны – это кукольный театр, а кто дёргает за ниточки, неведомо, и спокойней этого не знать. Всё до этой поры делалось во имя Родины и Народа, а тут вдруг стало ясно, что всегда всё делалось для пяти или десяти процентов и что разница только в том, что эти пять-десять процентов менялись другими пятью-десятью процентами, а остальные девяносто ишачили на них испокон веков.
Леон Евстасьевич не завидовал представителям этих пяти-десяти процентов, так как в этой среде всегда было неспокойно, и редко когда целое поколение или два поколения из этого «сословия» избранных доживали в нормальной обстановке.
Леон Евстасьевич, как и остальные представители девяноста процентов, всю жизнь следили за недообглоданной костью, брошенной народу теми пятью-десятью процентами, и радовались, когда на кости оставалось достаточно мяса, для того чтобы не тянуло на баррикады. Сейчас же Леон Евстасьевич не знал, что думать и как поступать. Он понимал бессмысленность роптания и безнаказанность поведения этих десяти процентов, но наступил период, когда кость стала совсем голой, и появилась, неизвестно надолго ли, возможность не только бороться за место у кости, но и убивать своего зверя на лакомые вырезки.
Для Леона Евстасьевича это выглядело примерно так. Вот вам, господин Алкион, кусок земли и полная свобода. Вы можете что-то выращивать, но семян мы вам не дадим. Вы можете построить завод и произвести ружьё, чтобы убить зверя и получить лакомую вырезку, но денег на завод мы вам не дадим. Хотели бы дать, но не можем. У самих не хватает. Хотите поменять власть? Только попробуйте! Мы вам быстро покажем кузькину мать. На это у нас денег хватает и всегда будет хватать!
За 58 лет его жизни Леону Евстасьевичу всегда всё «давали». Давали право на рождение, детский садик, школу, районного врача и стоматолога, квартиру и гарантированный отдых. Скоро дали бы и пенсию, но нет уверенности, что её будет хватать. В этом возрасте трудно привыкнуть к мысли, что пришло время, когда всё сейчас нужно брать. Раньше ничего не было, но всё доставалось. Сейчас всё есть, но только для тех пяти-десяти процентов. Вроде бы внешне всё поменялось, но по сути ничего не изменилось.
После собрания у директора тревога усилилась. За эти несколько лет пришлось уволить с завода девяносто процентов молодых специалистов и ветеранов. Кто эти новые хозяева? Возможно, они придут со своими людьми. Завод работал на космос, а что будут делать «новые» – неизвестно. Где доработать до пенсии? Все сбережения уплыли в августе 1993-го. Квартира не приватизирована. От ваучеров жена вовремя избавилась. Дети, слава богу, уже в помощи не нуждаются. Где же безоблачная старость, так прославляемая в годы строительства коммунизма? Бухгалтеры нужны будут всегда, но нужны ли будут 58-летние бухгалтеры? Трудно, трудно сейчас этому поколению, брошенному новой системой на свалку истории. Это растерянное поколение, отдавшее свою жизнь во имя тех пяти-десяти процентов, которые и сами-то борются за своё существование, и нет им дела до других, и никогда не было.
Вот и сейчас, сидя у директора, Леон Евстасьевич не знал, что сказать ему. Тот был взволнован после телефонного разговора. После последнего собрания прошло больше года. Леон Евстасьевич понял, что этот звонок как-то связан с приездом новых хозяев, которые больше не появлялись, но все знали – это отсрочка. Зачем директору полгода? Ясно же, что партия и партийные боссы на выручку не придут. Шли разговоры о восстановлении ключевых отраслей, но на заводе никто из властей так и не появился, и восстанавливались только кормушки, которые подпитывали власть и её охрану. Директор верил в возрождение, и, возможно, оно даже маячило для него где-то на горизонте, но Леон Евстасьевич так далеко не видел.
– Нам предлагают приватизироваться, – не глядя на Леона Евстасьевича, глухо промолвил директор. – Знаешь, как предлагают? – И директор приставил палец к виску, как дуло пистолета.
– Но, Ростислав Михайлович, процедура нам не ясна. Все ваучеры персонал на хлеб распродал, и эта приватизация нам лично ничего не даст.
– Не все ваучеры распроданы. Большинство сдали их мне в надежде на что-то. Я не знаю, что это значит в целом, но если нас ещё пока уговаривают, значит, какая-то сила у нас есть?
– Мы не знаем, во что Госкомимущества оценило наш завод…
– Мы никогда и не узнаем. Поэтому наши недавние гости берут всё на себя. Говорят, что будет аукцион.
– Вы верите в эти аукционы?
– При чём тут верю я или не верю? Нам в нём не участвовать.
– Наши ваучеры не дадут нам пятидесяти одного процента, а если дадут пять процентов, то только чудом.
– Мы будем акционерами, хоть какими, но акционерами, и так просто не сдадимся!
– Ростислав Михайлович, сживитесь с мыслью, что вы хватаетесь за соломинку. Мы даже не знаем, с кем и с чем мы сталкиваемся! Райкома-то нет для совета!
– Пойдём, выпьем пива. На это-то денег хватит у нас?
– Своих хватит, – засмеялся Леон Ефстасьевич, – и только на пиво!
Прошёл ещё год. Всё тот же кабинет директора. Всё тот же директор. Та же секретарь в приёмной. Напротив кабинета директора дверь в другой кабинет, где раньше сидел замдиректора. Сейчас на двери табличка, гласящая, что хозяин кабинета сейчас не замдиректора, а председатель совета директоров ООО «Статус».
Леон Евстасьевич – всё ещё старший бухгалтер, но он не помнит, когда в последний раз занимался бухгалтерскими делами. Он даже не знает, числится ли в штате, но исправно получает 500 у.е. в месяц, а это в пять раз больше, чем год назад, когда и при полной разрухе он вкалывал за 100 у.е. – в рублях, конечно. Леон Евстасьевич никак не мог привыкнуть к состоянию безделья, и, хотя никто никогда не интересовался его присутствием, в 8.30 он уже был у себя в кабинете. Каждый день, кроме выходных.
Раньше он при аврале работал и в выходные, но сейчас он бы выглядел глупо, появившись на заводе в один из выходных. Он и так чувствовал себя неловко, но привык и ждал конца года. А там желанная отметка в трудовой – и на покой. Почти все 500 у.е. он откладывал, копил. Не в заводском или городском банке, а в банке из-под огурцов. Он считал, что накопленное будет хорошим дополнением к пенсии размером – примерно – 50 у.е. в месяц. Маленькая дачка и большой огород не дадут умереть с голоду. Новые хозяева обещали щедрое пособие при окончательном расчёте. Каждый месяц он что-то подписывал ниже подписи директора, но после первой попытки узнать, что именно, больше не вникал. Понял, что спрашивать бесполезно.
Директор же очень изменился. На лице постоянная усталость. Исчезли блеск в глазах, властный взгляд и привычная уверенность. Он тоже приходил на завод ежедневно. Тоже что-то подписывал с какой-то виноватой улыбкой, не поднимая глаз от бумаги.
Это сейчас, а Леон Евстасьевич помнит, как 12 месяцев назад пришли те трое и пробыли в кабинете 4 часа. Никого не подпускали к кабинету, даже секретаря выгнали из приёмной. Директор вышел красный, растерянный и, мутным взглядом окинув всех толкущихся в столовой, махнул рукой и вышел.
После выходного всё резко изменилось. Леон Евстасьевич пытался добиться от директора, что же всё-таки случилось, но тот упорно молчал или говорил:
– Позже, мой друг, позже.
Позже Леон Евстасьевич узнал, что с заводом случилось то же, что почти со всеми государственными предприятиями. Сейчас же он, предчувствуя что-то из ряда вон выходящее, грустно посмотрел вслед директору и решил потерпеть до утра.
Утром руководящий состав собрался в последний раз. Все уже знали и, на удивление Леона Евстасьевича, восприняли новости спокойно. Оказалось, что только Леон Евстасьевич не имел беседы с новыми хозяевами, и этим фактом он был очень обижен и огорчён.
– Мы с вами вместе столько пережили, и вы мне ничего не сказали.
Плановик ковырял под ногтями и, не поднимая глаз, виновато оправдывался:
– Я лично думал, вас тоже вызывали и тоже предупредили о неразглашении…
– О каком неразглашении? – воскликнул Леон Евстасьевич.
Плановик растерянно посмотрел на директора, затем на главного инженера, затем опять на директора. Он помнил слова этого толстого в чёрном, что все знают всё, что им нужно, а то, что не нужно, им не нужно знать. Ему и вправду было стыдно, что его давний коллега оказался единственным неосведомлённым. Потупили глаза и директор, и главный инженер. В кабинете воцарилось молчание.
– А что вообще говорить, – нарушил тишину директор. – Этого мы ждали уже год. Да ты не переживай. Мы думали, с тобой тоже говорили и предупредили. Я договорился сохранить всем вам работу на три года. С хорошей оплатой.
– А что мы будем делать? – глухо спросил Леон Евстасьевич и укоризненно посмотрел на всех. Он не мог им простить, что они узнали что-то раньше, а он тем временем оставался в неведении. Главный бухгалтер жалел всех – и директора прежде всего. И себя, и Никитича. Он не раз спасал их от ревизоров и от прокуратуры.
– Да что ты пыхтишь там? – встрепенулся директор.
– Зажали нас всех в угол. Главный инженер тут вообще ни при чём. Я бы мог повыпендриваться, но тогда бы не выбил для вас места.
– Я всё понимаю, Ростислав Михайлович, – всё так же глухо проговорил Леон Евстасьевич, – но нельзя было разрешать им расчленять нас. В единении сила.
– О чём ты, друг мой? Какое единение? Какая сила? Восемнадцать миллионов членов партии – и то оказались не сила. «Вихри враждебные», помнишь, как мы пели? Можно опять запеть. Белая империя пала. Сейчас красная…
Плановик с любопытством взглянул на директора.
– Ростислав Михайлович, я вас поздравляю! Наконец-то вы осознали…
– Да ладно! Завода нет. Что будет, не знаю. Госкомимущества продаёт всё за копейки…
– А что государству остаётся делать, – прервал плановик. – Им выгодно и даром отдать, лишь бы не содержать всю эту бесполезную машину.
– Эта бесполезная машина сохраняла мощь державы, – возмутился директор.
– Держава только тогда мощная, когда народ в достатке живёт. Не машина держала державу, а кровь и страданья людские, – медленно проговорил инженер.
Все замолкли. Леон Евстасьевич заёрзал в кресле. Ему хотелось тоже что-то сказать. Его душила обида, смешанная с отчаянием. Он то прекрасно понимал происходящее, то впадал в растерянность. Даже если бы и пришли слова, вряд ли он осмелился бы их произнести. Леон Евстасьевич ещё не был уверен, что может уже безнаказанно сказать то, что замалчивалось десятилетиями. Он почему-то именно сейчас вспомнил, как вызывали главного инженера «на собеседования» и как все боялись, что, несмотря на политическую оттепель, его могли крепко, словами директора, «стукнуть по голове». Леон Евстасьевич открыл было рот, но, втянув воздуха, просто спросил:
– А конкретней, что нам делать сейчас?
– А сейчас мы все пойдём пить пиво. Есть возражения?
Все обрадовались предложению директора, но из кабинета выходили гуськом, в подавленном состоянии.
Никто больше не вспоминал ту последнюю встречу в кабинете директора. Да и возможностей для другой встречи больше не выпадало. Плановик и инженер, похоже, были вполне довольны своей судьбой. Оба разъезжали на иномарках. Встречая Леона Евстасьевича, радостно кивали или махали рукой, но никто не заходил, как раньше, на чай или на перекур – просто поболтать. Директор часто уединялся с «генеральным» и вызывал Леона Евстасьевича только для консультаций, касающихся общих вопросов или активов завода.
«Генеральный», с еврейской фамилией, поначалу вёл себя интеллигентно. Не давил и не хамил, как сами хозяева. Один из хозяев, тот самый, который появился на джипе с напарниками больше года назад, разговаривал, перемежая свою речь грязным матом, не стесняясь присутствия женщин. Смазливый, всегда одетый с иголочки, с блудливыми глазами и следами хронического похмелья на лице. Ему было безразлично, кто перед ним: интеллигент, заслуженный ветеран или бывший секретарь райкома. Чуть раньше он ходил в шестёрках у одного олигарха, который за заслуги кинул ему кусок, купленный за бесценок. Так из простого телохранителя и мальчика на побегушках он стал председателем Совета директоров. Что это значит, он и сам долго не понимал, но на всякий случай куражился как мог.
С ним Леон Евстасьевич встречался редко и, хоть и привыкший к хамству своих старых боссов, ёжился от выходок этого нового русского. Леон Евстасьевич понял, что так действует на людей власть, и чем её больше, тем больше хамства.
Когда он вошёл в кабинет директора, «хозяёк», как называл его за глаза директор, сидел на углу стола директора и, вынимая пачки стодолларовых купюр из портфеля, выкладывал их перед директором. Леон Евстасьевич редко имел дело с такими суммами в валюте, а его личные накопления за год, сложенные в банку из-под солёных огурцов, казались ему несметным богатством. Рублей-то на своём веку он перевидал, принимая мешки от инкассаторов, но то были казённые деньги, которые не вызывали никаких эмоций.
– Это ты отдашь Краснову в Госкомимущества, это в прокуратуру, там тебя встретят, а эти две держи, пока не сообщу, – тыкал «хозяёк» директору, а тот молча сидел, вжавшись в кресло. По его красному лицу катились капли пота. Леону Евстасьевичу показалось, что директор очень смутился, увидев его – невольного свидетеля этой сцены.
– Послушай, Юра, нельзя ли это решать в другой обстановке? – спросил директор тихо, но мальчик Юра с этим был не согласен и десятью словами, восемь из которых были матерными, объяснил, почему он не согласен. Исключив нецензурную лексику, суть сказанного была такова: Юра никого не боится и знает, что делает.
На столе оказалась кипа пачек: все новенькие, перевязанные банковскими ленточками, с цифрой 10000 на каждой. Леон Евстасьевич не был наивен и знал, что такое взятка, но в таких размерах просто не мог её себе представить. Максимум, что он представлял и сам практиковал, – так это одну такую пачку в рублях, при передаче которой соблюдалась такая строжайшая секретность, что ни берущий, ни дающий сами не верили, что это происходит.
Сейчас же на столе лежали квартира, иномарка, дача и десяток путёвок в Крым. Юра обращался с пачками так, как будто он оставлял их на чай официанту. Он увидел застывший взгляд Леона Евстасьевича и, прищурившись, хитро подмигнул одним, а затем другим глазом.
– Я вчера больше в казино оставил. Всё будет хорошо. И у тебя будет хорошо, – добавил он как бы в оправдание директора. Тот же, не глядя на присутствующих, не сводил глаз с денег.
– Убери, убери и действуй по плану! – Юра одним движением спихнул деньги в открытый ящик стола и, панибратски хлопнув Леона Евстасьевича по плечу, вышел из кабинета.
Леон Евстасьевич слушал директора невнимательно. Слова просто не доходили до него. Все партийные боссы и министры, с которыми директору и Леону Евстасьевичу приходилось сталкиваться до падения СССР, были хамы в той или иной степени. Все когда-то орали и матерились, но они уважали директора и часто извинялись по-своему, по-мужицки. Сам директор никогда не унижался и просто молча выслушивал всех, не теряя самообладания.
«Генеральный» вначале был вежлив со всеми, но постепенно стал подражать своим хозяевам в грубости, к мату тем не менее не прибегая. Но и с ним директор вёл себя как бы виновато, даже подобострастно. Сейчас, слушая директора, Леон Евстасьевич с грустью подумал: «Да, мышь уже глубоко в ухе слона!»
Прошёл ещё год. Завод ничего не выпускал. Все площади были сданы под склады. Леон Евстасьевич потихоньку втянулся в суть новой коммерции и стал управлять молодыми бухгалтерами. Менялись законы бухгалтерии и налогообложения. Менялись чаще, чем все сотрудники могли изучить предыдущие. Правительство всё искало эффективные методы сбора налогов, а фирмы изобретательно уходили от налогов. Леон Евстасьевич понимал, что сидит на пороховой бочке, и не мог дождаться ухода на пенсию в конце года.
Хозяева старательно избавлялись от всего ценного, боясь, что правительство очнётся и всё отберёт. Продавались здания, которые ранее были отведены для детских садиков. Банк купил заводскую клинику, построенную не так давно рядом с оранжереей. Продали и саму оранжерею, которую один армянин превратил в сказочный сад, на котором баснословно разбогател.
Директор подписывал какие-то бумаги. Леон Евстасьевич заметил, что он чувствует себя намного увереннее, чем год назад. Он часто запирался в кабинете с «генеральным» и просил плановика доставать из архивов то чертежи, то папки с документами. Леона Евстасьевича не посвящали в происходящее и на любые его попытки хоть что-то узнать или понять отвечали:
– Не гоношись! Спокойней будешь жить на пенсии!
Леон Евстасьевич особенно не настаивал, однако нутром чувствовал, что теряет не только в осведомлённости, но и материально. Как именно, он не мог понять. Ясно, что и директор, и инженер, и плановик участвуют в какой-то схеме, от которой заметно богатеют. Сам Леон Евставьевич имел доступ только к делам, связанным с расходами и содержанием структуры. Отдел доходов вела очень шустрая молодая бухгалтерша. В её кабинет непрерывным потоком стекались клиенты, арендующие помещения, с сумками, полными наличных. Это были и рубли, и доллары, и каждую неделю все без исключения бухгалтеры считали деньги и вручную, и счётными машинами, которые часто сбивались и жевали купюры. Вечером приезжала машина с автоматчиками, и деньги увозились. Вот на этом осведомлённость Леона Евстасьевича заканчивалась.
Вообще-то он не жаловался. С премиальными (а они зависели не от какой-то официальной формулы, а от настроения хозяев) Леон Евстасьевич скопил около 10 тысяч долларов. Он уже стал бояться этих накоплений и часто вскакивал ночью, проверяя свою банку из-под огурцов. В другие банки он просто не верил и, со злорадством читая об их крахах, всё более убеждался в правильности своего решения.
Накопленного уже хватало на квартиру. Но если бы он купил квартиру, у него не осталось бы запасов на жизнь. Шансов, что он намного увеличит накопления до конца пенсии, мало. К схемам его не допускали, и так бы он, наверное, и прожил оставшиеся до пенсии месяцы на заводе, если бы не одно происшествие.
Неожиданно ушёл – или был уволен – плановик. По-видимому, это чем-то обеспокоило хозяев. Приезжал Юра и грозился кого-то лишить наследства, отрезав соответствующие части тела. Орал он громко и долго. В результате директор вызвал Леона Евстасьевича и попросил его разобраться в делах плановика, обратив особое внимание на сделку по продаже базы отдыха под Москвой. Из разговора он понял, что плановик «зажрался» и хотел сорвать со сделки куш больше, чем положено. Леон Евстасьевич, конечно, не знал, что положено, но плановику не завидовал. Юра, несмотря на свою щедрость, не прощал жадность ни своим, ни заводским подчинённым.
Разобравшись в сути, Леон Евстасьевич понял, что даже для зажравшегося плановика сделка могла быть очень привлекательной. Официально продажа имущества осуществляется по цене, не имеющей ничего общего с его реальной стоимостью. В этом случае база была оценена в 8 миллионов американских зелёных долларов, а в документах было указано 5 миллионов русских рублей. Покупателей было несколько, и плановик терпеливо принимал их обхаживания, получая предварительные подарки, легко помещающиеся в конверт, а потом в карман. Это, по-видимому, надоело покупателям, и они напрямую связались с хозяином. Хозяину срочно требовались деньги, и Леону Евстасьевичу было поручено так же срочно, по конкурсному методу, выбрать покупателя. Вот здесь-то он и понял, почуял, что пришёл его час пополнить, а то и удвоить сумму в своей копилке.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?