Текст книги "Сказки старого Таганрога"
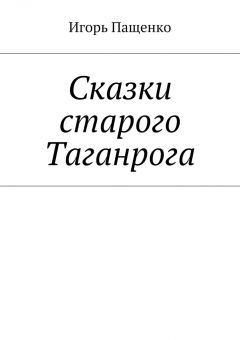
Автор книги: Игорь Пащенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Выстрел
Из дневника Ляли Сфаэлло:
«3 февраля 1910 года.
О, как несносен бывает П.С.! Убила бы! Сверкает своим золотым моноклем, смеется. Давеча гуляли с ним в заснеженном городском парке, пробирались по редким протоптанным дорожкам среди деревьев, разговаривали об искусстве, шикарном великолепии его прекрасного упадка. Как ярко и значительно П.С. рассуждает о всеобщем безверии и гибели старых богов, о новой морали и грядущем сильном человеке! Как страстно он воспевает неизбежную агонию мира! Я смотрела на него и мечтала…
П.С. взял меня под руку, а когда я едва не оступилась, быстро сжал мою ладонь под муфточкой. Я ждала поцелуя, но… Как всегда с нами увязались Кандояки и Чибриков. Тоже мне, доморощенные декаденты. Петруша Кандояки мнит себя байроническим типом, непрестанно хмурит напомаженные бровки и изрекает пустые банальности. Фи! А Чибриков просто дурак, дает волю рукам, стоит П.С. только отвернуться. И ничего он не смыслит в поэзии! Зачем только вьётся вокруг П.С. и меня?
Они все – чернь у трона сильных людей! Я же была в ударе и неотразимо, как умею только я, декламировала стихи. Мой голос необыкновенно дрожал и вибрировал, как космические струны Вселенной! Бездари Кандояки и Чибриков сразу поверили, что стихи мои. Обзавидовались. Ха-ха-ха!
За Дьявола Тебя молю,
Господь! И он – Твоё созданье.
Я Дьявола за то люблю,
Что вижу в нем – моё страданье.
Борясь и мучаясь, он сеть
Свою заботливо сплетает…
И не могу я не жалеть
Того, кто, как и я, – страдает.
Когда восстанет наша плоть
В Твоём суде, для воздаянья,
О, отпусти ему, Господь,
Его безумство – за страданье.
Один П. С. сразу узнал строки Зинаиды Гиппиус, и так многозначительно посмотрел, что меня даже пробрало. Он так тонко чувствует поэзию, красоту и боль моей израненной души. Нет, я решительно влюблена! Как же прекрасно жить в одно время с П.С., дышать с ним одним воздухом свободы!
P. S. Какая же я слабая и трусливая – не могу даже в дневнике написать, о чем я мечтала и что воображала, глядя на высокую лёгкую фигуру П.С. в неизменной клетчатой паре. Мне ещё долго надо трудиться над собой, ломать себя, чтобы быть достойной П.С.».
«5 февраля 1910 года.
Какая же я дура! П.С. уже второй день не даёт о себе знать. Он меня забыл? Бросил? Нет сил вынести бесчеловечную муку! Уж лучше мне нынче же наложить на себя руки и в ослепительно белом платье лежать в гробу, обитом черным с проблеском бархатом (недавно такой видела в лавке мадам Шольц). Вокруг пусть будут горы увядших цветов с нежными жёлтыми лепестками, едва-едва пахнущими, и негромкая трогательная музыка.
Одинокая скрипка… И плачущий П.С. у моего бездыханного тела… О, как он пожалеет, коварный!
В обед заходил Кандояки и жаловался на Гаршина, директора коммерческого училища. Замшелый чинуша не приемлет молодое поколение, помешан на своём Чехове и Пушкиных-Некрасовых. А как же новые яркие гениальные поэты? А, господин Гаршин? Бедный Петруша весь измучился от такого непонимания. Я так же задыхаюсь в купеческом пошлом Таганроге! И когда только П.С. меня увезёт в неведомые дали?
Кандояки лез целоваться, а сам ногтей не стрижёт и не красит. Написал мне в альбоме стишки: «Белый цвет – эмблема невинности. Поэтому-то гимназистки любят пудриться».
Разве можно быть таким бестолковым декадентом? Свою невинность я брошу к ногам растоптать только П.С., лишь ему одному. Но когда же, когда?!
P. S. Вечером телефонировал П.С.! Он назначил мне рандеву у памятника Петру на Петровской! Есть ли люди счастливее меня в целом мире и в Таганроге?!»
«6 февраля 1910 года.
Вчера П. С. долго расспрашивал Кандояки об ужасном удушающем положении в коммерческом училище, где зверствует господин Гаршин. Потрясённый до глубины души, П.С. слушал о том, как директор зажимает все новое, свежее, решительно не принимая, что его затхлое время ушло. Кандояки, что некстати приперся незваным на наше с П.С. свидание, театрально грозился свести окончательные счеты с директором-деспотом. И тут… П.С. с улыбкой вынул из своего клетчатого пальто небольшой серебряный пистолет и протянул его Петруше. Что тут началось! О Боже!
Петруша основательно струсил и предательски ретировался, что, впрочем, было весьма вовремя. Чего можно было ожидать от черни? Они недостойны внимания П.С.! И тогда П.С. повернулся ко мне, и его сумрачный взор, прожигая монокль, заглянул в самые отдаленные тайники моей бездонной души. Он словно звал меня, взывая подняться над жалкими людишками, воспарить в инфернальные пространства, где место только нам, и только нам, сильным и свободным. И я сама вынула пистолет из его руки. Я все для него сделаю!
О, как он благодарно он дотронулся до моего запястья, как я вся затрепетала! Одно только у меня мелькало в голове – нынче же я буду его! Непременно! И я даже не заметила, как все и случилось – его горячие, сильные губы коснулись меня. Можно ли доверить страницам, что было далее? Я была в его власти. Нет, и не будет для меня ничего недостижимого, чего я не сделаю ради этого человека! Завтра я совершу для него свой подвиг!»
– Елена Дмитриевна, послушай, мой друг, ещё одно объявление, – Евгений Михайлович поднёс сложенный пополам «Таганрогский вестник» поближе и, близоруко щурясь, зачитал: «Гимназистки седьмого класса устраивают 18 февраля вечер в помещении технического училища. Сбор с вечера поступит в пользу недостаточных учениц. В качестве исполнительниц музыкальных и литературных номеров выступят учащиеся». Надо бы поучаствовать, как думаешь? Да и своих направлю из коммерческого, пусть внесут лепту в благое дело. А сейчас давай-ка чаёвничать, чего на сухомятку вечер коротать. Прикажи самовар подать.
Пока мадам Гаршина, поправив сползающую шаль, в приоткрытую дверь столовой кликала прислугу, Евгений Михайлович отложил газету и, откинувшись на стуле, привычно забарабанил в задумчивости по столешнице что-то из Чайковского.
– И ты знаешь, друг мой, давеча на Петровской у «Бристоля» одна гимназистка, кажется, воспитанница мадам Янович, так странно на меня глянула, когда мы случайно столкнулись, с каким-то дерзким вызовом. И словно электрическим разрядом ударило! – Гаршин слегка хлопнул ладонью. – Нет, не понимаем мы нынешнее поколение, не ведаем, что с ним происходит, куда оно идёт и кто вожди его. И это пугает. Надо ежедневно трудиться над его воспитанием и образованием, а мы… Что-то оно будет через десять-двадцать лет, когда нынешние молодцы и красны девицы полностью войдут в жизнь? Чем обернётся их нынешнее неверие и скептицизм? Да-с…
Тёплый свет падал из-под абажура на белую в синих васильках скатерть, стекал далее в золотистый полумрак столовой, выхватывая стулья в льняных чехлах, величавый дубовый резной буфет, кадку с подсохшим фикусом. Сквозь прикрытые ставни едва-едва сочился февральский придремавший вечер.
– Евгений, все образуется, – Елена Дмитриевна накрыла ладонью руку мужа. —
Вспомни, как нас самих ругали в восьмидесятые? И нигилисты мы, и нет ничего святого для нас, Россию с нами хоронили. А теперь-то? Все нигилисты сплошь профессора да писатели. Так что и эти в люди выйдут, дай только срок.
В комнату вплыл тихо урчащий самовар. Его слегка помятые бока в пухлых руках кухарки описали дугу и, блеснув выдраенной медью, устроились на столе почти под самым абажуром.
– А вот и чай. Ты не забыл, кстати, что через неделю собрание чеховского кружка? Надо бы всех оповестить. Видела как-то Лонткевича. Он поддерживает твою идею о чеховском спектакле и сборнике. Да и Тараховский недавно в «Приазовской речи» о постановке Чехова писал в редакционной статье.
– Теперь бы денег насобирать на все это.
– А помнишь свою первую статью в «Дне» про Антона Павловича? За малым с ним тогда не разругались. Кто мог думать, что потом так обернётся.
– Ну, не все в его раннем творчестве было однозначно, – Гаршин конфузливо поморщился. – Да и я несколько погорячился…
Елена Дмитриевна примирительно улыбнулась и подвинула чашку под носик самовара… Резкий фейерверк звуков из кабинета словно подтолкнул ее руку, и фарфор пугливо звякнул о донышко самовара.
Гаршины разом вскочили.
– Оконное стекло?
– Ты тоже слышал?
Евгений Михайлович шагнул к двери в кабинет. Нащупав фаянсовый выключатель и дождавшись, когда, помигав, разгорится лампочка, он остановился в шаге от порога и обвел комнату взглядом. У кафельной печи валялась россыпь осколков. Евгений Михайлович, слегка нагнувшись, осторожно всмотрелся. Осторожно подобрал искорёженную пулю.
– Ах, вот оно что! – он с опаской подошёл к закрытому внутренним ставнем окну. В паре десятков дюймов вверх от подоконника зияла внушительная дыра. – И переплёты обеих деревянных рам пробила, надо же… Елена Дмитриевна, срочно телефонируйте в полицию! Это пуля! В нас стреляли!
Евгений Михайлович заглянул в дыру, зачем-то провел пальцем по торчащим по ее краям щепкам и, оглядываясь, покинул кабинет. В прихожей он наскоро накинул на плечи пальто и выбежал на крыльцо. Лёгкая позёмка хороводила по пустой Мало-Греческой. Лишь вдалеке, у дома Варваци, мелькнул одинокий силуэт.
– Любезный! – Евгений Михайлович торопливо сбежал по ступенькам. – Вы никого
здесь не видели? Да постойте же!
Силуэт на миг застыл. Гаршин был уже в шагах десяти от него, когда разглядел длинное женское пальто и меховой платок.
– Сударыня, прошу прощения, но только что стреляли и…
Из-под платка на него зыркнул знакомый взгляд серых глаз с дерзким вызовом. Ещё мгновение, и девушка, вскрикнув: «Пётр Степанович!», нырнула в переулок и вскочила в поджидавшую коляску. Евгений Михайлович, побежав следом, едва успел рассмотреть, как возничий в клетчатом плаще щёлкнул кнутом, и экипаж растаял в снежных сумерках…
ул. Шмидта, 17
Дом с мезонином
Дом градоначальника Папкова или как его ещё иногда называют – Дом с мезонином – одно из удивительнейших зданий Таганрога, связанное с известными именами в истории России. Прежде всего, это сам хозяин – третий таганрогский градоначальник, генерал-майор Петр Афанасьевич Папков – личность ярчайшая, даже по тем неординарным временам. Происходил он из дворян Екатеринославской губернии. Начальное образование получил, как водилось тогда, дома, и в 1784 году, в возрасте 12 лет, был записан вахмистром в Таганрогский драгунский полк. Но настоящая служба его началась в Астраханском, а затем продолжилась в Тифлисском драгунском полках. Прошёл он русско-турецкую войну 1787—1792 гг., участвовал во взятии крепости Анапы. Затем следом попал на русско-польскую кампанию 1792—1794 гг., где был в сражении при Мациовицах, штурмовал под началом Суворова Прагу – предместье Варшавы. С апреля 1796 года Папков в Персидском походе и отличился при осаде и занятии Дербента, а также в других сражениях, дослужившись до капитанского звания. 3 августа 1800 года из рук императора Павла I он получил орден Св. Иоанна Иерусалимского, а осенью того же года стал полковником.
По воспоминаниям русского композитора и музыкального критика барона Б. А. Фитингофа-Шеля, внучатого племянника Петра Афанасьевича, в начале 1800-х годов Папков служил несколько лет в артиллерийском управлении под началом А. А. Аракчеева, а в 1806 году возглавил 14-ю артиллерийскую бригаду в чине бригадного командира. С нею он и принял участие в войне с Наполеоном, славно сражаясь при Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде, за что получил прусский орден «Pour le Méеrite». В декабре 1807 года уволился со службы в отставку с награждением генерал-майорским чином. Но с 1808 по 1810 год Пётр Афанасьевич вновь находился на государевой службе. На сей раз на посту санкт-петербургского обер-полицмейстера, где также отличился и при переводе в таганрогские градоначальники был награжден орденом Георгия III степени. 31 января 1810 года Папков становится Таганрогским, Ростовским, Нахичеванским и Мариупольским градоначальником, главным попечителем купеческого судоходства по Азовскому морю и начальником Таганрогского таможенного округа, навсегда войдя в историю Приазовья. Вскоре после его вступления в должность на побережье Чёрного моря обрушивается чума. Опасаясь её скорого появления в Таганроге и других подвластных ему городах, Петр Афанасьевич воспрещает заход всех судов в Азовское море через Керченский пролив, не испросив на то даже дозволения высших властей. Что, впрочем, было свойственно Папкову, памятуя о его драгунском прошлом. И результаты впечатляют: от Приазовья было отведена страшная чума 1812 года, натворившая немало бед в других южнорусских провинциях империи. Но это решение имеет и другие последствия – из-за затянувшегося карантина Таганрог начинает терять своё значение как торгового порта, уступая первенство Одессе, извечной своей конкурентке. Одесское купечество и чиновничество активно продвигает идею о навечном затворении Таганрога в берегах лишь Азовского моря, перекрыв проход в Керчи, оставляя себе главную роль посредников при торговле хлебом.
Такая политика приводит к тому, что к 1815 году европейские цены на хлеб безудержно растут, а Одесса и Феодосия не справляются с нахлынувшими иностранными судами, из-за чего многие уходят пустыми. И снова Пётр Афанасьевич проявляет себя как истинный патриот города. Оставив пустые многомесячные хлопоты о возобновлении свободного плавания по Азовскому морю, он самовольно распоряжается открыть Керченский пролив. И через год, благодаря хлынувшим в порт за хлебом судам, Таганрог заметно оживает. Тут-то воодушевленный возросшим пополнением городской казны градоначальник и берётся за обустройство вверенного ему города и реконструкцию Таганрогской гавани. Правда, в делах ему часто вредит его всегдашняя грубость с подчинёнными, что вскоре плодит массу влиятельных врагов и недоброжелателей, особенно в среде греческого магистрата и купечества, неохотно расстающегося со своими давними торговыми преференциями.
Все это, а также нарушения по финансовой части, впрочем, вполне обычными для того времени, и послужит поводом для создания сенатской ревизии градоначальства, которая выявит упущения и недостатки, вследствие чего Пётр Афанасьевич Папков и покинет пост. Карьера его закатится, в этот раз уже навсегда. В отставке он поселился в своем имении – селе Красный Кут Славяносербского уезда Екатеринославской губернии, купленном еще в 1812 году у П. И. Штерича (1250 душ крепостных крестьян, 7 тысяч десятин земли), с головой погрузившись в разведение тонкорунных овец и ангорских коз. Да так, что стал членом Главного Московского общества улучшения овцеводства. Из-под его пера выходит ряд научных статей по проблемам овцеводства в «Журнале овцеводства»: «О стаде тонкошёрстных овец» (1833), «Об ангорских козах» (1833) и «О продаже ангорских коз» (1839). Кстати, не чужд был Петр Афанасьевич и промышленного производства: благодаря его стараниям в имении было налажено изготовление сукна на построенной им собственной фабрике.
Дом его после отъезда из Таганрога становится доходным. С 1847 по 1856 год в нем квартирует будущая мать А. П. Чехова, Евгения Яковлевна Морозова. Ей не было ещё 12 лет, когда умирает её отец, Яков Герасимович Морозов, «комиссионер по суконной части» отставного градоначальника, и она вместе с матерью и сестрой переезжает из Шуи в Таганрог, где им и помогает устроиться Петр Афанасьевич. Проживал в этом доме одно время, в 1854—55 годы, после свадьбы с Евгенией Яковлевной и отец писателя, Павел Егорович Чехов. Может и потому ещё, кроме архитектурного сходства, написанный Антоном Павловичем рассказ «Дом с мезонином» связывают с домом градоначальника.
В 1853 году, когда хозяин дома – неугомонный Петр Афанасьевич почивает с миром, особняк по наследству отходит племяннице Папкова баронессе Фитингоф, а уже ею продаётся помещику Миусского округа Области Войска Донского генерал-майору Александру Гавриловичу Реми, личности столь же незаурядной, как и градоначальник, и оставившей заметный след в жизни Таганрога и Дона. Кстати, женат Александр Гаврилович был на правнучке легендарного донского атамана Матвея Платова.
Семья Реми была из французских гугенотов, бежавших в XVI веке в Швейцарию от преследования во Франции. Отец Александра Гавриловича, Жан-Габриэль (1760—1822) начал карьеру военным инженером в Голландии, но в 1787 году перешёл на службу в Российскую армию, где крестился в православии и под именем Гаврила Павлович участвовал в войнах с Турцией, отличившись в боях под Тульчей, Исакчей и при взятии Бендер и Измаила. При штурме последнего, получив контузию и ранение в руку, был жалован Суворовым золотым знаком, уменьшающим на три года срок для заслуги ордена св. Георгия. С 1792 года Гаврила Павлович находился при Черноморском флоте, где участвовал как военный инженер в строительстве Севастополя и крепости Кинбурн. Реми-старший закончил службу в чине генерал-майора и за 25 лет беспорочной службы был награждён Георгиевским крестом. В 1820—1821 гг., доживая век в Киеве, он состоял «братом 3-й степени» в местной ложе «Соединённых славян» – одной из декабристских организаций «Южного общества». По его военным стопам пошли и три сына. Все они участвовали в бесконечных русско-турецких войнах, в подавлении польского и венгерского восстаний, становились кавалерами многих российских и зарубежных орденов, каждый закончил службу в чине не ниже генерал-майора, став, как их отец, кавалерами ордена Святого Георгия IV класса:
Реми Гавриил Павлович, генерал-майор: №2082, 26 ноября 1809 г.,
Реми Фридрих Гаврилович, поручик: №4653, 25 декабря 1831 г.,
Реми Людвиг Гаврилович, капитан: №682, 1 января 1847 г.,
Реми Александр Гаврилович, полковник: №7774, 26 ноября 1847 г.
Наш же герой, Александр Гаврилович, начал военную карьеру в 1826 г., а в 1839 г. получил чин ротмистра в лейб-гвардии гусарском полку, где служил тогда и Михаил Юрьевич Лермонтов. Они сблизились, часто встречались в салоне Карамзиных, где оба принимали участие в любительских спектаклях. Лермонтов даже подарил Александру Реми свой портсигар (хранящийся ныне в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы»). Кстати, там же в «Тарханах», в комнате Михаила Юрьевича, стоят на столе несколько портретов офицеров лейб-гвардии гусарского полка из той серии акварелей, что когда-то они сами заказали художнику А. И. Клюндеру. Среди них и портрет Александра Гавриловича Реми. В апреле 1840 года, с повышением до подполковника, Александр Реми командируется в Новочеркасск к начальнику штаба Войска Донского Михаилу Григорьевичу Хомутову, своему бывшему начальнику по гусарскому полку, куда и отбывает с попутчиком Михаилом Лермонтовым, едущим в ссылку на Кавказ.
По дороге они заезжают в гости к своему сослуживцу по полку А. Л. Потапову, в его имение Семидубравное, что в 50 километрах от Воронежа. По воспоминаниям Потапова, именно тут Лермонтов перекладывает на музыку свою «Казачью колыбельную песню», что стала со временем народной. Там же, в имении случается и забавное происшествие, описанное в 1877 году по воспоминаниям Потапова в воронежской «Донской газете». У него в то же время гостил его двоюродный дядя, генерал-лейтенант Алексей Николаевич Потапов, командир 3-го резервного кавалерийского корпуса, слывший грозой офицеров, и Реми с хозяином Семидубравного справедливо опасались встречи генерала с острым на язык опальным поэтом. Однако за обедом грозный вояка настроен был миролюбиво, не задирался и Михаил Юрьевич. А когда Реми с Потаповым-младшим, ненадолго покинув гостей, вскоре вернулись, то обнаружили их в парке играющими в чехарду, да так, что Лермонтов как раз сидел на шее генерала! Узнав впоследствии об опасениях Реми и племянника, генерал-лейтенант рассмеялся: «На службе никого не щажу – всех поем, а в частной жизни я – человек, как и все».
После Семидубравного Лермонтов и Реми гостят три дня в Новочеркасске у Хомутова, и поэт отправляется далее, к месту службы на Кавказе. Сам же Александр Гаврилович исправно несёт много лет службу при штабе Войска Донского, пока не выходит в отставку в 1868 году в чине генерал-майора.
Селится он окончательно в Таганроге, с которым его давно уже связывают многочисленные друзья и деловые отношения. К этому времени он – образцовый помещик обширных земельных владений в Миусском округе (деревни Синявка, Степановка и Ремовка), владелец нескольких домов в Таганроге. Не чужд Реми и благотворительности: на его попечении состоят Благотворительное общество Таганрога и Распорядительный комитет по постройке театра в городе. В 1869 году он принимает участие в работе статистического комитета в ранге помощника председателя. Через два года жизнь его трагически обрывается в железнодорожной катастрофе под Новочеркасском.
Похоронен Александр Гаврилович Реми около церкви Рождества Богородицы близ Новочеркасска, при архиерейском доме.
Что же касается дома на Мало-Греческой, то в 1915 году он безвозмездно передается семьей Реми под санаторий для раненых на полях Первой мировой войны. В 1918 году в нем размещается Союз увечных воинов, а уже в советское время его превращают в «коммуналку». Сейчас это обычный жилой дом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































