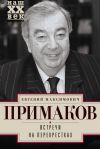Текст книги "Примаков"

Автор книги: Илья Дубинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
17. Слово и штык
Стояла сухая звонкая пора. Пышные липы Гоголевского бульвара вырядились в свой пестрый осенний убор. Их чуть поредевшая листва переливалась всеми оттенками червонного золота.
Люди, как всегда, куда-то торопились, может, и не замечая всей прелести необычно яркой осени. Не замечали и безмолвного укора в мудрых глазах бронзового Гоголя.
В один из последних дней погожего тогда октября на скамейке Гоголевского бульвара сидели только что назначенные в Кабул военный атташе и его помощник. Ждали часа приема высокого начальства. Нас – Примакова и меня – пригласили в Наркомат для последнего напутствия.
Шел 1927 год.
Два года назад в Китай Примакова сопровождала большая группа его соратников по червонному казачеству – Зюка, Кузьмичев, Петкевич, Столбовой. В прокуренном до отказа купе мы прощались с теми, кто уезжал на Восток, где в это время разгорался пожар революции, и самозабвенно пели популярную в годы гражданской войны самодеятельную песенку:
Тучки с громом прогремели, три дня сряду дождь идет.
Наши славные червонцы собираются в поход.
Что ни говори, а на чужой земле человек чувствует себя крепче, ощущая локоть близкого человека. Очевидно, это да еще диплом, только что врученный мне в Академии имени Фрунзе, побудили Примакова позвать меня с собой за Гиндукуш.
Ждать приема пришлось изрядно, и за это время мы с Виталием Марковичем наговорились… Надо прямо сказать – на сей раз создатель и вожак украинской конницы отправлялся за пределы нашей страны без особого энтузиазма.
Почти ровесники… Он был старше меня всего на четыре месяца. А по партийному стажу – на четыре года! И еще надо сказать: как деятель, Виталий стоял выше всех нас, его товарищей по походам и боям, на все сорок голов. Но он не давал это чувствовать никому. Обращался со всеми нами, как с равными, как с близкими друзьями. Ему было чуждо то, к чему прибегают некоторые не очень-то одаренные деятели, – «пафос дистанции».
В Китай в 1925 году бывший вожак червонных казаков ехал с величайшей охотой. Его горячее сердце революционера жаждало подвигов во имя мировой революции, во имя всеобщей победы пролетариев всех стран. Это если выражаться языком той эпохи. Но, помимо пламенной романтики, переполнявшей до отказа двадцатисемилетнего Примакова, было и иное. Напутствовал его добрым словом сам наркомвоенмор. И говорил ему товарищ Фрунзе, как важно, чтобы китайским революционерам пришел на помощь со своим боевым опытом признанный мастер конных рейдов. Во время той напутственной беседы на столе у наркома лежала объемистая книга, выпущенная в 1923 году в Харькове, – «Червонное казачество». В ее авторском коллективе комкор занимал не последнее место. Напечатаны были на одной из страниц того сборника и слова товарища Фрунзе: «Немного найдется таких соединений в Красной Армии, которые могли бы сравняться с Червонным корпусом».
Фрунзе, конечно, был наделен большой властью приказывать. Нарком! И к тому же наркомвоенмор. Но как большевик-ленинец он отличался особым умением говорить с человеком. И не только с командирами ранга Примакова. Об этом мне рассказывал и один из наших боевых комбригов, Иван Бубенец. Перед тем как направить его в быстро росшую тогда авиацию, Фрунзе пригласил его к себе и по-дружески напутствовал на новую стезю…
Теперь же нас вызвали не к наркому, а к начальнику управления. К старому большевику Яну Карловичу Берзину, к бывшему царскому узнику.
Вот тогда Виталий жаловался на то, что со смертью Фрунзе он остался сиротой.
Первый раз, по его словам, он осиротел, когда в 1920 году, не успев еще пожить, ушла из жизни горячо любимая Оксана. Спустя год Виталий Маркович писал: «Жена моя, Оксана Михайловна Коцюбинская, умерла в январе 1920 года, во время родов, рожденный ею сын умер вместе с нею в один день. Это одно из крупнейших несчастий, меня постигших».
Второй раз он осиротел, когда в результате гайдамацких истязаний умер его отец – шумановский учитель Марко Григорьевич Примаков.
Третий раз, когда народ потерял Ленина… Четвертый – недавно, когда в расцвете сил угас Фрунзе. «А сирота, – довольно грустновато улыбнулся мой собеседник, – что тот горох при дороге…»
Глубоко вздохнув, он отметил, что за горячность, свойственную молодым годам, за срывы – спутников неопытности – приходится расплачиваться в зрелом возрасте. Мой начальник чуть разволновался. Мы все знали: вздулись ноздри нашего Виталия – значит, забурлила в нем горячая кровь. Мало того – он порывисто встал, и под его сапогами захрустел сухой гравий дорожки. Тогда асфальта было еще мало даже в нашей столице.
Я догадывался, о какой горячности и о каких срывах шла речь. Летом 1920 года Буденный наступал на Броды, Якир – на Почаев, а червонные казаки Примакова – на Подкамень. Памятные места! Вот летит на коне адъютант Ворошилова – Роман Хмельницкий. Приглашает Примакова в штаб Конной армии. А Виталий, очевидно чем-то ранее ущемленный, сгоряча ляпнул: «Я подчинен не Буденному, а Якиру. И то временно. Если я кому нужен, пусть едет сюда!..»
Да, слово не воробей… Это было. Факт, не говорящий в пользу нашего командира. Опять, видать, выпустил свои коготки теперь уже двадцатидвухлетний «Печенег»… Но этакое бывает и с более зрелыми людьми. Случается и похуже. И в то же время надо прямо сказать, не всем близок второй дар Прометея – забвение. И забвение смерти, и забвение зла…
Смотрел я тогда на своего старшего боевого товарища и думал – что сирота, это верно, но неверно, что ты придорожный горох. Правда, не было уже с нами великого Ленина. На II съезде Советов Владимир Ильич со своей ораторской трибуны обращался и к незаметному делегату – солдату 13-го запасного полка из Чернигова. Спустя два года он уже хорошо знал Примакова и его бойцов. Не только знал, но настоял на том, чтобы в состав Ударной группы, этого надежнейшего заслона Тулы и Москвы, были включены червонные казаки Советской Украины. Ленин в телеграммах Орджоникидзе с решающих участков фронта не раз встречал хорошо известное ему имя Примакова.
Свою горячую любовь и преданность Ленину Примаков внушил и всем червонным казакам. В 1922 году он телеграфировал в Москву: «По поручению бойцов доношу – червонные казаки считают, что товарищ Ленин может ехать в Геную не раньше, чем туда вступит Красная Армия».
Не было с нами и великого полководца ленинской школы Фрунзе, который высоко ценил боевые качества украинской конницы. Но здравствовала большевистская партия. Жил еще Серго Орджоникидзе, который провожал Примакова в снежный рейд на деникинские тылы и потом писал Ленину: «Червонные казаки действуют выше всякой похвалы».
Еще гремели на базарных майданах Украины вещие голоса ее лирников и звенели струны их задумчивых бандур:
Ой, чого ж ви пожурились, степи України?
Пожурились, посмутились, бо нас пани вкрили.
Повставайте та звільняйтееь від паства, кріпацтва.
Дожидае нас, врятує червоне козацтво!
Ой, почули козаченьки тугу степовую,
Веди, батьку Примайченко, мы степ урятуем…
Успокоившись, Виталий снова сел на скамью. Стал предугадывать, чем нам придется заниматься там, за тридевять земель. Он ясно себе представлял, что Афганистан не Китай. Ни о какой военной работе не могло быть и речи. И знал он хорошо, что Кабул – это стык наших и английских интересов на Среднем Востоке. Что если там и предстоит война с силами коварного Альбиона, то война негласная, война неприметная для простого глаза. А это уже была новая для него сфера. Правда, неизведанная, но он ее не страшился. И хотя считал, что и здесь, на Родине, есть еще для него широкое поле деятельности, он готов был всего себя отдать борьбе на новом поприще. Знал и то, что больше, нежели дома, там будет у него досуга.
Предвкушая встречу с многообразием восточной экзотики, он с восторгом говорил о том, что вот там наши перья разгуляются… Надо прямо сказать, вот той самой экзотикой и «завербовал» меня Виталий Маркович в свое закордонное турне.
В то время имя Примакова-литератора уже было широко известно не только в военных кругах. «Рейды червонных казаков», коллективный труд «Червонное казачество», рассказы о Китае – «Записки волонтера», затем книжка «Митька Кудряш».
В образе обаятельного рядового бойца Митьки Кудряша вожак червонных казаков, сменив клинок на перо, показал широким кругам советских читателей мужественный характер, чистую душу украинского парня, который не только делом, но и словом до последнего вздоха боролся за святое народное дело, за дело Ленина. Тем еще привлекательно это небольшое по объему, но значительное по своему звучанию произведение, что оно переполнено безграничной любовью автора, я бы сказал, нежностью, к тем, кого приходилось ему посылать повседневно в бой, в огонь, на смерть.
Под умелой рукой Примакова громили врага тысячи бойцов. Каждый из них жил в его мудром и горячем сердце. Жил не аморфной личинкой, а целеустремленной и ярко выраженной личностью. Таким вот и был герой его задушевного повествования, червонный казак Митька Кудряш, не личинка, а личность – рядовой представитель героической украинской конницы.
Когда зашла речь о будущих произведениях, Примаков залез в карман своих синих брюк, достал изрядно уже почерневшую походную трубку. С этой самой трубкой в зубах весной 1919 года он, под залповым огнем гайдамаков, повел своих бойцов через мост, соединявший Старый и Новый Изяслав. Вот тогда червонные казаки, восхищаясь бесстрашием своего командира, твердили в один голос: «Нашего Примака и пуля не берет!»
Задымив, он высказал интересную мысль – несочинителю трудно написать вещь, а сочинителю трудно ее напечатать. Но он не жалуется. Написать вещь, правда, очень и очень непросто, а в отношении публикации – пожалуйста! Тузы из больших редакций и те просят. Нет отбоя. Только вот времени мало. Но он надеется наверстать упущенное там, в Кабуле.
– Бог, – улыбнулся мой собеседник, – дал человеку две золотые десятки. Это от двадцати до тридцати и от тридцати до сорока. Самый расцвет сил… А потом пойдет серебро, за ним, увы, медь. Одна медь. Пожалуй, первая золотая десятка не растрачена зря. Но вот как будет со второй?..
Что ж? Можно прямо сказать, что и она, вторая «золотая десятка», оказалась полновесной. Ну, а до серебра Примаков так и не дотянул…
Лесть не была у нас в моде. Но я напомнил Виталию об успехе его «Записок волонтера» и высказал мнение, что его будущий рассказ об Афганистане читатель встретит так же тепло.
– «Уж сколько раз твердили миру…» – лукаво посмотрел на меня Примаков. – Ах, эти судьи!.. Наш верховный судья – это читатель. А критики… Есть среди них такие… устраивают «громкие свадьбы» мертвым и «тихие похороны» живым… Я знаю себе цену. Я солдат шестнадцатой роты славного полка сочинителей. Но без шестнадцатой роты нет и полка…
Жаловался Примаков только на скудость словесной обоймы.
– Вот, – в шутку досадовал он, – если б можно было, как на фронте врага, догонять слова клинком или пойти на них глубоким рейдом… Хотя, – добавил он, – слово и штык – не враги. Наоборот – лучшие друзья. Так, например, считает Маяковский.
А я напомнил Виталию его старое высказывание, что в червонном казачестве удержится лишь тот комиссар и того комиссара полюбит казачья масса, кто до боя действует горячим ленинским словом, а в бою – острым казачьим клинком. Тут и слово, тут и штык!..
Примаков повел плечом и сказал, что он этого не помнит.
Мало что приходилось говорить людям за четыре года походов и боев. Записываются и повторяются лишь слова великих, а он человек рядовой и писатель так себе. Вот Маяковский, с которым он недавно близко познакомился, – это сила, это великан, это гигант! И его оценят потом. Может, только после его смерти. «Мы говорим Ленин, подразумеваем – партия…» Это мощь! Как Пушкин: «Глаголом жечь сердца людей…»
Виталий искренне сокрушался, почему не сбылась его мечта, которой он жил в Чернигове, в усадьбе на Северянской, когда они вместе с Юрием Коцюбинским, затаив дух, слушали горячие литературные споры старших – уже тяжко больного Михаила Коцюбинского с его молодыми коллегами Павлом Тычиной и Василем Блакитным.
В 1917 году, вернувшись из Сибири, он взялся было за перо. Громил на страницах киевского «Социал-демократа» меньшевиков, самостийников. Бегал в редакцию на Думскую площадь, чтоб схватить свежий листок со своей собственной заметкой. Но партия сказала ему: перо – это после, а вот клинок – это в первую очередь! И, забыв про свой дар литератора, Примаков стал кавалеристом!
В «Лукьяновке» после суда, дожидаясь более года этапа в Сибирь, Виталий много читал. За книги довелось повоевать с тюремщиками, вплоть до угрозы перерезать себе вены стеклом. И здесь сказался, видать, нрав «Печенега»… В тюрьме, чтоб скоротать время, Виталий пишет стихи.
Может, его волновало и то, что Оксана не без интереса вслушивалась в строчки, которые посвящал и читал ей молодой семинарист Блакитный.
И хотя Виталий в этом соревновании не мог выйти победителем, Оксана все же отдала предпочтение не признанному поэту, а стойкому революционеру, только что вернувшемуся ил ссылки. Не стал Виталий лириком, хотя некоторые его стихи и были опубликованы.
В связи с награждением Демьяна Бедного Примаков писал в 1923 году:
В седельной кобуре и в сумке полевой
Твои стихи возили мы с собой.
На бивуаках, у костров,
Когда стихал орудий гром,
Веселый, острый стих звучал:
На новый бой, на подвиг звал…
Мы шлем привет Демьяну-кавалеру
За то, что поддержал в усталых Силу,
в массах – Веру.
Сокрушался Виталий, что в Харькове, тогдашней столице Украины, литераторы мало пишут о героических делах червонных казаков. Так и вовсе могут забыть о них.
С горечью и досадой Примаков вспомнил недавнюю беседу с одним военным товарищем. Шла речь о стихах Есенина. Собеседник Примакова сказал: «Такого рифмача надо лет на пяток определить в Соловки, а потом пущай строчит». Хоть бы на шахты или на завод, так нет – в Соловки.
– Но… – усмехнулся Виталий Маркович, – хоть всегда и было больше мастеров запретов, нежели мастеров полемики, «бодливой корове бог рог не дает». Тот ненавистник поэтов, между прочим, недавно отличился… Выступал в Академии Фрунзе и врезал такое: «Солдатам говорили – поверните штыки, и они их повяртывали…» Вот этим «повяртывали» он уморил аудиторию. Люди тянутся к грамоте, учатся, но, увы, не все… Понимаю – иметь свое мнение о писателе, о книге – право любого отделкома. Но указывать писателю не положено и командарму. Вести литературу – дело партии, дело выбранных самими литераторами товарищей. Но если они, эти товарищи, начнут совать свой нос в стратегию государства, а наши полководцы – направлять ход художественного творчества, то все мы превратимся в жестоко осмеянных Щедриным пошехонцев. И те и другие будут похожи на солдата, у которого носки вместе, а пятки врозь… Нельзя осуждать, писателя за то, что он не повторяет передовиц, – продолжал Виталий. – Это конъюнктурщики берут из них не столько идеи, сколько формулы. А настоящий писатель – лишь одни идеи. Зато тот вояка вовсю хвалил одного преуспевающего беллетриста. Я его назвал детским писателем. И мой собеседниц очень обиделся на меня, когда на его вопрос: «Почему он детский писатель?» – я ответил: «Он пишет для взрослых, впавших в детство…» «Искра божья!» – усмехнулся Примаков. – Бог, который ею награждает, весьма скупая личность. Одному отвалит полный чувал тех самых волшебных искр, другому – лишь пыль от тех чувалов. В зависимости от того, как писатель использует божий дар, один становится великим гражданином, другой – великим обывателем… Сам бог – раздатчик «искры божьей», видит, как много великих талантов тратят свой священный огонь у пивных стоек… А иной, на все лады воспевающий царя природы – человека в своих книгах, в жизни пинает его ногой. Как и в древние времена, судьба устраивает свои непостижимые шутки – дарит человечеству великого мастера и великого хама в одной упаковке. Больше всего конъюнктурщиков и дает эта категория. А там, где вступает в силу закон мимикрии, глохнет закон совести…
Не так давно известный прогрессивный деятель Канады Петро Кравчук прислал из Торонто напечатанное на грубой оберточной бумаге письмо червонных казаков к «вольным казакам» Петлюры. Этот призыв появился на свет в 1920 году в Тернополе, а оттуда попал в Канаду, чтобы спустя более сорока лет снова вернуться к нам.
Ценность обращения в том, что он полон аромата той бурной эпохи и что он создан пером человека, высоко ценившего силу правдивого слова.
Что ж? Мы помним то время, когда из-под пера Примакова появился на свет этот замечательный документ. Помним и тех одиночек из вражеского лагеря, которые с покорной головой шли к червонным казакам. Помним и те организованные боевые единицы, которые вопреки воле своих атаманов поворачивали штыки и громили полки пана Петлюры и пана Пилсудского.
Нет, слово не может заменить штыка, но оно должно слиться с ним в едином сокрушительном ударе…
18. Перо Примакова
Надо прямо сказать – были в ту пору командиры, которые умели хорошо воевать, но еще лучше – показать сделанное. Примаков был совсем иной. Он умел только вести за собой массы и сражаться.
Ездил он к матери в Шуманы. В Киеве, на Владимирском базаре, звучат еще песни слепых бандуристов о недавнем прошлом. Читал он «Червону Кобзу» Эпика, и больше о червонных казаках ни слова… Написал бы кто о наших людях вроде этого: «Блистая в латах, как в огне, чудесный воин на коне грозой несется, колет, рубит, в ревущий рог, летая, трубит…» Вот динамика, экспрессия, порыв!.. Вот бы сотую долю этой огненной силы ему, Виталию!.. Не просто гнать, а подбирать певучие рифмы – тоже не так просто. Он это знает… Мастер дела тот, кто умеет в стихах тонко изливать свои чувства. И лишь настоящий поэт хватает за душу умением выражать и будоражить большие мысли…
Из одних и тех же кирпичей тот лепит карцер, а другой – школы, один строит мрачный цейхгауз, иной – возводит сверкающий палац. Вообще великое дело – творить, фантазировать, домышлять. И все же сильные чувства вызывает лишь талант, тогда как разжечь сильные ощущения может и посредственность…
Ходил он недавно на литературный диспут в Политехнический музей. Конечно, творчество беззубо, если оно не бесит негодяев, лицемеров, мещан. Но досадно – рядом с исполинами, с витязями слова подвизаются пешки. И не в этом зло. Зло в том, что они «учат». Шепелявый не лезет в оперный класс, безногий – на танцкруг. А вот невежды рвутся на большую трибуну, чтобы учить других, а вернее всего – поучать.
Не нравились ему и некоторые лихачи из «Лефа». В этом ура-новаторском журнале, наряду с настоящими литераторами, рядились в «революционные» мундиры, выступали и сущие хулиганы слова. И поэты, перемежавшие возвышенный «штиль» самой оголенной похабщиной.
– Есть поэт-гражданин и поэт-скоморох, – говорил Виталий. – Есть поэт-патриот и поэт-матриот, то есть любитель мата… Ничто не может извинить неряшливости речи, – утверждал Примаков, не терпевший и командиров-матерщинников, – ни «нервы» одних, ни необузданность и заслуги других, ни терпимость третьих. Ни бесконтрольность, ни безнаказанность, ни распущенность, ни лихость, ни стремление усилить действие команды, ни желание унизить нижестоящего, ни потуги оскорбить виновного, ни желание «поощрить» отважного не могут оправдать сквернословия нашего человека.
Надо, чтобы все – и начальник, и подчиненные, и самые младшие, и самые старшие, и в классе, и в поле, и в атаке, и после нее, и перед лицом друга, и перед личиной врага, и в добре, и в гневе – одинаково чтили и святое имя матери и добрую славу родного языка.
О чем говорит неуважение к родной речи? Оно говорит прежде всего о неуважении к человеку. Человек? За его достоинство лилась кровь на Перекопе, на Висле, на Амуре. Я слышал одного ругателя. Он очень хорошо говорил о человеке с трибуны, а потом, когда перед ним предстал не абстрактный человек, а конкретный… Да! – покачал головой Виталий Маркович. – Иные широко шагают, но щадят людей – это настоящие деятели. Но есть и такие: широко шагая вперед, они попирают людей – это деляги!
В широко раскрытых глазах Примакова блеснули зеленые огоньки. Все чаще подносил он ко рту чубук трубки. И стал он вспоминать. Заговорил о сотнике-поляке Добровольском, старейшем червонном казаке. Случился с ним грех – проиграл всю получку сотни. Шум, крик, топот в штабе – прискакала возмущенная боевая орава. А тут им сказали: Добровольского будут судить. И скорым судом полевого трибунала. Притихли казаки. Пошушукались, а потом вновь загудели, потребовали лист чистой бумаги, усадили за стол своего грамотея, наспех составили раздаточную ведомость. Огрызком карандаша почти все расписались в получении месячного оклада. А неграмотные засвидетельствовали это, с усердием тиснув бумагу большим пальцем. Ворвались в трибунал, а оттуда вынесли на руках своего легкодумного, но боевого командира.
Тут же Виталий сказал, что писатель подобен судье. Тот и другой судят дела и слова людей. А потом объявляют к всеобщему сведению свой приговор. Но если судью прежде всего и больше всего интересуют факты, а потом уже обстоятельства, то для настоящего писателя главное – это обстоятельства, ибо только они помогают раскрыть душу человека. И опять же сокрушался, почему судьба обошла его. Ведь есть же волшебники слова…
И роптал Виталий Маркович зря.
Вот новелла «Песня», написанная им уже после Афганистана: «Бубны глухо загудели под переборами пальцев, загудели в ритме, в лад под плясовую, и в лад взмахнул бунчуком бунчужный, гремя серебряными тарелками и бубенцами. Все веселей и веселей под пальцами и рукоятками нагаек шел на бубнах плясовой перебор, все громче гудели, гремели и звенели тарелками и тарелочками бубны, когда запевалы, толкнув один другого локтем, разом подняли веселый, высокий и частый напев плясовой. И уже после первых слов подхватили песенники, а за ними полк, и плясовая с высвистом, с гиком, под громкий рокот бубнов закружилась над полками, – и казалось, кони пошли бойчее, и самые сонные и невыспавшиеся после ночной стражи казаки окончательно проснулись и пришли в себя».
Если бы можно было тогда, в тот солнечный осенний день на московском бульваре, процитировать этот примаковский пассаж, наверное, сам творец Тараса Бульбы, славного полководца Украины далеких дней, добродушно ухмыльнувшись, утешил бы украинского полководца современности и посоветовал ему не очень-то обижаться на скупость судьбы.
А вот отрывок из его «Записок волонтера»:
«Этот превосходный обычай, введенный Фэн Юй-сяном, – занимать под казармы старые кумирни и монастыри – сэкономил войсковой казне не одну сотню тысяч. И китайский народ, малорелигиозный вообще, не в обиде… Солдаты Национальной армии имеют великолепные чертоги, не всегда, впрочем, удобные: боги любили пышность и были равнодушны к комфорту.
Под сенью старых деревьев члены общества „Гэлаохой“, ставшие солдатами Национальной армии, проходят военную подготовку, занимаются спортом, танцуют превосходный танец „Дао“ и слушают доклады гоминьдановских лекторов…
Старые боги, с прекрасным равнодушием улыбающихся бронзовых лиц, наблюдают эту жизнь, и их руки подняты в неизменном благословляющем жесте…»
Выступал Виталий и в роли историка своей боевой части. Это было в самом начале 1919 года.
Вскоре после освобождения Харькова от петлюровцев столичная газета «Бюллетень Харьковского Совета рабочих депутатов» 9 января 1919 года дала следующую публикацию:
«7 января Временное рабоче-крестьянское правительство Украины постановило: в годовщину образования 1-го полка червонного казачества вручить ему от имени правительства Красное знамя.
Знамя это будет вручено полку на передовых позициях 9 января н. ст.
Прилагаем краткую справку о деятельности полка.
Краткий очерк истории 1-го полка червонного казачества.
В ночь на 27 декабря ст. ст. прошлого года по распоряжёнию народного секретаря Украинской Рабоче-крестьянской республики т. Шахрая был разоружен 2-й украинский полк. Разоружение было произведено 3-м батальоном 2-го украинского полка, сагитированным мною и т. Шахраем и перешедшим на сторону Украинского рабоче-крестьянского правительства при помощи броневой машины, присланной Главковерхом т. Антоновым.
На развалинах 2-го украинского полка был создан 1-й полк червонного казачества, в состав которого лег 3-й батальон 2-го украинского полка, пополнившийся хлынувшей волной добровольцев. Организация полка была поручена мне и теперешнему моему помощнику, атаману 2-го куреня т. Барону. Полк формировался в течение недели, после чего, по распоряжению Муравьева, был двинут на Полтаву.
При наступлении на Полтаву полк шел в авангарде, первым вошел в Полтаву и занял почту, телеграф и телефон, потеряв нескольких человек убитыми и ранеными. В Полтаве полк доформировался, один курень полка под командой покойного т. Сиверса был двинут на Бахмач, другой – под моей командой – на Киев. Полк принимал участие в бою под Киевом, оказал там некоторые услуги рабочей армии, зайдя в тыл неприятелю через Пуща-Водицу, на Куреневку и Подол, для чего переправился через Днепр по льду возле монастыря Межигорья. В Киеве часть полка под моей командой напала на неприятельский авиапарк и испортила 12 аэропланов, вредивших нашей армии. При отступлении из Киева полк входил в состав сводного отряда, начальником которого был т. Чудновский, и, находясь в арьергарде, принимал участие в обороне Дарницы. Дальше он был брошен на Бахмачский участок, принимал участие в четырехдневном бою под Бахмачем, после отступления от Бахмача дрался под Григоровкой, под Талалаевкой, Ромнами, Лохвицей, Ахтыркой, Гутами, Пересечной и участвовал в ряде мелких стычек с неприятелем.
В период эшелонной войны полк почти все время действовал походным порядком. По окончании украинской кампании полк в апреле 1918 года был брошен на Донской фронт, участвовал в осаде и штурме Новочеркасска, в боях под Кривянкой, Персияновкой и в ряде других боев с донскими казаками.
Затем, деформировавшись в городе Почепе, на Черниговщине, полк участвовал в бою под Воробьевкой, под Каменской слободой. В августе – сентябре у гайдамаков 2-го Запорожского полка захватил два орудия трехдюймовых и девять пулеметов в бою под Михайловским Хутором и под Б. Андрийковичами, во время которого один батальон полка после упорного боя был разбит сводной немецкой бригадой из 101-го, 104-го и 438-го полков. После этого в декабре полк был брошен в наступление на Суджу и Мирополье, где в нескольких боях заслужил у немцев почетное название.
Из Мирополья полк был взят для наступления на Харьков, в который он вошел вместе с другими частями в 8 часов вечера в день взятия Харькова. Из Харькова полк был брошен в наступление на Люботин, который и взял при поддержке броневого поезда и 5-го полка фланговым охватом неприятеля.
Наступлением руководил я лично. Ст. Люботин захватила сотня интернационалистов под командой т. С. Туровского.
Затем полк двинулся дальше и на глазах у неприятеля ворвался на ст. Майский разъезд, захватив в обеих станциях богатую военную добычу: много вагонов, больше 10 паровозов и автомобилей, за что получил личную благодарность начальника дивизии т. Бобырева.
Старые кадровые казаки полка, адъютант Б. Кузьмичев, казаки Одерий, Добровольский и др. участвовали с полком больше чем в 25 сражениях, другие же – в 20–23 сражениях, как сотник конной Гладюк и др. При полку за непродолжительное время сформирована сотня интернационалистов, которой командует т. Маркутан.
Атаман 1-го полка червонного казачества В. М. П р и м а к о в».
Очень хотелось Примакову сделать портрет самого колоритного командира полка червонного казачества Пантелеймона Романовича Потапенко, которого из царской каторги освободила революция. Всем нам он напоминал Тараса Бульбу. Такая же мощная и яркая фигура. В записках «На Украине» автор упоминает его несколько раз, но лишь вскользь. И еще мечтал он обрисовать архиерейскую карету, которую командир полка держал лишь для особых гостей. Особым гостем мог стать и вернувшийся из лазарета боевой казак. У Потапенко их было немало.
А вот как бывший барвенковский кузнец принимал молоденьких краскомов. Звал новичков-командиров на конюшню. Давал им щетки, скребницы, конскую амуницию. Сам ходил вокруг и косил глазом. А потом собирал всех: «Вот ты, парень, пойдешь в сотню. Будет из тебя добрый командир. А ты, товарищок, погоняй лучше до канцелярии. Подшивать бомажки тоже надо со старанием…»
К командиру полка, который был старше его на полтора десятка лет, наш начальник дивизии, а потом командир корпуса относился, я бы сказал, с домостроевским почтением. Как это воспитывало в нашей молодежи уважение к старшим!
Любил Примаков вспоминать узкоколейку Чернигов – Круты, по которой поезда двигались со скоростью волов. А главное – идиллию на станции Вересочь. Предусмотренная расписанием пятиминутная стоянка порой растягивалась на целый час. Оборотистая начальница станции не позволяла мужу отправить поезд, пока она не распродаст пассажирам свои бисквитные торты…
Виталий не отрицал к домысла. Иначе не сказал бы он: «Славно перо, умеющее отобразить опыт жизни. Вдвойне славно перо, которое способно выдумку поднять до уровня опыта жизни. И трижды славно то, у которого домысел не отличим от жизненной правды». Верно – как из зерна растет корень и колос, так и из зерен правдивой жизни вырастают пышные цветы и сочные плоды домысла… Как это ни странно, при оценке произведения того, кто делает факты, и того, кто для написания книги собирает факты, преимущество всегда на стороне последнего. Так как для первого всегда наготове вопрос: «А не фактография ли это?»
Конечно, тому, кто собирает факты, в произведении того, кто их делает, любой домысел, работа художественной мысли, осмысливание факта будет казаться простым пересказом виденного и услышанного.
Что такое факты и что такое домысел? Факты – это голые берега, а домысел – это мост, сообщающий этим берегам какой-то определенный смысл. Чисто деловой, утилитарный – если это бесхитростная кладка из двух жердочек, переход через трясину и практически-эстетический – если это Бруклинский мост или же мост Патона.
Непревзойденны красоты днепровских берегов с их живописными склонами, особенно золотой осенью. И все же это лишь одна природа. Но вот в природу (факты) вторгается человеческое воображение (домысел), и на тех же, но уже преображенных днепровских берегах появляется сооружение, потрясающее взор своим изумительным практически-эстетическим смыслом. Мост Патона, известное всему миру чудо, очаровывая умы, преобразил и берег, который является его опорой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.