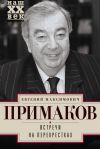Текст книги "Примаков"

Автор книги: Илья Дубинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
20. Крестник чекиста
В ту встречу мы с Примаковым вспомнили одного исключительно одаренного нашего питомца. Виталий Маркович достал томик стихов «Тополь на камне». Полистав его, он с чувством начал читать:
Погоним, покормим коров,
Повынесем яблок из сада,
И каждый румян и здоров,
И каждому больше не надо.
А в сумерки мать за столом
Нам теплую сказку расскажет,
Накормит лапшой с молоком
И медом пампушки намажет,
И так от ворот до ворот,
Полями взращенные дети,
Мы самый беспечный народ
На этом измученном свете.
– Здорово! – сказал Виталий. – Как будто про всех нас, взращенных полями детей сказано… А вот и местный колорит: «Повынесем яблок из сада…» Слово «повынесем» москвич никогда не скажет…
Необычную судьбу одаренного и не в меру дерзкого автора тех примечательных стихов, к сожалению ныне почти позабытого, мы хорошо знали.
…Начнем рассказ по порядку. Иван Крылов, грозный особист одной из бригад червонного казачества, ненавидел контрреволюцию. Наши армейские чекисты знали свое дело. Пользовались всей премудростью разведчиков, чтобы расстроить каверзы врага. При случае ходили в бой вместе с сабельными сотнями. Таковым был и Крылов.
А бывало, в самую горячую пору наш особист забирался в глухие урочища, в пользовавшиеся дурной славой хутора. Спросит строгую хозяйку, можно ли зайти, можно ли присесть, можно ли закурить. А зайдя, присев и закурив, начинал прямо с дела, без хитроумных заходов:
– Мамаша! Я добре знаю – вашего сына зовут Антон, а я Иван. Ему двадцать три годка, и мне столько же. Я езжу на коне, и он не слезает с лошади. По нем болит сердце ваше, и по мне горюет душа моей матушки…
Тут наш чекист сойдет с места, приблизится к хозяйке, деликатно пощупает рукав ее кофточки.
– Вот этот ситчик, не сомневаюсь, ткали у нас в Москве, на Трехгорке. Вся моя родня там гнула горб и гнет. Раньше – на хозяина, ныне – для народа. Там и мои старики, и брат Петр, и Марина с Марией – сестры. Знаю, мало попадает вам того красного товара, так и моя матушка пишет – скудно у них с хлебушком. А почему? Потому что много хлеборобов не сеет, не жнет, а в лесных землянках самогонку хлещет. А взять меня – шатаюсь вот тут по лесным хуторам. Вместо того чтобы мне слать вам ситчику, а вашему Антону отгружать нам хлеб, мы тут шлем друг другу пули… Это же не дело. Пора взяться за ум, мамаша…
Тут хуторянка, растроганная логикой особиста, уже тащит из подполья крынки со сметаной, а Иван отодвигает все эти соблазны и строго говорит:
– Нет, мамаша, не дотронусь и до вашей воды. А вот ежели сюда, за этот стол, в субботу, как стемнеет, придет ваш Антон, то и самогонки с ним выдую полную сулею. Ну, конечно, при вашей подходящей закуске… Я буду без оружия, а ваш сын – как хочет.
Заметив в глазах женщины и тревогу и надежду, он успокаивал ее:
– Мамаша! Я бы мог десять раз сцапать вашего хлопца. Если не живого, то мертвого. Раз плюнуть! Но мне не сцапать его надо. Мне надо, чтобы он, прохвост, сам пришел в сельсовет с повинной. И ежели суждено ему быть прощенным, то пусть ходит за своим плугом не с оглядкой, а с высоко поднятой головой, как ходит честный воин. Ошибавшийся, но честный…
И что ж? Доверившись голосу материнского сердца, приходил – правда, не без опаски – Антон с хутора к Ивану с Пресни…
Гремя стаканами и обсасывая косточки молодого поросенка, оба жарко спорили до рассвета. Бывало, что чубатый Антон хватался за обрез, но тут же на его порывистое плечо ложилась мудрая рука матери, утиравшей слезы кончиком ситцевого платка, возможно, и вытканного родней Крылова. А когда заголосят третьи петухи, Иван встает и строго говорит своему разгоряченному собеседнику:
– Так вот, хлопче, пока была ночь, мы с тобой чокались стаканами, а с зарей чокаться будем нашим оружием, я – своим наганом, ты – своим обрезом. Помни: я для тебя чекист, а ты для меня – бандитская морда, петлюровский выскребок. И сюда, на ваш хутор, я приду или же тебя ловить, или же твоей матери поклониться. Иначе меня и не жди. Выбирай…
И что же? Крепко придерживаясь данного слова, наш особист снова приходил на те, пользовавшиеся дурной славой хутора, чтобы поклониться мудрым деревенским матерям. Приходил и пил там не только воду…
Совершил наш Иван «нарушение» и тогда, когда его сотрудник «Конотоп» влюбился в телефонистку сельсовета. Это было весной 1921 года под Липовцем. Настоящая фамилия влюбленного была другая. А прозвище дал ему Крылов за то, что и его самого мало кто называл по фамилии, а больше «Пресня».
Молодые полюбили друг друга. И какие в те грозные дни могли быть свадьбы? Ни загсов, ни дворцов бракосочетаний… А все же они, свадьбы, были… Вместо пения скрипок молодых благословлял звон острых сабель, кодекс революционной совести заменял клятвы у амвонов, вместо ароматного шампанского молодых пьянила крепость первых горячих поцелуев…
На свадебный ужин к молодым пришел не только Крылов. Он привел и своих сотрудников… За выпивку в те сугубо пуританские времена командир лишался места, а комиссар – и партийного билета. Чекист же, в зависимости от ранга пьянки, мог потерять и голову… Очень просто! Но не слишком-то могли разгуляться родные невесты. И все же нарушение…
Снаружи, наблюдая за подступами к школе, ходил надежный страж-страховка и от дурного глаза и от дурной пули. Скорее даже от пули… Время было такое!.. И вот в разгар веселья поступил сигнал: «Чего-то новый ездовой тачанки все крутится близ школы. Нет-нет и рванется к окну…»
Самый молодой и в то же время самый бдительный уполномоченный выпалил:
– А что? Говорил я, дело нечистое… Взяли мальца на свою голову! И еще этот «Кобзарь» за пазухой… Видел такого артиста! Присмотрелись – за пазухой вместе с «Кобзарем» камень. Маскировка…
Крылов вышел во двор. Спустя минуту ввел в дом подростка, на котором военная гимнастерка и синие штаны с лампасами висели мешком. Но в глазах его сверкали огоньки. И ни тени испуга на лице, что более всего разочаровало сверхбдительного. От протянутого бутерброда парнишка наотрез отказался. Тогда Крылов спросил, пронизывая его взглядом сквозь толстые стекла очков:
– Что, тезка, наскучило возле лошадей?
– Мне лошади не наскучили… Спасибо… Доверили мне худобу. А это я так… Вот хочу им прочитать стих. – Он широко улыбнулся невесте. – Значит, но случаю такого большого дела…
– Что, стих Тараса Шевченко? – ехидно спросил тот, кто всюду видел подвохи, и перевел взгляд на грудь паренька, гимнастерка которого оттопыривалась лежащим за ней «Кобзарем».
– Могу и Тараса Шевченко. А я хочу свое почитать, вот:
О чернобровая Украина,
Мой край премудрый и простой,
Какая сказочная тайна
Твой затуманенный простор!
Покину кручи и байраки,
Покину хаты в рамках нив,
И кто-то долго будет плакать.
Косою очи заслонив…
Голос паренька все крепчал и крепчал, а мать невесты – учительница – от изумления так и застыла с широко открытым ртом… И лишь потом, когда разошлись гости, она долго говорила с Крыловым о его юном ездовом.
Слух об украинской боевой голоте, которая своими острыми саблями крошит гадов направо и налево, долетел и до глухой, разоренной Деникиным Старобелыцины. Долетел вместе с задушевными народными думами о ее славном вожаке.
Стать червонным казаком сделалось неотступной мечтой подпаска Ивана Овчаренко. И упругий ветер хмельной мечты гнал его неудержимо из далекой Луганщины к Днепру через всю Украину. Надежным и верным парусом юному Ивану служил припрятанный за пазухой «Кобзарь».
В декабре 1920 года паренек появился в Тараще. Там стояла 2-я Черниговская дивизия. Изможденный, оборванный, он вызывал у одних жалость, у других подозрение. Крылов, поверив пареньку, сказал: «Будешь у нас ездовым!» А потом, когда требовалась тачанка, особист командовал: «Пусть лошадей подаст Приблудный…»
Лошадей Иван любил. И умел ходить за ними. Выезд содержал в полном порядке, хотя ему и было пятнадцать лет. В постоянных разъездах не расставался с «Кобзарем». Дожидаясь начальства у тачанки, все мусолил карандаш, что-то писал на обрывках бумаги. Потом читал своему тезке собственные стихи. А тезка не забывал наставлений учительницы.
Осенью 1921 года Крылов послал со своим письмом Ивана Овчаренко в Москву. Секретарь райкома партии Красной Пресни Григорий Беленький определил паренька в интернат для одаренных ребят. А из интерната, который находился в Серебряном бору, Иван попал в Высший литературно-художественный институт имени Брюсова. Валерий Яковлевич помог молодому червонному казаку стать настоящим поэтом. Стихи его появились в печати не под его настоящим именем, а под именем, которое ему экспромтом присвоил Крылов: «Приблудного».
В одном из стихов юный лирик обращался к Есенину:
Я еще слаб, мне едва восемнадцать,
Окрепну и песней поспорю с тобой,
Будем как дома – шуметь, смеяться,
Мой стройный, кудрявый, хороший мой…
Эта ли встреча так дорога мне,
Шелест ли тронул так душу мою…
Тополь на севере! Тополь на камне!
Ты ли шумишь и тебе ли пою!!!

Обложка книги стихов Ивана Приблудного
После той встречи с Примаковым, спустя два года, вышла еще одна книга поэта – «С добрым утром». И это была лебединая песня одаренного лирика, славного бойца украинской конницы.
Лексика бывшего ездового прорвалась все же в одном его стихе:
Эти строчки, игривые строчки,
Как игривую юности кровь,
Запрягу в запятые и точки
И отдам под надзор пастухов.
Приблудный вспоминает полный смертельной опасности путь червонных казаков:
Как такие злые дали
Безбоязненно прошли?
Под Проскуровом не пали,
Под Хотином не легли?
Вот письмо, полученное мною от Сергея Бородина:
«Ивана Овчаренко я не только хорошо знал, но и подружил с ним. Большое воспитательное значение имела для него не столько студия Брюсова, сколько круг людей, в который вошел Приблудный. В этом кругу и сложились его отношения с Никитинскими субботниками…
Он писал много, хорошо читал стихи наизусть, свои, Есенина, Клюева, Блока. Читал нараспев, хриповатым, будто бы простуженные на ветрах гражданской войны голосом, запрокинув голову и слегка раскачиваясь, всей позой подражая Есенину… Позже Есенин привык к Ивану, и они часто вместе выступали.
В моей памяти он остался краснощеким, жизнерадостным парубком, любившим привлекать к себе внимание какой-либо экстравагантностью, любившим (в подражание Есенину) изредка покуролесить… Думаю, что этими бравадами он и задел кого-либо из тех, кто мог и захотел его погубить…»
Вспоминаются вещие слова Куприна: «Искусство все перетерпит и все победит». Сила может пресечь дорогу таланту, но не уязвить его. Это та самая сила, которая в беседе с Примаковым требовала Соловков для поэтов…
Наш великий гуманист Алексей Максимович Горький заботился о советских поэтах, и особенно о молодых, совсем по-иному. Приведем выдержку из письма Горького секретарю альманаха «Земля и фабрика» С. А. Обрадовичу:
«…Но если хотите, могу дать совет: как можно больше внимания молодежи! Как можно больше бережливого и заботливого отношения к ней! Из намеченных Вами сотрудников в „молодежь“ я включаю Ар. Веселого, Казина, Н. Тихонова – как поэта и как прозаика, – А. Фадеева, – отлично талантливые люди. А почему не пригласить Леонова, Катаева, А. Платонова, Ив. Приблудного и еще многих!
Будьте здоровы, крепко жму руку,
А. П е ш к о в»
Многие хорошо знают, что путь нашей молодой литературы был извилист и довольно тернист, особенно для юных, увлекающихся сердец. И мудрые правоведы вернули советскому народу настоящего поэта.
Делая только свои первые, еще робкие шаги и обращаясь к учительнице Варваре Васильевне Курячевой, Приблудный мечтал:
У неизведанных дорог,
на много лет и зим,
мне миром задан был урок.
И я им одержим.
Пусть далека глухая дверь,
пусть непосильна кладь,
мне все равно ее теперь
уже не избежать.
…Пока не выпадет мой день,
завещанный векам,
пока на высшую ступень
экзамена не сдам.
Когда же сдам и запою
легко и наизусть,
тебя, наставницу мою,
благодарить вернусь.
В село, где каждый белый дом
на все дома похож,
где в самом белом и большом
ты и теперь живешь.
Сбылась мечта поэта. Через проникновенные строки луганской газеты, сказавшей доброе слово о рано умолкнувшем певце-земляке, Приблудный вернулся в свое село, где «каждый белый дом на все дома похож».
…Сбылась мечта и особиста-дзержинца. После червонного казачества он вернулся к «ситчику». На протяжении сорока лет обеспечивал советских воинов всем «вещпайком», начиная с портянок, вещевых мешков и кончая парашютами, генеральским драпом.
Ныне он живет в родных местах – на Пресненском валу. При встрече с друзьями тех грозных лет Иван Крылов очень тепло вспоминает своего крестника – червонного казака Ивана Приблудного, с его «хриповатым, будто бы простуженным на ветрах гражданской войны голосом». И ныне он его видит темно-русым кареглазым пареньком, в несколько мешковатой гимнастерке, с «Кобзарем» за пазухой… С «Кобзарем», не с камнем…
21. Шпага Примакова и сабли червонцев
После Китая, после Пскова, в котором Примаков возглавлял стрелковый корпус, после двух поездок в Афганистан Виталий Маркович недолго работал в Японии. И все же из Страны восходящего солнца он вернулся с солидным грузом впечатлений.
Его блестящий очерк «По Японии» вышел под псевдонимом, как и его труд о Поднебесной империи. Имя автора, Витмар, расшифровывалось довольно просто – Виталий Маркович.
Примаков в той книге выступает и как острый публицист и как незаурядный художник. В стране, утверждает очеркист, земли и риса предостаточно. Чужие земли японскому народу не нужны, к ним тянутся лишь жадные руки империалистических хищников.
Много внимания уделяет автор зловещей роли в судьбах народа императорского двора, генштаба, концернов, банков, а также мировых хищников – сначала наблюдателей, а потом и активных участников событий. «Тихоокеанская проблема, главным элементом которой является китайский рынок, будет разрешаться империалистами путем вооруженной борьбы».
Слова Витмара сбылись спустя восемь лет. Началось оно с Пирл-Харбора: воздушного нападения японцев на базу американского флота.
Меткое слово находит автор записок для передачи своих богатых впечатлений о различных сторонах жизни страны – о японских богах, о выезде микадо, о землетрясении, о чайных плантациях, о гейшах, о японском фашизме, о парламентских нравах.
Очерк начинается эпиграфом из сочинений кичливого японского полководца древности Хидеоши: «Пойду за море и, как циновку, унесу под мышкой Китай».
А буря внесла в этот план свои коррективы – она раскидала флот хвастливого завоевателя.
Шел 1933 год. С версткой новой книги я полетел в Ростов, к Примакову.
Заглянув вместе со мной к командующему Дмитрию Каширину, одному из первых оренбургских казаков-большевиков, его заместитель Виталий Маркович привез меня к себе. За столом все интересовался житьем-бытьем наших ветеранов. Услышав о том, что боевой командир из шахтеров Домбровщины Иван Хвистецкий работает объездчиком в Жмеринском лесничестве, он весь потускнел и тут же стал соображать, как помочь товарищу.
После обеда с хозяином дома мы пошли в его огромный, казармоподобный, скромно обставленный кабинет. Прежде чем просмотреть привезенную мною верстку, Виталий, теперь уже выглядевший солиднее своих тридцати пяти лет, достал с полки книжку «Первая червонная».
Потом, взявшись за свою трубку, он заговорил о том, что надо готовить народ к новым испытаниям и к новым подвигам. Потому что там, в Берлине, в кабинет имперского канцлера рвется черная сила. А если она еще станет хозяином рейхсвера, тогда… И, ткнув трубкой в лежавшую на столе иностранную карту, сказал, что вот он готовит труд о том, чему немецкий генштаб учит своих генералов и офицеров. Пусть об этом узнают все наши товарищи, вся Красная Армия, чтобы потом нас не застигли врасплох…
После Японии, после командования стрелковым корпусом в Свердловске, вместе с большой группой крупнейших полководцев, в которую входили Якир, Дубовой, Уборевич, Дыбенко, Примакова послали усовершенствоваться в германскую, еще догитлеровскую, военную академию. Вот по своим берлинским впечатлениям он кое-что сделал…
– Народ и молодежь в особенности, – сказал автор будущей книги, – должны учиться на подвигах наших замечательных дивизий – Якира, Дубового, Федько, Чапаева, Азина, Котовского, Щорса, Буденного, Осадчего, Крапивянского.
Тут Примаков перевернул обложку, шмуцтитул «Первой червонной», положил свою небольшую ладонь на портрет. Блеснули в его глазах зеленые огоньки. И сказал, заметно волнуясь, что он весьма уважает этого товарища, но ведь не он создал и вел в бой червонных казаков. Он не тщеславен, но во всем нужна справедливость.
И опять подтвердилось положение диалектики: отсутствие антагонизмов не исключает наличия противоречий…
– Противоречие, – говорил как-то Виталий, – берет начало не извне, а в нас самих. Голова решает: надо больше напилить дров к зиме, а руки протестуют – устали. В купе твой лучший боевой друг, но ночью – это уже лютый враг: он храпит. Ты идешь на риск и рвешься в глубокие тылы противника, а твой сосед требует, чтобы ты никуда не уходил, оберегал его фланги. Противоречия! А ведь оба служим одному делу. Без противоречий нет жизни.
Виталий сказал, что недавно в Москве, в Центральном тире они встретились с наркомом. Климент Ефремович похвалил Примакова: «В очках, а как лупит…» После стрельб они тепло побеседовали. И, видать, все старое забыто. Мне показалось, что все это очень радовало и окрыляло заместителя командующего Северо-Кавказским военным округом.
– Был у знаменитого Ротшильда племянник, – усмехнулся Виталий. – Дядя-банкир ему помогал, но дела у родственничка не процветали. Пришел он однажды к своему покровителю, а тот: «Опять деньги?» Племянник ответил: «Нет, дядюшка, пройдитесь со мной один лишь разок по Парижской бирже». Ротшильд выполнил просьбу – и дела племянника расцвели… Так и со мной. После той беседы в тире случилось чудо – кто со мной не здоровался пять лет, за пять километров козырял. И вот с амплуа «летучего голландца» попал я на живую работу, в армию… Это могло бы, думаю, случиться и раньше. Но надо было напомнить кое-кому о его обещании… Мог бы это сделать один человек – Серго… Так не в моей натуре просить о себе…
Я вспомнил инцидент на польском фронте – приезд адъютанта Романа Хмельницкого в штаб к Примакову и дерзкую реплику Виталия в адрес Буденного. И попутно: рассказ Данило Сердича – друга Дундича. После неудачного боя командарм с плеткой в руке обходил фронт. Сердич, чуя недоброе, выхватил наган: «Виновен, отдайте в трибунал, но не смейте тронуть…» Командарм отступил, но в тот же день сделал командира полка Сердича комбригом. За это тому полководцу честь и хвала! А вот Примакова…
Рассказ о встрече в тире пришелся мне по душе. Прежде всего, думал я, отпало то, что раньше так волновало Виталия. А потом… Мы часто вспоминали народную присказку: «Паны дерутся, а у мужиков чубы трещат»… Вспомнить хотя бы дело старейшего червонного казака, героя гражданской войны Пантелеймона Потапенко. Значит, наступила новая, светлая полоса во взаимоотношениях… Надолго ли? А ведь еще пять лет назад с грустью вырвалось у моего старшего товарища: «Есть работники, которые при любых веяниях удерживаются в седле, а есть, которые при любых веяниях летят под копыта…»
Стал Виталий потом жаловаться на недостаток времени.
– Лето – пора лагерей, учений, маневров. Надо торопиться с этой работой, – провел он трубкой по карте, – и страсть как хочется сказать теплое слово о червонных казаках. Кое-что уже сделано для сборника «С Маяковским».
Да, несколько новелл вошло в тот сборник. Те, что были уже написаны, а не те, что он собирался написать. Он их так и не сделал – времени уже было в обрез…
Потом я извлек из полевой сумки привезенную мной верстку «Золотой Липы». У видов лишь титульный лист, Виталий Маркович многозначительно и с неприкрытым изумлением посмотрел на меня. На его губах появилась лукавая усмешка.
До этого мы виделись в Москве три года назад. Сразу же после афганской операции. Тогда у нас не было речи о том, что он собирается писать новеллы, а я – роман о нашем освободительном походе в Галицию. Тем более не мог тогда возникнуть разговор о названиях для произведений, которых не было даже в проекте. А получилось так, что записки для альманаха «С Маяковским» назывались «Над Золотой Липой».
Примаков первый объяснил это «чудо», хотя в ходу не было еще всеобъемлющего слова «телепатия».
Тема у двух авторов была одна. События – одни. Герои – одни. И география – одна. Вот та география, к которой часто прибегают не только начинающие авторы, таила в себе много заманчивого. Весьма популярная река Золотая Липа и в царскую войну и в гражданскую являлась исходным рубежом всех сражений за Галичину, за ее столицу – древний город Львов.
Примаков вспомнил мою книгу о разгроме Деникина «Контрудар».
– За посвящение спасибо! И за посвящение и за отвагу…
Это не всем может понравиться. Иное время – иные песни. Мне-то что, а вот автору…
На авантитуле книги значилось: «Червонному казачеству, закалившему меня. Большевику Примакову, закалившему червонное казачество».
Да, в отношении того посвящения Примаков как в воду глядел…
Влас Яковлевич Чубарь, премьер Украины, отпустил меня всего на сутки. И я, торопясь, прочел Виталию лишь одну стержневую главу романа – о совещании в Сарниках перед Стрыйским рейдом.
В печати уже появилось множество противоречивых оценок той весьма броской и малоэффективной операции. Писали о ней все корифеи оперативного искусства, в том числе Егоров и Якир. И еще один уважаемый автор утверждал, что хотя в Стрыйском рейде сабли червонцев действовали замечательно, шпага Примакова была не на высоте. Вот почему до опубликования романа его автор ощутил острую потребность в беседе с автором самой операции… И не только с ним. Много ценных советов дал мне, прочтя рукопись, Якир, активный участник Галицийской битвы.
В документе для военных историков Виталий Маркович пишет: «В Галицийском походе нам удалось сделать еще несколько рейдов, из которых наиболее интересен рейд на Стрый, заставивший противника отступить с линии р. Золотая Липа к реке Днестру».
Какой-то писатель изрек: «Скажи, друг, что моя книга плоха, но что она лучше предыдущей». Стрыйский рейд, Примаков и сам это признавал, был значительно хуже предыдущего – Проскуровского, зато после Стрыйского были иные. Они оказались куда лучше Карпатского. Их результатом была полная ликвидация большой армии Петлюры.
В Сарниках не без влияния Примакова было решено двинуться к Стрыю и дальше – в Карпаты, раздуть там искры восстания, тлевшие в массе дрогобычских и бориславских горняков. Мечтали потом вместе с ними спуститься в долину Тиссы, в Венгрию… В доме Коцюбинских была благодатная почва для созревания и боевых мыслителей и мудрых мечтателей.
Во второй половине августа 1920 года решалась судьба всей антиантантовской кампании. Красные полки под ленинскими знаменами уже подошли вплотную к столице пана Пилсудского. Тухачевский, командующий Западным фронтом, в те дни тщетно добивался переброски Конной армии Буденного, застрявшей под Львовом, к Люблину. А Якир и Буденный, штурмовавшие в эти же дни столицу Галичины Львов, ждали, что Примаков со своими казаками ударит с тыла – на Комарно-Городок.
Буденный считал, что Варшава будет взята Тухачевским собственными силами, без Конной армии, а Примаков был твердо уверен, что Буденный с Якиром сами овладеют Львовом без червонных казаков…
Конная армия вместо Люблина продолжала штурмовать Львов, а червонные казаки вместо движения на Львов с тыла устремились в Карпаты. В двадцатидвухлетнем начдиве Примакове победил не мыслитель, а мечтатель. Шутка ли – пылающие Карпаты и пожар мировой революции на просторах Венгрии!
Вот почему критики, воздавая должное шпаге Примакова за все прочие рейды, Стрыйский вписывали в ее пассив. Ну, а критика не всем приятна. А наш Виталий был, как сам он утверждал, из обыкновенных самый обыкновенный.
Ему не очень-то нравилась в моей книге глава о совещании в Сарниках. Он открыл важные, неизвестные мне обстоятельства, обусловившие движение червонных казаков в Карпаты, а не ко Львову. Вернувшись в Харьков, я и внес в текст ряд исправлений.
Не исправил лишь я одного. В конном корпусе червонных казаков было шесть бригад, по два полка в каждой. Всего двенадцать полков. Внушительная сила! Полагая, что через малое можно показать и большое, я вывел в романе «Золотая Липа» червонное казачество не как корпус из шести бригад, а как бригаду из трех полков. То есть против реального уменьшил силу украинской конницы Примакова ровно в четыре раза…
Как раз тогда стали много писать о Первой Конной. Рассказывая о подвигах этого действительно славного соединения, историки оставляли в тени подвиги Второй Конной армии, конных корпусов Думенко, Каширина, Гая и украинской конницы – корпуса червонного казачества Примакова.
Виталий за эту «трехполковую бригаду» имел все основания укорять меня. И укорял…
Говорят, те выступления в печати, осуждавшие Стрыйский поход Примакова, весьма огорчили его. Ведь он, планируя операцию, размахнулся очень привольно. И полагал, что ее реализацией червонные казаки не только дадут толчок подземным силам революции там, за Карпатами, но и существенно помогут Буденному и Якиру, атакующим Львов. Особенно огорчила Виталия появившаяся в «Военном вестнике» статья лучшего его партийного и боевого друга Ионы Якира.
Незначительность эффекта Стрыйского рейда, вызвав досаду у всех истинных ценителей боевых свойств и качеств советской конницы, ничуть не умалила полководческого реноме Примакова. Его боевые удачи с лихвой перекрывают отдельные просчеты и срывы. Их было не так уж много. Но были…
Вспоминается бой за Синяву летом 1920 года. Досадная гибель отличного командира полка Новикова – любимца всего червонного казачества и самого начдива. Гибель командира полка и его лучших джигитов, тех, кто в прямом смысле этого слова шли за Новиковым в воду и в огонь. Шли и обожглись насмерть вместе со своим храбрейшим вожаком.
Хоронили их на тихом сельском кладбище-цвинтаре. И поныне, спустя почти полвека, жители Шпичинцев отдают должное и памяти героев и их могилам.
«Безумству храбрых поем мы песню!». Песен не было, но полковой хор трубачей похоронным маршем «Вы жертвою пали» проводил в последний путь своего героя-командира и погибших вместе с ним бойцов.
Спросить бы тогда любого казака – и любой сказал бы: «Плакать – дело бабье». Но тогда хоть и скупые, а падали слезы на остриженные гривы. На стриженые гривы боевых коней, и на нестриженую гриву Мальчика – резвого скакуна начдива…
Словно стыдясь минутной слабости, Примаков поднял глаза. И тут во взгляде рядом стоявшего Евгения Петровского, своего земляка и военкома дивизии, он уловил безмолвный укор…
При выполнении священного долга перед Родиной все ее воины равны – и солдат и командир. Но один, выполняя тот долг, ставит под огонь лишь свою жизнь, другой – и свою и жизнь своих подчиненных.
Вот эта сложность, когда от человека требуется достичь труднодостижимое и в то же время быть в ответе за свои действия перед законом, перед родными солдата, перед своей совестью, и вызвало, очевидно, требование Петра Первого, вошедшее с тех пор в боевые уставы, – добиваться победы малой кровью…
Под Шпичинцами крови было много, а победы не было. Был, напротив, весьма ощутимый урон. Для червонного казачества, для Красной Армии. Понимали это все, и прежде всего уяснил себе, всю тяжесть промаха молодой начальник дивизии – автор той горькой операции.
Может, если бы не было позади боев за Киев с гайдамаками Центральной рады, славного похода из лесов Нейтральной зоны через Харьков к берегам капризной и коварной Горыни, рейдов на Фатеж – Поныри и на Льгов, решавших судьбу столицы Советской республики, жарких схваток с башибузуками Улагая под Перекопом, начдив уловил бы укоры за ту атаку и за Новикова не только во взгляде военкома…
Да! Все знают – Новиков отличался горячностью. Врага не всегда одолевают силой. На войне сплошь и рядом берет верх дерзость, безумство, натиск. Молодой офицер военного времени, польщенный доверием командования, не нуждался в понуканиях – сам лез в огонь и умел зажигать безумством храбрости своих джигитов. Это Новиков под Перекопом вылетал в широкую степь, выкликая на сабельный поединок улагаевских всадников.
Кто-кто, а Примаков хорошо знал и своих комбригов, и своих командиров полков, и своих сотников. Знал их особенности и дарования, привычки и манеры, их психический склад и темперамент – все то, из чего слагается боевой почерк и солдатский характер вожака.
А не хуже начдива изучил этих людей комиссар. Когда решался вопрос об атаке синявского участка, где легионеры, словно кроты, глубоко ушли в грунт, оградив себя с фронта и с флангов мощными капонирами, он назвал имя командира 2-го полка. Никто лучше Потапенко и его хлопцев не мог выполнить с успехом атаки, требующей методического, со строгим расчетом, напора.
Знал это и Виталий Маркович. Знал он хорошо, что 4-й полк не станет тратить время на скрупулезную подготовку штурма. Знал он, что натиск будет стремительным и бурным. Будет такая атака, которая повлечет за собой немало жертв, но эти жертвы окупятся сторицей… Не раз подвергая свою жизнь опасности, на сей раз Примаков поставил под огонь головы своих самых лучших подчиненных.
Но и ставить людей под огонь можно по-разному. Вот это понял тогда, после Шпичинцев, молодой начдив, чувствуя себя в ответе перед памятью своих храбрецов, перед их родными и семьями, перед своей совестью…
Вот почему и на нестриженую гриву коня начдива тогда, после синявского боя, падали скупые слезы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.