Текст книги "Архив"
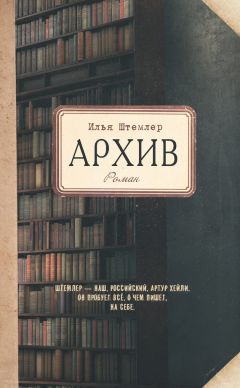
Автор книги: Илья Штемлер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Глава вторая
1Неприятности тянулись за Женькой Колесниковым, точно песочный след под хвостом ящерицы. И как он ни старался укрыться от глаз начальства, его отыскивали и вызывали на ковер… Вот и сейчас. Едва он вернулся из кабинета Софочки, где его пылесосили за самоуправство с сундуком, как явилась Тамара – секретарь и повела растопыренной пятерней в сторону, где таился Колесников за грудой дел, извлеченных из сундука. Это значило, что Колесникову предлагалось явиться к директору в пять часов. Тамара подмигнула левым порочным глазом, налила без спроса из термоса полчашки чая и, осушив в два глотка, соизволила поделиться мнением, что правды в этом мире все равно не добиться, что все уже заведомо поделено между ловкачами. Она это давно поняла, смирилась, и ей хорошо.
Колесников проводил секретаршу рассеянным взглядом.
– Не надо было задираться, – говорила Тая, дерзкая на язык студентка-практикантка. Она взяла опекунство над бедолагой Колесниковым довольно навязчиво и открыто. – Кто в наше время выступает против начальства? – зудела Тая, придвигая Колесникову бутерброд с домашней колбасой. При этом она ловко отгораживала стол, за которым временно разместилась Нина Чемоданова.
– Не слишком ли много ты на себя берешь? – хорохорился Колесников, от бутерброда он не отказывался.
Что касалось Чемодановой, то Колесников наблюдал за ней в огромном зеркале, распластанном во всю стену, с пола до потолка. Как в монастырской схиме очутилось такое зеркало – являлось загадкой. Но заведующая отделом хранения использовала зеркало по особому назначению. Лет десять назад обнаружили пропажу некоторых документов, с которыми работали сами сотрудники архива. Установить, по чьей вине это случилось и когда, довольно сложно, и Софья Кондратьевна настояла на том, чтобы с особо важными документами работу вели в общем зале отдела хранения, под зеркалом, что вбирало и своих, и чужих. К примеру, сейчас зеркало держало своим оком «чужака» – сотрудницу отдела использования Нину Чемоданову.
Изогнув тонкую шею, проросшую на затылке рыжеватыми колечками, Колесников проговорил, обращаясь как бы в никуда:
– Где они, знатоки искусства? Где они среди нас? – он рассчитывал на отклик Чемодановой, которая считалась в архиве человеком, неравнодушным к искусству. – Такой материал… Вот! Письма Сергея Дягилева жене Врубеля, Надежде Ивановне. Письма Бурлюка, Рериха, Шагала… И это все держали под спудом!
– Что вы кричите, Женя? – Тая покосилась на безмолвно сидящую Чемоданову.
– Это ж надо, а?! Что они держали под спудом! – продолжал Колесников и прошелестел пожелтевшими сухими страницами: – «Многоуважаемый господин Бенуа! Ваш коллега, господин Мережковский, написал о футуризме как о грядущем хамском движении на святое искусство. Мережковский обнаружил в себе боязнь, что грядущий хам вырвет у него самку, и завыл, как настоящий мандрила или готтентот…»
– Что такое готтентот? – ревниво перебила Тая.
– Господи… Дослушай до конца! Готтентот? А черт его знает. Вроде знал, на языке вертится.
– Готтентоты – это древние племена Южной Африки, – отозвалась Чемоданова бесстрастным голосом.
Колесников вытянул палец вверх и укоризненно посмотрел на Таю.
– Ну и что? Зато я знаю, что такое мандрила, – ответила практикантка. – И даже видела людей, похожих на мандрилу. – И добавила шепотом: – Когда мне будет столько лет, как ей, я тоже буду знать о готтентотах.
Колесников возобновил чтение:
– «Хамы все идут, один за другим, и в наше время сколько их прошло. Моне, Курбе, Гоген, Ван Гог, Милле, хам Сезанн и еще более охамившиеся Пикассо и Маринетти, не говоря уже о нас, доморощенных хамах. А господин Мережковский стоит на площади нового века, среди бешеного круговорота моторов в небе и на земле, смотрит обезумевшими глазами, держит кости Цезаря над седой головой и кричит о красоте. Но слова его не слышны на небе. А на земле ближе и понятнее рев пропеллера», – Колесников запнулся, разбирая почерк. – Так, так… «Но, господин Бенуа, хам ли пришел? Хам ли желает воздвигнуть новое?» …Не пойму. Ну и почерк… «Да, вам, господин Бенуа, привыкшему греться у милого личика, трудно согреться у лица квадрата. Я тоже согласен, что Венера будет потеплее, но голландская печка еще теплее. Но теплота первой мне не нравится, очень уж смердит потом цезарей». – Колесников умолк, разглядывая письмо. – Тая! Что у вас было по палеографии? Тройка? – Колесников пододвинул к Тае письмо.
– «Нет, господин Бенуа, – не найти вам секрета заклятия и не вогнать меня в стадо свиней, – бойко начала Тая. – Ибо секрет заклятия есть само искусство творить, а оно во времени, а время больше и мудрее свиней. И на моем квадрате никогда не увидите улыбки милой Психеи. И никогда он не будет матрацем любви… Константин Малевич. 1916 год, май… Постскриптум. Ввиду того, что в прессу двери нам закрыты, пишу Вам лично…» Все!
– Молодец! Слушай, у тебя дар, – проговорил Колесников.
– По палеографии у меня пять, – съязвила Тая.
Колесников благоговейно раскладывал письма. Как они оказались в сундуке?!
Колесников подровнял листы. Надо бы отдать реставраторам. Кое-где фразы совсем блекли и пропадали. Только вряд ли Софочка подпишет направление на реставрацию. Опять раскричится: «Тут документы основного фонда продают через комиссионные магазины!» Скандал, что она закатила в «Старой книге», до сих пор стоит у Колесникова в ушах. Как она взнуздала директора магазина, этого субчика Анания. То, что Софья Кондратьевна не оставит это дело, сомнений не вызывало.
Колесников взглянул в зеркало. Он видел черные смешливые глаза Чемодановой.
– Женя! Ты плохо кончишь, – произнесла Чемоданова. – В тебе сидит тихий черт. И твоя эта… странная прическа.
Колесников прижал ладонью нелепо торчащие жесткие волосы. Чемодановой он мог простить многое. Из всех дам, что работали в архиве, он с особым благоговением думал о ней, и каждое ее замечание весьма беспокоило – значит, она видит, а не бездумно скользит черными глазами, точно из окна автобуса.
Каждый раз при мысли о Чемодановой он уводил ее в свою квартиру, где за вечно сохнувшим бельем пряталась дверь в его комнату. Он усаживал Чемоданову за стол, заваленный книгами, пакетами с несвежим кефиром, ломаными кусками хлеба, сахарной крупой. Ужасно стыдясь за такую убогость. Постепенно мысль его смелела, и вот уже, отдаваясь фривольности, он пересаживался с Чемодановой на тахту, которая отвечала жутким скрипом на каждый вдох и выдох. А потом… Потом он не знал, что и делать. Колесников в свои двадцать семь лет был еще совершенно неискушенным молодым человеком, измученным страстями. Страсти терзали его ночами до боли в висках, и он успокаивал себя доступным мальчишеским способом, рисуя в воображении увлекательные сцены. Тетка злилась. Она врывалась ночью в его комнату и вопила на весь дом: «Перестань скрипеть тахтой. Тебе нужна баба, ты же здоровый парень. Не хватает, чтобы ты еще свихнулся!..» Иногда она засылала к нему в комнату каких-то девок. Те приходили, садились у заваленного стола и начинали «интеллигентный» разговор. Это вгоняло Колесникова в краску. Но однажды не устоял. Это была очередная теткина диверсантка, приемщица бутылок гастронома № 4. Довольно смазливая особа с крепкими пальцами. Она ввалилась к нему с тортом и вином «Акстафа» и объявила, что будет дожидаться тетку. Попросила принести тарелку для торта. Колесников минут пять возился на кухне, выбирал тарелку, мыл в раковине рюмки. А когда вернулся – обомлел. На его скрипучей тахте вольно раскинулось белое ленивое тело. Крутое бедро царственно возвышалось над этой снежной и какой-то бесконечной грядой…
– А мне любопытно, мне просто интересно, что ты за фрукт, – толстуха хохотала. – Не бойся, тетка не придет, мы договорились.
Все произошло торопливо и невнятно. Такое состояние он испытывал в парной, когда проникал туда из прохладного предбанника. Едва успев ухватить глоток свежего воздуха, он вновь задыхался от обвала горячего густого марева, ощущая себя муравьем в середине тарелки с теплой манной кашей. Старая скрипучая тахта обнаружила запас необыкновенной пружинистости.
«Господи! – думал тоскливо Колесников, взлетая чуть ли не к потолочному светильнику. – Да когда же это кончится?»
Наконец толстуха угомонилась. Идиллически подставила ладонь под круглую кошачью голову и, поглаживая утлую пупырчатую грудь Колесникова, проговорила со всем доступным кокетством:
– Слушай, ты нормальный мужик… А работаешь в архиве.
Колесников из последних сил напрягал мышцы под ее ладонью, демонстрируя свою далеко не растраченную мощь. И старался справиться с предательским дыханием.
Когда толстуха говорила, складки жирного живота противно шевелились, набегая друг на друга, подобно морскому прибою.
– В прошлом годе я переводилась из торга в торг, нужна была справка. Ходила в архив. Там сидела какая-то жердь в очках. Неужели ты там работаешь, в архиве? Шел бы ко мне в подсобники.
Колесников сейчас казался себе неутомимым и сильным.
– Это совсем другой архив, – он снижал до мужественной хрипоты тембр голоса. – Архив – это опыт государства, народа.
– Понятно, – перебила толстуха. – Все же ты цыпленок. Сидишь среди бумаг. А во мне вот сколько силы… Тетка твоя говорит – входи, Клава, в семью. Будешь опорой моему дураку, возьми его на пробу. А что? – и толстуха лениво куснула Колесникова за мочку уха.
Колесников вскочил на ноги. То ли от боли, то ли от сознания мерзости происходящего. А вероятней всего, от испуга.
– Уходите отсюда! Убирайтесь вон! – заорал он, прикрываясь простыней и забыв о благородной хрипоте усталого от любовных утех мужчины. – Тоже, нашли кого вербовать!
Толстуха хохотала как сумасшедшая, натягивая на белые колонны ног черные колготки, прошитые малиновой кафешантанной клеточкой. Хохоча, она вывалилась из комнаты, бросив на прощанье через плечо:
– Кретин!
Колесников долго сидел, оглушенный короткой и такой мерзкой встречей, опустив голову в седловину мослатых плеч.
Назавтра, возвращаясь из столовой, Колесников поведал Брусницыну эту историю, уповая на то, что Брусницын как председатель месткома посоветует что-нибудь дельное в отношении злосчастной комнаты, что связывала его с опостылевшей теткой.
Брусницын жевал свои пухлые губы. Казалось, он еще сидит в столовой. Потом повернулся к Колесникову и произнес:
– Везет же тебе… Белая крупная женская грудь, мягкая. Чтобы не охватить взглядом… За что тебе такое везенье, Декабрист?
В тоне Брусницына звучала искренняя тоска и страдание.
История эта волновала Колесникова несколько дней. Однажды он после работы зашел в гастроном № 4. В окне, где принимали посуду, распоряжался какой-то длинноволосый с сигаретой во рту…
«Наваждение и только», – думал Колесников, а в сознании образ Нины Чемодановой все настойчивей оттеснял хваткую белокожую соблазнительницу… И горше всего ему было за убогость своей холостяцкой клетушки. Иной раз воображение так зримо разыгрывалось в сознании, что, казалось, визит Чемодановой в его логово был свершившимся фактом. Особенно он стыдился старинного шкафа, куда Чемоданова, как ему думалось, попытается повесить свой плащ. Шкаф походил на сутулого старика с бурой задубевшей кожей, а лопнувшие сухие балясины напоминали вывернутые временем суставы. Шкаф был одной из немногих реликвий, добравшихся из жизни, о которой Колесников имел весьма смутное представление. Жизнь эту он, как ни странно, отождествлял не с покойной матерью, а с бабушкой Аделаидой, старухой волевой, энергичной. Дух бабки Аделаиды, казалось, еще витал в квартире, в которой, к сожалению, мало что осталось от былой добропорядочности. Коренная петербургская жительница, бабка Аделаида попала в этот город благодаря замужеству. Ее первый супруг – родной дед Жени – был, как раньше определялось, землеустроителем. Он погиб в результате несчастного случая в обвале заброшенной шахты. Бабка вышла замуж вторично за директора школы. От этого брака и родилась тетка Кира, прямая противоположность тихой и печальной своей старшей сестре, матери Жени.
Вот еще с кем пришлось бы знакомить Чемоданову, с теткой Кирой и всеми ее приятелями.
Колесников боком взглянул на Чемоданову. В глазах его томилась вина.
2У Нины Чемодановой была своя манера работы с описью. Она накладывала широкую гладкую линейку и, медленно приспуская ее, внимательно вчитывалась в содержание. При этом она слегка шевелила губами, становясь похожей на школьницу.
Запрос шведского подданного Янссона оказался не таким уж простым. В той части дел Петербургского физиката, что осели в архиве после войны, следов аптекарской деятельности Зотова не выявлялось. Возможно, они прошли по линии Министерства внутренних дел, в ведении которого был Медицинский департамент. Если так, то не исключено, что документы находятся на специальном хранении, как и многое, что относилось к Министерству внутренних дел. А это весьма осложняло поиск. В спецхран, да еще с запросом от иностранца, вряд ли можно будет получить разрешение. Тем более от Мирошука, который при малейшем намеке на необходимость обращения к спецхрану покрывался нервными пятнами. Он укрепил стальные двери кладовой, где размещался спецхран, литой решеткой с пудовым замком. Сургучные печати в местах сочленения решеток внушали робость всякому, проходящему мимо.
Пока Чемоданова не станет огорчать этого шведского русского. Надо посоветоваться с Гальпериным или с Софьей Кондратьевной, может, они что-нибудь подскажут.
Чемоданова оставила опись и направилась в читальный зал.
В полукруглом тамбуре перед входом в читалку, прозванном будуаром, за столом, отгороженным шкафами, куталась в платок заведующая отделом использования Анастасия Шереметьева. Рядом на треножном табурете бочком сидел пожилой мужчина, а вглядеться – молодцеватый старичок с пухлыми розовыми щечками здоровяка, значительную часть жизни проводящего на свежем воздухе. Это был известный в архиве краевед Александр Емельянович Забелин. Пришел он в архив лет десять назад с ходатайством от городского Общества юных следопытов, в котором состоял общественным инструктором. Он предложил пионерам воссоздать макет старой части города, как она выглядела лет сто назад… Ребятам понравилась забава, но вскоре они остыли и перенесли свой пыл на поиски безымянных солдатских курганов. А Забелин увлекся. Раскопал множество документов, рисунков и даже фотографий строений, на месте которых сейчас раскинулась гостиница «Витязь». Аляповатый, в гипсовых колоннах колхозный рынок и вечно закрытый плавательный бассейн педагогического института… А что же было? А было… Здание Дворянского собрания – двухэтажный особняк в стиле барокко с причудливыми, точно случайно слетевшими с небес, завитушками и украшениями. Земская управа. Три церкви, одна из которых, по-задуманному, замахивалась на собор, но строительство почему-то не завершилось. Богатый купеческий дом. Опекунский совет. Городская палата суда и расправы. И маленький аккуратный домик родовспомогательного заведения.
Весь этот комплекс Забелин собрал в общем плане. Нашел художника, такого же энтузиаста, как и сам. Художник все тщательным образом прорисовал. Даже деревья пером обозначил – тоненькие, морозные, живые. Словом, работа была проведена большая. И, по отзыву городского архитектурного управления, «ценнейшая и научно обоснованная». Александру Емельяновичу отвалили премию и вручили грамоту исполкома. А главное – он стал чувствовать себя в архиве уютней. Теперь уже не дрожал осиновым листом при виде желчной фигуры Мирошука. Наоборот, расплывался любезной улыбкой и снисходительно здоровался с видом уверенного в себе человека… И вдруг Александра Емельяновича «повело» на восстановление доброго имени мещанина Никиты Горлова, собирателя живописи, мельника по профессии и просветителя по натуре.
Забелин сидел подле Шереметьевой, терпеливо выжидая, когда та просмотрит опись. То ли по его заявке, то ли по заявке профессора из Куйбышева, что томился в стороне и также ласково поглядывал на Шереметьеву.
При виде Чемодановой старичок соскочил с табурета и прижал ладони к груди.
– Вот-вот, – проворчала Шереметьева. – Как искать документ, ко мне. А грибы на меду, так Нине Васильевне.
Забелин зарделся, что-то пробормотал в оправдание.
– Молчите, коварный! Важны поступки, а не слова, – с непонятной интонацией закончила Шереметьева. – Что, Нина? Ко мне?
– Посоветоваться надо бы, – ответила Чемоданова.
Выслушав, Шереметьева выразила сомнение в наличии нужных документов, наверняка они вернулись в Ленинград, а иностранца просто-напросто отфутболили. Конечно, такой вариант не исключался… «Надо было ему из своего Стокгольма заказать микрофильм, – громко высказала соображение Шереметьева, – и не мотаться сюда, отрывать людей от работы».
Профессор из Куйбышева чертыхнулся.
– Смешно даже, – произнес профессор. – Какой там микрофильм? Я обычную ксерокопию жду из Москвы шестой год. Был бы еще материал современный, чтобы сослаться на какую-нибудь секретность. А то – торговая политика России восемнадцатого века…
– Торговая политика – самый секретный материал, – вставил Забелин.
– Это наша, да… А царская?
– Тем более царская, – не унимался Забелин. – Хорошенькое дело – показать, чем тогда торговали. Самая что ни есть антисоветчина.
– Только что так, – понуро согласился профессор. – Тоже захотели, микрофильм…
– Одно дело вам… А то – иностранец, – продолжил старик Забелин. – Мы всегда перед иностранцами робеем.
– Ну, не очень-то и робеем, – возразил профессор. – Впрочем, иностранец иностранцу рознь. Смотря из какого лагеря.
– Шведы еще в цене, – согласился Забелин. – Еще не подобрались.
Шереметьева со значением проскрипела стулом.
– Мне вот приятель рассказывал, – профессор понизил голос, полностью умолкнуть не было никаких сил. – Он работал в библиотеке конгресса США. Так туда может прийти каждый. Хоть иностранец, хоть свой. Никаких удостоверений личности. Заполни крохотную анкету – и за считаные минуты материал перед вами. Никаких открытых-закрытых фондов, никаких спецхранов. Он заказал там «Правду» за семнадцатый год. Поди возьми у нас… А что касается ксерокопий, то он их понаделал сколько хотел. И без всяких проблем…
– Пожалуйста! Пускай таких за границу, – проворчала Шереметьева.
– А что?! – ревниво подтянулся профессор. – Обидно ведь. По архивному делу плетемся чуть ли не в каменном веке. Не говоря уж о техническом уровне. Кругом запреты, заслоны. От кого? От себя.
Старик Забелин сочувственно улыбнулся румяным лицом. Синие глазки сияли живыми фиалками.
– Собственный хвост ловим, – поддакнул он.
– Именно.
– Критикуют, заговорщики, – вздохнула Шереметьева. – Хотела бы я взглянуть, как обстоят дела в вашем институте в Куйбышеве.
– Ну, знаете, – взбрыкнулся профессор. – Запрещенный прием. Да, много всяких безобразий и у нас.
– Вот! И помолчите, – прервала Шереметьева, – пока я вашу опись просматриваю. Не ровен час, пропущу нужную информацию, – и перевела взгляд на Чемоданову. – Ты куда?
– Иду к своему Янссону.
– Не огорчай его, – сказала Шереметьева. – Посоветуйся с Гальпериным. Мало ли? Вдруг что и подскажет. Или Брусницын. Пусть копнет в каталоге, кто знает.
Чемоданова направилась в зал.
– Описи, – все не успокаивался профессор. – Ваши описи! За столько лет Главархив не может издать фундаментальный справочник по своим собственным материалам. А те же американцы составили почти полный список наших ведомственных печатных изданий. Вдуматься только. Они издают наш материал, а мы не можем даже его перевести на русский язык и издать у нас… Да разогнать надо Главархив.
– А здание передать детскому саду, – поддакнул Забелин. – Я видел их помещение – дворец.
– Есть люди, которым все не так, – вспыхнула Шереметьева. – Ну и отправились бы туда, за океан. Кто вас держит. Верно, Александр Емельянович?
Забелин кроликом взглянул на профессора, виновато пожал плечами и что-то промямлил.
Чемоданова улыбнулась профессору и вышла в читальный зал.
Посетителей сегодня было мало, человек пять. Сидели они в разных концах просторной комнаты, прильнув к допотопным проекционным установкам.
Янссон занимал стол рядом с входной дверью. Включенная лампа светила в его строгое капитанское лицо. Он листал записную книжку. Чемодановой нравился такой тип мужчины. В нем была неторопливая уверенность, которая отличала людей, прочно стоящих на земле, не особенно отягощенных комплексами. Ей по горло хватало своих комплексов.
– Что, господин Янссон, притомились? – шепотом произнесла Чемоданова.
Янссон поднялся. Он выглядел совсем молодым человеком в строгом блайзере при бордовом галстуке. Гораздо моложе, чем тогда, в первое появление в отделе исследования.
– Здесь так тихо, я подумал, что уже умер, – улыбнулся Янссон.
– У нас есть места, где еще тише, – ответила улыбкой Чемоданова и предложила выйти из зала.
Ступая следом за Янссоном, она видела его красиво подстриженный затылок, аккуратные маленькие уши с забавными острыми концами верхних дуг ушных раковин. Плотная ткань блайзера прятала прямую спину. Воздух доносил неназойливый и ласковый запах духов.
Чемоданова не впервые работала с иностранцами. С некоторыми у нее складывались дружеские отношения, и даже более чем. Слухи о чрезмерной легкости поведения Чемодановой, что роились в архиве, часто не имели основания, однако она не пыталась их опровергнуть. И при любом скользком разговоре строила лукавую физиономию. Молва сгущалась. Некоторые архивные дамы страдали от зависти аллергией, мужчины томились в своих тайных снах. Так что работа с иноземными исследователями придавала Нине Чемодановой особую тайну.
В дверях Янссон задержался и галантно пропустил вперед Чемоданову.
В «будуаре» картина не изменилась. Все оставались на своих местах. Лишь профессор из Куйбышева как-то сник, преданно глядя на Шереметьеву. Анастасия Алексеевна восседала с капризно приспущенными уголками губ на холодном лице, готовая на все ответить нет.
То ли от старых и обшарпанных монастырских стен, то ли от внешней убогости двух пожилых посетителей, облаченных в старомодные, несвежие костюмы и беспомощных перед волей Анастасии, то ли от сурового облика самой Шереметьевой, кутавшейся в блеклый, со скатанными коконами пуха платок, только Чемодановой вдруг стало неловко перед моложавым иностранцем. Вместе с тем ей хотелось как-то заслонить эту провинциальную и такую милую сердцу обстановку.
– Вот! Наш известный краевед. Знаменитость. Забелин Александр Емельянович, – с веселой дерзостью произнесла Чемоданова.
Представление прозвучало неожиданно. Старик Забелин поднялся с треножника и растерянно улыбнулся.
– Приятно. Спасибо, – обескураженно отозвался Янссон.
Шереметьева недовольно фыркнула. Однако кончики ее губ поползли вверх, придавая лицу добродушное выражение. Чемоданова отметила перемену в облике начальницы. «А сейчас платок откинет, танкистка», – весело подумала она. И, словно отвечая веселым ее мыслям, Шереметьева сбросила сиротский платок, показывая миру белую прелестную шею и глубокую манящую впадину над пышной грудью.
– Да, это наша достопримечательность, – вставила Шереметьева, ласково глядя на зардевшегося старика.
Забелин пытливо метнул на Янссона фиалковый взгляд. Никак высокое начальство, иначе с чего бы так проняло эту грымзу Шереметьеву, еще грибочками на меду попрекает.
– Наш гость. Из Швеции, – все не унималась Чемоданова. – Только он русский.
Янссон пожал руку старичку-краеведу, затем профессору из Куйбышева. Тот ухватил на лету длинные сухие пальцы и принялся их трясти, настороженно поглядывая на Шереметьеву, не разгневать бы.
– Неужели из Швеции? – удивлялся профессор. – Из Стокгольма?
– Из Упсала, – вежливо улыбнулся Янссон, – город такой. Маленький.
– Знаю, знаю, – отвечал профессор. – Университет. Собор трех святых.
– Да. Эрика, Ларса и Улофа, – Янссон удивился. – Вы там были?
– Был. С делегацией, – пояснил профессор, продолжая сжимать пальцы гостя. – Помню над фронтоном университетского зала любопытную надпись. Мыслить правильно – великое дело, а мыслить свободно… Вроде бы еще более великое. Кажется, так.
– У вас хорошая память, – поморщился Янссон.
– Да отпустите вы, наконец, человека, – проговорила Шереметьева.
Профессор покраснел, извинился. Он был простодушный и наивный чудак, поэтому частенько попадал впросак.
Чемоданова засмеялась. И тут она увидела Женьку Колесникова. Он вместе с новым подсобным рабочим загружал тележку.
Чемоданова вспомнила, что за ней числилось десятка два документов, подлежащих возврату. Надо их вернуть, пока Тимофеева не подняла шум, у Софочки учет поставлен на высоте.
Чемоданова оставила Янссона и направилась к стеллажам.
– А как наш приятель оказался в заморских краях? – допытывался старик-краевед, ласково глядя на гостя.
– Судьба, – охотно отозвался Янссон. – Мой дедушка имел аптечное дело в Петербурге. А в шестнадцатом году уехал в Швецию.
– От революции спасался? – любопытствовал Забелин.
– Почему? – пожал плечами Янссон. – Дела, наследство. Это очень хорошо, – подбирал он слова. – Извините… Я все понимаю, а говорю…
– Вы отлично говорите, – поддержала Шереметьева. – Александр Емельянович… какой вы настырный. Прямо отдел кадров.
– Нет, нет, – воскликнул Янссон. – Понимаю. Интересно. Мне тоже интересно. Я же русский.
– И у вас никого не осталось в России? – робко спросил профессор.
– Возможно, – Янссон пригладил ладонью волосы на затылке, – у дедушки была сестра, тетушка Аделаида. Она жила в Петербурге, имела свое дело. Конфекцион, кажется… Писала письма… У вас не очень хорошо относились, когда писали письма иностранцы, мы это знали. Дедушка искал ее через Красный Крест… Но не нашел.
– Аделаида… Мою соседку зовут Аделаида, – участливо произнес старик Забелин. – Только ей лет пятьдесят, не больше, – его добрая душа бездумным порывом метнулась навстречу заботам малознакомого человека.
Янссон улыбнулся. Этот порыв тронул его своей бескорыстной добротой. Он доверчиво провел ладонью по руке Александра Емельяновича и оглянулся – куда подевалась его покровительница? И долго ли ему так стоять…
– Я сейчас, господин Янссон, – ответила Чемоданова. Она сгребла с полки несколько папок и, шагнув к тележке, передала их подсобнику. «Странный тип», – подумала Чемоданова, касаясь холодных пальцев подсобного рабочего Хомякова Ефима Степановича.
– Женя! – окликнула она Колесникова. – Здесь будешь регистрировать? Или отвезешь в свою берлогу?
Колесников неопределенно кивнул. Он выглядел сейчас испуганным и бледным.
– Евгений Федорович! – Чемоданова вытянула шею и приблизила к нему лицо. – Что с тобой?
Колесников коротко тряхнул головой, прогоняя наваждение. Прозрачные его глаза потемнели.
– Что с тобой? – повторила Чемоданова.
Колесников взял ее под локоть и довольно бесцеремонно потянул в сторону, в щель между двумя громоздкими шкафами.
– Нина, – произнес он горячим шепотом. – Я очень тебя прошу… Узнай у этого человека.
Чемоданова повела глазами в сторону Янссона.
– Да, да… Пожалуйста. Был ли у него в роду… старик… Не знаю, как объяснить. Давно, еще до революции… Дед или прадед, я сейчас не соображу. Генерал от инфантерии… Захороненный в Александро-Невской лавре… Только не сейчас спроси, потом, при случае.
Чемоданова смотрела на Колесникова серьезным взглядом.
– Почему бы тебе самому не спросить?
– Что ты! – На лбу Колесникова даже выступила испарина. – Нет, нет. Только не я… Прошу тебя, Нина. Хорошо? – И, не дожидаясь ответа, он вышел из «будуара», оставив подсобного рабочего Ефима Хомякова в некотором смятении.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































