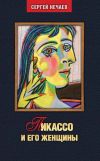Текст книги "Воспоминания. Траектория судьбы"

Автор книги: Ирина Антонова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Самая заветная мечта
Я, увы, поздно поняла, что хочу заниматься искусствоведением. С самого детства моей заветной мечтой было стать балериной. Я даже с мамой об этом поговорила. Но она сразу довольно жестко оценила мои возможности: «Ира, у тебя не те ноги, не то сложение. Какая из тебя балерина?» И хотя мама меня в моей мечте не поддержала, я все равно очень хотела танцевать, как те прекрасные видения на сцене Большого. И я даже позволяла себе некоторые недостойные девушки жесты – вставала перед окном в определенную позу, делала танцевальные движения, высоко поднимала ногу в расчете на то, что через весь двор кто-то на меня все-таки смотрит. И этот кто-то может заметить, что я умею танцевать… Вот такая слабость.
А еще у меня была самая заветная и тайная мечта – танцевать на лошади в цирке. Я, конечно, обожала балет, но про свои данные все уже поняла. Не получится из меня балерины – ладно. Но тогда, может, получится цирковая наездница? Не та, что просто скачет на лошади по кругу и выполняет всякие акробатические трюки, а та, которая танцует, стоя на спине у скачущей лошади! Мне почему-то казалось, что там – в цирке – не надо так хорошо танцевать, как в Большом. А танцевать так, чтобы работать в цирке, который я обожала (любимейший жанр до сих пор), у меня точно получится. И когда я смотрела цирковые представления, то все время думала: танцевать на лошади – это потрясающе, да и площадка, которую кладут на круп лошади, достаточно широкая, чтобы можно было удержаться в танце, это не составит для меня проблемы.
Став старше, когда я окончательно поняла, что великой балерины из меня не получится, я вознамерилась стать актрисой. Выучив несколько монологов, я пришла к своей приятельнице Наташе Саакянц. Она была немного старше меня и уже носила вожделенное звание актрисы. Сразу с порога я решительно выпалила: «Наташа, мне очень хочется быть актрисой, но, наверное, у меня нет таланта. Ты же актриса, а значит, сможешь понять с первых двух строчек, которые я тебе прочту, могу я стать артисткой или нет. Но только ты должна набраться духу и сказать мне всю правду, потому что мне надо ее знать». И я ей почитала кое-что из Лермонтова и отрывок из «Анны Карениной» Толстого, тот самый, где она погибает. Когда я после выступления посмотрела на приятельницу, то все сразу поняла по выражению ее лица. И, не дожидаясь ответа, спросила: «Наташа, не надо мне в актрисы?» Она ответила: «Ира, не надо». И этим дело кончилось. Я ей абсолютно бесповоротно поверила.
Тогда я решила пойти на мехмат. Почему? А потому, что мальчик, который мне тогда нравился в школе, был математической звездой. Хотелось быть поближе к нему. Да и у меня математика шла хорошо. Я даже немного занималась репетиторством и так зарабатывала небольшие деньги. Какая разница, чем заниматься, если артисткой я быть не могу и балериной тоже. В крайнем случае стану учителем.
А в это время у меня была приятельница – Флора Сыркина, дочь известного в то время ученого-химика, академика Якова Сыркина. Она была старше меня на два года, но почему-то мы с ней симпатизировали друг другу в школе и подружились. Потом она стала женой художника Тышлера. А в ту пору Флора училась на искусствоведа. Однажды она спросила меня, куда я буду поступать. Я ответила, что собираюсь на мехмат. Она посмотрела на меня с изумлением: «Почему на мехмат? Ты не вылезаешь из театров, из концертных залов и идешь на мехмат… Ты чего? Давай к нам в ИФЛИ!» Я спрашиваю: «А что такое ИФЛИ?» Она говорит: «Институт, где я учусь. Не надо тебе на мехмат ни в коем случае! Приходи к нам, у нас так интересно! В апреле будет день открытых дверей, вот и приходи, сама все увидишь».
ИФЛИ
Так Флора привела меня в ИФЛИ на день открытых дверей искусствоведческого отделения. Выступали профессора, преподаватели, рассказывали, чем придется заниматься после окончания факультета, что такое описание и анализ памятника искусства, что это целая наука, что существует специальная дисциплина, которая это все изучает, и что именно здесь – в их институте и на этом факультете – всему этому учатся. Теперь я понимаю, что в ту пору, конечно же, я на самом деле не знала ничего, мне нравились самые банальные картины: «Аленушка», «Три богатыря», какие-то портреты. Я плохо разбиралась в изобразительном искусстве. Да и отношение к нему у меня было несерьезное. Я даже как профессию все это не воспринимала, но как-то поверила тому, что услышала. И решение поступать на искусствоведческий факультет приняла очень легкомысленно. Я бы не сказала, что это было мое призвание, какое-то глубокое увлечение, безумный интерес. Все говорило о том, что мне стоило учиться на театрального критика. Театр – это другое… Я обожала его с самого детства. Помню, что отец, который абсолютно ни во что не вмешивался, сказал как-то раз: «Почему ты в ГИТИС не идешь, на театроведческий? Ведь ты любишь театр». Я попыталась ответить, но внезапно запнулась. Я действительно страстно любила театр. Это была моя жизнь. И я знала о существовании театроведческого факультета, но мне почему-то совсем не приходило в голову туда поступать. Меня останавливало какое-то внутреннее ощущение. А Флора меня соблазнила тем, о чем я знала понаслышке, не испытывая сильной тяги к предмету. Посмотреть на хорошую картину – почему бы и нет? Но не более того.
Так я пошла в ИФЛИ. У меня не было отличного аттестата, но экзамены я сдала хорошо. Кстати, конкурс был серьезный – двадцать пять человек на место. Об этом даже писали газеты. В одной из статей говорилось, что в некоторых институтах, например в ИФЛИ, создался нездоровый ажиотаж. Двадцать пять человек, по большому счету, не такой уж большой конкурс, но, видимо, некоторые товарищи считали, что стране рабочих и крестьян совершенно не требуется столько искусствоведов.
А институт, надо сказать, был просто потрясающий. Хотя и просуществовал он всего семь лет. Потом его присоединили к университету: вместе со всеми профессорами и преподавателями передали на искусствоведческое отделение МГУ. Там, увы, атмосфера уже немного изменилась.
Теперь-то я понимаю, как мне в жизни повезло, что я там оказалась. В ИФЛИ были замечательные преподаватели. Училась я у очень интересных людей. Нам преподавал знаменитый искусствовед Михаил Владимирович Алпатов, Виктор Никитич Лазарев – блестящий специалист по древнерусскому искусству, по искусству Древней Византии и эпохи Возрождения, крупнейший историк искусства Борис Робертович Виппер. На поэтических вечерах Алпатов и поэт Семен Гудзенко выступали с чтением своих стихов. Мне это очень нравилось, потому что я любила поэзию. Я не жалела о своем выборе ни минуты. Отлично помню свою первую работу. От меня требовалось описание и анализ памятника искусства, любой интересной мне картины. Я описала портрет артистки Ермоловой кисти Серова – и не потому, что знала и понимала творчество Серова, а потому, что Ермолова была звездой Малого театра, величайшей драматической актрисой. Станиславский так о ней и написал: «Это целая эпоха для русского театра». А я все это знала, потому что много и страстно читала про театр. И портрет мне очень нравился. Этот знаменитый портрет, который сейчас висит в Третьяковской галерее, на котором Ермолова изображена в полный рост, тогда висел в Малом театре, где я его и увидела впервые. Только в 1949 году Малый театр отдал его Третьяковке.
А в 60-е годы произошел аналогичный эпизод со скульптурой Родена. И в нем я принимала непосредственное участие. Звонит мне однажды Михаил Иванович Царев и говорит: «Ирина Александровна, у нас в Малом есть скульптура Родена – бюст Виктора Гюго. Вы не хотели бы иметь его у себя в музее?» Не хотела бы?! Еще как хотела. И они, на нашу радость и счастье, этот скульптурный портрет Гюго просто щедро нам отдали. Видимо, в театре решили передать в музеи то, что имело большую художественную ценность, потому что не могли обеспечить этим произведениям искусства надежную охрану и условия хранения.
Годы войны
А потом произошло то, что поделило всю жизнь нашего поколения, да и всех советских людей, на «до» и «после». Началась Великая Отечественная война. Я хорошо помню начало войны. Я только окончила первый курс института. Счастливейшее время! У меня были пятерки по всем предметам, и я даже стала сталинским стипендиатом. А сталинская стипендия – большие деньги, которые были хорошим подспорьем семье. Я хорошо помню, что, сдав экзамен «Древний Восток. Древний Египет», мы, студенты, собрались большой компанией и пошли смотреть фильм «Наш двор». Помню, что это была комедия с участим знаменитого клоуна Карандаша. И в приподнятых чувствах, в радости от того, что год учебы уже позади, что все сдано успешно, что впереди долгое и прекрасное лето, что фильм такой смешной и веселый, а Карандаш талантливый, я пришла домой и легла спать. А наутро началась война.
В тот день мы всей семьей проснулись поздно. Обычно целый день на кухне было включено радио, что-то постоянно вещало… А тут мы радио не включили, хотели выспаться. У нас тогда жила одна наша студентка из Сухуми, за какие-то копейки снимала угол. У нее было красивое и необычное имя – Фреда. Кстати, было у нее и свое пианино. На нем играли и Фреда, и мама. Мы только собрались завтракать, как прозвенел звонок. Я уже не помню, кто из нас подошел к телефону, а там знакомые: «Ну как вы?..» А мы: «Да вот, сейчас чай будем пить…» А в ответ: «Вы что, не знаете? Началась война!» Вот так, по телефону, я узнала про начало войны.
Сейчас, через столько лет, трудно выразить словами, что я тогда испытала. Помню, что мама очень испугалась и выбежала на балкон: ей показалось, что уже летят самолеты, чтобы нас бомбить. А я, по-моему, почувствовала внутренний душевный подъем: настало время творить Историю! Не изучать исторические события, а самой стать их участником. И такая реакция была не только у меня: чувство подъема испытывали и многие другие люди. И они – эти люди – сразу кинулись во всякого рода учреждения просить, чтобы их взяли на фронт воевать, защищать Родину. А наша постоялица Фреда сразу решила уехать к отцу в Сухуми. Она и до этого собиралась уехать, даже билеты были куплены. Но перед ее отъездом мы решили заехать в институт, чтобы разобраться, что с нами будет. Мы побежали в ИФЛИ, где нам сказали, что еще ничего не известно, но ИФЛИ точно не закроют, а куда-то переведут. Тогда я спросила: «Может, нас возьмут на какие-то курсы? Медсестер?» – «А куда вы хотите? Винтовку на плечо и на передовую? Кому вы там нужны, вы же ничего не умеете! Не смешите нас, девочки!» Так мы и ушли из института ни с чем. Но позже выяснилось, что нас все-таки как-то собираются задействовать, и через несколько дней нас всех отправили на завод в Сокольниках, где мы грузили какие-то ящики. Не знаю, что это было – бомбы, оружие, детали? Ящики были закрыты. Мы, девчонки, работали там несколько месяцев, хотя такая работа была совсем не по нашим силам. Но об этом никто не думал. Трудились для фронта, для победы, надрывали животы.
А потом, когда началась всеобщая эвакуация, мы с мамой уехали. Это случилось 16 октября, когда немцы уже стояли под Москвой. Еще в самом начале октября я опять пришла в институт, где мне сказали: «Уезжайте. ИФЛИ уезжает на Урал, вы тоже можете взять маму и поехать».
Но тогда я никуда ехать не хотела. Хотела остаться в Москве. И с этим решением я и вернулась домой. Пришла, а мама сидит на ступеньках парадного и плачет. Оказалось, что ее обязали уехать с министерством в Куйбышев, а меня в списках нет. И что делать в таком случае – неизвестно. Я сказала маме, что меня это совсем не беспокоит, что она должна уехать одна, а я останусь в Москве. После чего, естественно, произошла драматическая сцена. Мама начала меня уговаривать: «Отца призвали в армию, ты со мной не едешь… Хочешь, чтобы я умерла?..» И я сломалась. Подумала: «Что же, поедем, посмотрим. В Куйбышеве тоже есть жизнь». На следующий день мы с ней вместе сели в поезд. Перед тем как уйти из квартиры и закрыть за собой двери – возможно, что навсегда, мы вышли на балкон и увидели на Покровском бульваре танки. Я никогда до этого не видела такого количества танков. Они стояли на бульваре, прямо на газоне, а не на мостовой. Деревья, немного травы… и танки.
А в середине января мы вернулись, потому что Наркомат путей сообщения, в котором мама работала, частично вернулся на работу в столицу. Наркомат тогда располагался на Садовой, недалеко от Трех вокзалов, руководил им Лазарь Каганович. И маму вызвали в Москву из эвакуации как ценного работника. Она была хорошим и очень грамотным секретарем.
А с моим возвращением была целая история, потому что меня не хотели отправлять вместе с мамой. Для возвращения нужны были специальные вызовы, а меня никто не вызывал, потому что университет еще не открылся. Мне сказали: «Мама ваша поедет в Москву. Она там нужна. А вы еще побудете в Куйбышеве».
Нужно сказать, что жили мы прямо на станции в вагоне поезда, в котором приехали. В нем мы провели всю зиму: ноябрь, декабрь, половину января. Спали на полках в купе, обедали в какой-то столовой, умывались прямо на станции ледяной водой. Несколько раз ходили в баню в городе. Очень суровая была жизнь. Мне объяснили, что меня никто не выгоняет, так что я могу и дальше жить в этом вагоне. Но мама была тверда и сказала, что без меня не уедет.
Задолго до отправления меня завели в поезд, который должен был отправляться в Москву, и положили на верхнюю полку. А потом заставили чемоданами. Так я и лежала очень долго. И только через несколько часов, когда поезд наконец тронулся и всех проверили, я смогла вылезти из своего убежища, куда, к нашему с мамой счастью, никто не додумался заглянуть. Вниз я спустилась уже поздней ночью. Так мы ехали трое суток. В вагоне уже знали, что моя мама везет дочку с собой и прячет ее наверху, сочувствовали нам, и никто нас не выдал. Незадолго до прибытия в Москву поезд притормозил на какой-то станции, и мама договорилась с каким-то шофером, что он подвезет меня в город. Я приехала в родной город даже раньше, чем мама, и, когда поезд прибыл на вокзал, я уже ждала ее на перроне. И мы пошли домой на Покровский бульвар пешком, таща на себе чемодан.
Когда мама взялась за ручку двери нашей квартиры, чтобы отпереть ее, дверь неожиданно открылась сама. Квартира стояла открытая, хотя перед отъездом мы ее заперли. Мы сразу подумали, что в квартире ничего не осталось, но вошли и увидели, что все вроде бы стоит на своих местах. И только через какое-то время мы обнаружили, что в доме нет коврика. Это был небольшой, но хороший коврик. Скромный, но симпатичный. Мы подумали, что, наверное, кому-то было холодно, он и взял коврик. Ну и бог с ним, главное, что человек согрелся. А чуть позже я обнаружила, что на полке не хватает одного тома Шекспира. И мне было его очень жаль! Перед войной я с трудом собирала это собрание сочинений по одному тому, копила деньги, которые мне давали мама и папа, и покупала том за томом в букинистических магазинах. Так постепенно у меня собралось все собрание сочинений любимого мной Шекспира. А теперь одного тома я лишилась! «Вообще странно… Человек хотел читать Шекспира, лежа на нашем коврике?» – совсем по-детски рассуждала я. А потом оказалось, что нет еще нескольких пластинок Тосканини. И я резонно заметила: «Надо же, мама, да он при этом еще и слушал Тосканини!»
Больше мы с мамой никаких пропаж не обнаружили и потом долго смеялись. Представляете, какой вор? Лежит на коврике, слушает Тосканини и читает пятый том Шекспира с «Отелло». У меня до сих пор нет этого пятого тома, хотя я долго и упорно ходила по магазинам и искала его. Вот такое ущербное у меня издание. Мне было и весело, и грустно одновременно.
Москву уже вовсю бомбили. И я, как и все, часто дежурила на крыше. Как ни странно, страха у меня не было, никакого. И это была не бравада, просто отсутствие страха. Мы не спускались в убежища, говорили себе: «В нас не попадет!» Не знаю, наверное, это была просто юношеская беспечность и ощущение, присущее молодости, что ты никогда не умрешь.
Буквально через два дня после нашего приезда в Москву ИФЛИ закрыли. А во второй половине января 1942 года открылся университет. Я пришла туда – и встретила там весь наш курс, тех, кто остался в Москве.
Вскоре нас – студенток – отправили на курсы медсестер, и сразу по их окончании мне предложили работать в госпитале на Красной Пресне. Я недавно туда съездила, хотела найти школу, где был этот госпиталь, чтобы взглянуть на нее еще раз.
Там было много ночной работы, в госпиталь раненых привозили прямо с фронта, молодых ребят, в основном летчиков, которых сбивали под Москвой. Они катапультировались и лежали, ожидая, пока их подберут. Их наскоро перевязывали, грузили и доставляли в госпиталь. Иногда на это уходило много времени. И когда их привозили, раны обычно уже загнивали. Если раненых можно было отправить в тыл, то их отправляли дальше. Если откладывать было нельзя и надо было сразу делать операцию, делали немедленно. Мне приходилось принимать участие в операциях, среди них были и операции с ампутацией. Первый такой опыт был страшным ударом по психике. Идет операция, и вдруг хирург мне говорит: «Что ты стоишь? Бери и неси!» Я думаю: «Что нести?..» Оказалось, что ногу, которую ампутировали, потому что уже началась гангрена. Я взяла эту ногу и отнесла куда требовалось. Это было мое первое потрясение. Эта одинокая нога… Мальчик – вот он, и его нога – совсем уже не его. Понимание, что у него уже никогда не будет этой ноги, перевернуло мое восприятие войны. Не смерть, а именно эта отрезанная нога, которой никогда уже не доведется ходить по земле.
Еще запомнилось, что после операции солдаты часто просили: «Сестра, отгони муху!» А никаких мух и не было. Это после операции у раненого зудит нога, а ему кажется, что пролетает муха. Делаешь вид, что отгоняешь. Поговоришь с ними: «А у тебя девушка есть? А может, написать письмо?» – «Нет, сейчас не надо, потом…» Они быстро менялись, эти раненые. Как только становилось ясно, что все благополучно, их отправляли в тыл. Наш госпиталь был эдаким перевалочным пунктом. Здесь оставляли только тех, кого нельзя было не оставить. Придешь в госпиталь – а их уже нет, отправили ближайшим транспортом туда, где не бомбят. Это были короткие встречи: сначала видишь их на операции, потом – когда они приходят в себя, а потом приходишь – их уже нет, увезли.
Вскоре меня перевели в другой госпиталь, на Бауманской, где лежали в основном выздоравливающие. Тут был другой контингент, в основном младший офицерский состав. Кое-кто мне запомнился. Помню надменного офицера, которому мне надо было ставить клизму. Мы ведь были одновременно и медсестрами (диплом медсестры у меня есть до сих пор), и нянечками – нужно было делать все. Говорю этому надменному, что надо делать клизму, а он: «Зачем так низко наклоняешься? Не наклоняйся так!» Мне так неудобно, потому что я маленькая, руки короткие, мне надо наклоняться, но я выпрямляюсь.
В этом госпитале больные менялись не так часто. И уже складывались какие-то отношения. Мне тогда казалось, что они совсем взрослые мужчины, а ведь им всем было лет по тридцать, если не меньше.
Помню, как в Москву приезжал Аркадий Райкин, и я сходила на спектакль – он выступал недалеко от госпиталя. Потом пришла в палату и говорю: «Я была на спектакле Райкина, хотите, расскажу?» Помню, как они смеялись.
Для меня тогда была очень напряженная жизнь. Надо было ехать в госпиталь, потом бежать в университет (я не могла отказаться от образования). В ночное дежурство спать не приходилось вовсе. Еле глаза протираешь – и идешь на занятия. И так день за днем.
Но случались и в нашей жизни праздники. Один из них прекрасно помню. Это незабываемый концерт 1942 года в Колонном зале Дома союзов – премьерное исполнение Седьмой симфонии Шостаковича под управлением дирижера Большого театра Самуила Самосуда. Мы с приятельницей Ириной Даниловой сидели в партере, недалеко от сцены. Незадолго до окончания я увидела, что в зале появился человек в военной форме, и поняла, что в городе тревога. Но он дал оркестру доиграть. Потом раздались аплодисменты. И тогда он вышел и сказал: «Товарищи, в городе объявлена тревога, просим всех спуститься в метро». Метро было рядом, но я сказала Ирине: «Я же недалеко живу, на Покровском бульваре, давай туда!» И мы с Ириной побежали. Рядом с домом нас все-таки схватили и отвели в убежище. Вскоре тревога кончилась, и мы пришли домой.
А вот еще одна «картинка» из военного времени. Мы с мамой ехали куда-то из Москвы в общем вагоне поезда – я сейчас не могу вспомнить, что это была за поездка, но это не главное. Рядом с нами сидела беременная женщина на порядочном сроке, молодая и симпатичная. Мы только отъехали от Москвы, как вдруг раздалась тревога и нам объявили, что надо выйти из вагонов и залечь в перелеске. Все выскочили, а эта беременная женщина не смогла – спуск из вагона был крутой. Она очень испугалась. Я ей и говорю: «Вы успокойтесь, я останусь с вами, посидим здесь… Не может быть, чтобы попало прямо в нас». Помню, она положила голову мне на колени, и так мы с ней и сидели, пока продолжалась тревога – минут двадцать. И вот что интересно: никакого страха у меня в тот момент не было. Мой муж потом говорил: «Идиотка ты порядочная!» Видимо, та женщина была такая же идиотка, не понимала всей опасности. Она быстро успокоилась, и мы с ней просто, как в мирное время при остановке поезда коротали время. Я гладила ее по голове и спрашивала, кого она ждет – мальчика или девочку. Потом все затихло, в громкоговоритель объявили, что всем следует вернуться в вагоны. Люди прибежали, вскарабкались на свои полки, и мы поехали дальше. Позже я иногда думала: хорошо бы найти эту девушку и узнать, кто у нее родился…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.